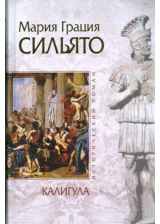
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
СЫН ГРАКХА
И НОВЫЙ CASTRUM PRAETORIUM
Как раз в это время появился в Риме и пересекал форум Августа один сорокалетний человек в скромной одежде, с лицом, обожжённым жарким солнцем. Никто его не узнавал. Но тем же утром римляне уже стали показывать на него друг другу: это был сын Семпрония Гракха, сметённого давним процессом против Юлии. Тогда шестнадцатилетний юноша последовал за своим отцом на остров Керкину.
Взволнованная Агриппина сказала:
– Когда моя мать была сослана, мы, я и мои братья, остались здесь, в этом доме, как теперь. И вдруг появился сын Гракха – он был тогда твоих лет, Гай, – и сказал: «Я пришёл спасти вас». И спокойно заявил: «Я отправляюсь на остров вместе с отцом». Был шум на весь Рим, и в тот же день был принят новый закон, запрещающий кому-либо сопровождать осуждённого в изгнание или место ссылки.
Ходя по Риму после долгого молчаливого отсутствия, этот человек, не узнаваемый с первого взгляда, вновь опасно оживлял память о том, как убили его отца.
– Я говорил с ним, – поведал Друз немногим оставшимся друзьям, – и он рассказал, как умер его отец. Неожиданно на остров прибыл чиновник, один из тех надёжных исполнителей преступлений, и с ним несколько подручных. Гракх сидел в одиночестве на скале у моря. Его сын, чтобы свести концы с концами, плёл ивовые корзины, как привык с семнадцати лет. Чиновник сказал Гракху, что Юлия умерла и в живых остался он один. Его сын отбросил корзину и прибежал, но чиновник уже читал приговор. Гракх попросил времени написать прощальное письмо жене Аллиарии, хранившей ему верность семнадцать лет. Потом обнял сына, поблагодарил за все проведённые с ним дни и подставил шею. «Тебе будет легко нанести удар, – сказал он чиновнику, – кости хорошо видны». И замолчал.
– Я знал об этом, – сказал Гай, – слышал рассказы в каструме.
Но Кремуций Корд, историк, с тревогой предсказал:
– Со стороны Гракха было неосмотрительно вернуться. Тиберий не потерпит, чтобы люди его видели.
– Стало быть, виновата жертва, а не злодей? – взорвался Друз.
Скромный и мягкий Кремуций не посмел сказать, что в своём упрямом историческом анализе временами чувствует, как умом проникает в тёмные замыслы Тиберия и чуть ли не предвидит его поступки. Со смиренным скептицизмом он считал, что всё написано в древней истории и достаточно лишь читать её с должным вниманием, потому что проходят века, но человеческое сердце рождается всегда одним и тем же.
Старый же Залевк, посмотрев на него, подумал, что подобное ясновидение лежит в основе многих знаменитых оракулов. Он нашёл в памяти одну древнюю фразу и процитировал: «Историк, читающий прошлое, иногда получает от богов привилегию видеть в нём тени будущего». Но не нашёл в своих старых книгах предостережения, что иногда за эту привилегию приходится платить дорогой ценой.
И действительно, слаженно действующая группа шпионов вскоре обвинила сына Гракха в помощи банде африканских мятежников, свирепствовавших на границе с Нумидией. Такое преступление каралось смертной казнью, а поскольку самым отвратительным результатом тирании является лишение людей гражданского мужества, сенаторы единогласно приняли казавшееся неизбежным решение.
– Мы потеряем и его, – сказала Агриппина и закуталась в свой неизменный шерстяной плащ, как некогда искала объятий Германика.
Пока они так разговаривали, в заполненный народом зал сената неожиданно ворвался человек, который, будучи проконсулом в Африке, как раз и разгромил вторгшихся из Нумидии мятежников. Пользуясь авторитетом победителя и эффектом неожиданности, проконсул разоблачил постыдную недостаточность улик против сына Гракха и отмёл их.
«Единственный в этом несчастном городе, кто сохранил мужество», – написал Друз.
В Риме распространились мятежные настроения, и сенаторы на этот раз больше испугались площади, чем императора. Обвиняемый был под шум толпы оправдан.
Тиберий с тихим бешенством обвинил Элия Сеяна, спасителя из пещеры Сперлонга, в расшатывании судебной процедуры, но тот быстро нашёлся и дал ему безжалостный совет, как усмирить волнения в безграничном Риме.
– Преторианцы плохо контролируют город, потому что рассеяны по нескольким районам. Их легко одолеть. Нужно собрать девять когорт в одну неприступную казарму.
Сконцентрированные таким образом под единым командованием когорты могли бы пресечь боевые и пропагандистские действия противника.
Казарма была молниеносно построена, и её назвали Castrum praetorium – крепость в городе. Она приобрела такую зловещую славу, что квартал сохранил это имя на двадцать веков. Когорты преторианских солдат превратились в грозную защиту от народных движений и в устрашение для инакомыслящих сенаторов. Элий Сеян, вполне логично, был назначен префектом.
– Держа таким образом город в кулаке, этот человек стал самым могущественным в империи, – со своим скорбным ясновидением шептал Кремуций Корд, и в его голосе слышалось, что эта мысль пугает его. – Но полагаю, этого ещё никто не понял.
КОНЕЦ КРЕМУЦИЯ КОРДА И ГАЯ СИАНЯ
«Никогда мы не думали, что увидим, как восход солнца внушает страх», – написал Друз.
От всякого звука чуть громче тишины садов приходилось вздрагивать, вторжения преторианцев и неожиданные аресты действительно случались на рассвете, и солнце приносило полицейские новости ночи.
В самом деле, только начался день, как появился Татий Сабин – тот, что сожалел о волнениях на триумфе Германика, – и в отчаянии объявил, что у него приказ начать процесс против Кремуция Корда, его любимого друга, кроткого историка, с которым они по-дружески спорили всю жизнь, прогуливаясь по портикам Форума.
Нерон спросил, какие преступления приписывают этому несчастному.
– Говорят, он посмел восхититься поступком Брута, когда тот убил Юлия Цезаря. Он написал, что Брут был последним римлянином. Его обвинители сказали, что похвала преступлению означает соучастие в нём.
Молодой Гай удалился, отчётливо говоря себе: «Этого не избежит никто из нас». Вспомнив, как близ Антиохии во время охоты лиса спаслась от собачьих зубов, укрывшись в кустах, он подумал: «Меня не убивают лишь потому, что, по их мнению, я не стою таких хлопот». Его ум больше не занимали юношеские мысли, и он сказал себе: «Я не сов бок». Вернувшись, он спросил:
– Где они, эти писания Кремуция?
– Тиберий приказал эдилам публично сжечь их, – в отчаянии ответил Сабин. – Тридцать пять лет работы! И Кремуций – вы знаете, такой робкий, он провёл всю свою жизнь среди книг – стоял перед Тиберием и знал, что надежды нет. Но всё же заговорил, хотя все в страхе молчали. Он сказал: «Все вы, наверное, знаете, что с тех пор, как убили Юлия Цезаря, прошло шестьдесят лет. Как же вы можете обвинять в этом меня, если я тогда ещё не родился?» Но Тиберий посмотрел на него молча («свирепым лицом», – напишет Тацит), и никто из шестисот сенаторов ничего не ответил. Историк понял, что пришла его смерть. «Я ни в чём не виновен, – сказал он, – и, не найдя вины в моих поступках, меня обвиняют в чужих». Тиберий ничего не ответил, зная, что его молчание может убивать, и отложил слушание, но не назначил определённой даты. Кремуций вернулся домой один, ни у кого не хватило мужества с ним заговорить. Все сворачивали в переулки, чтобы не здороваться с ним. Он запер дверь и закрыл ставни.
Стари а, видевший Германика ещё ребёнком, осторожно налил до краёв чаши вина. Все знали, не произнося этого вслух, что Кремуций разговаривает со смертью.
Он остался умирать, отказавшись от пищи. Такую смерть сознательно выбирали многие римляне – без крови, без насилия над собой, без риска нанести неверный удар. Не родившийся из мгновенной вспышки эмоций жест, а сознательный протест, длящийся день за днём. Раньше он рассказывал, что ему доводилось видеть схожие предсмертные мучения, и настоящие страдания имели место лишь в первые два-три дня, а потом – по крайней мере, так говорили – всё переходило в изнуряющие круги галлюцинаций, неодолимой усталости, холода, сновидений.
– Потому что, – пробормотал по-гречески Залевк, – душа приказывает телу, когда умирать.
А тело с прозрачной ясностью лица отдаёт себя смерти, со спокойствием отказывают члены, без потрясений наступает сон.
Мать Гая внимательно слушала, широко раскрыв большие глаза на исхудавшем лице.
– Тиберий тоже знает, что происходит в доме Кремуция Корда. Для этого он и отложил процесс.
Через несколько дней Друз смог написать в своём дневнике: «Сегодня утром его нашли мёртвым. Он оставил письмо, дабы быть уверенным, что его слова сохранятся, хотя его книгу и сожгли, так как те, кто придёт после нас, дадут всему истинную оценку. И он сказал, что главную память о себе оставит именно тем, что его приговорили».
Он повернулся к брату.
– Видел? В грозди наших друзей остались последние виноградины. Это мы сами.
Но Гай, как всегда молча, ушёл в сад. Он думал, что когда-нибудь сам попытается выпустить книгу об этой смерти. А тем временем в зал ворвался Нерон с криком:
– Арестован Гай Силий! Его судят сегодня!
Все окаменели, а он продолжал кричать:
– Нужно поднять восстание, сейчас же. Нас всех перережут, одного за другим.
Друз встал и приложил два пальца к губам. Крик Нерона перешёл в злобные рыдания.
– Это расплата за преданность нашему отцу.
Трибун Гай Силий, командовавший легионами на Рейне, был тем человеком, который показывал маленькому Гаю, как пользоваться кинжалом, первым поведал ему историю его семьи, подарил любимого коня по имени Инцитат.
Гай без предупреждения вышел из дому, таща за собой уже старого и совсем сдавшего Залевка. По дороге он сообщил греку, что хочет в последний момент воспользоваться возможностью повидаться с обвиняемым, пока его не потащили на сенатский суд.
Но вдоль дороги выстроились бесчисленные войска, и Гай бессильно наблюдал за беспокойным движением преторианцев и двумя стенами испуганной и молчаливой толпы. На мгновение среди прочих мелькнул обвиняемый, единственный с непокрытой головой, без знаков различия, но выделявшийся своим ростом и шедший с гордо поднятой головой. Конвой медленно продвигался вперёд, и взгляд трибуна Силия, скользнув над головами толпы, упал на Гая. Мальчику страстно хотелось, чтобы трибун узнал его. Так и случилось.
Гай отвернулся и уставился в землю. Он думал о былой безграничной власти своего отца – одним жестом он бросал в бой восемь легионов. И всё это ушло, как вода: теперь даже не пробиться через кордон преторианцев. Какой непоправимой ошибкой оказалось послушание Тиберию! Как, наверное, втайне смеялись над ним узурпатор и его мать! Гай сжал кулаки, ногти впились в ладонь.
Залевк молча следовал за ним, в его памяти больше не осталось цитат из древних историков и философов.
– Лучшие дни, что мы видели, прошли той зимой в каструме, – пробормотал он.
На следующий день Друз записал: «Силию в качестве обвинения приписали слова, что, если его легионы двинутся, Тиберий лишится власти. Обвинителем выступил консул Марк Варрон, самый подлый прихвостень Тиберия. Это было ужасно. Говорят, что Силий вошёл в зал в цепях. Он всегда был немногословным, и, пока Варрон обвинял его, он только с презрением смотрел на него и ничего не говорил. А в конце лишь сказал, что собственная честнейшая военная карьера ему противна».
Друз положил каламус. Глаза Гая остановились на этой последней строчке. В этот момент пришёл запыхавшийся грамматик Карон, наставник двух старших братьев, и объявил, что трибун Силий избежал унижения погибнуть от жестоких рук палача и сам покончил с собой. Одним аккуратным ударом с убийственной точностью. Он оставался в цепях, и неизвестно, кто тайно передал ему кинжал.
Гай молча ушёл в сад. Этот гордый самоубийца был первым, кто говорил с ним как со взрослым. Его душили воспоминания: точный удар сикой, пальцы на яремной вене. «Если больше не пульсирует, значит, жизнь ушла...» А сам он умолял: «Никто не хочет ничего мне рассказывать...» Сильный трибун сказал ему, внезапно обернувшись: «Будь осторожен, детёныш льва...» Гай перебирал воспоминания одно за другим, как они отложились во времени. Потом глубоко вздохнул и обнаружил, что никому не может довериться.
В библиотеке Друз снова взял каламус и дописал последние строчки: «Я пишу это, дабы все знали, что поскольку его уже не могли убить, то отомстили его жене Сосии, отправив её в изгнание только за то, что она была верной подругой нашей матери. И пусть все узнают также, что власть Тиберия испугалась одинокой женщины».
ТАЙНЫ КАПРИ
Тем временем император Тиберий – следуя собственному инстинкту и злым советам Элия Сеяна, преувеличивавшего опасности Рима, – почти не возвращался в столицу. Он останавливался то в Мизенах, то в Байе, то на Капри с немногими проверенными жизнью друзьями – с сенатором Кокцеем Нервой, бывшим к тому же выдающимся юристом, со всадником Куртием Аттиком, как и он, эллинистом и поклонником древней истории, с несколькими греческими литераторами. И, повсюду выбирая места исключительной красоты, но охраняемые и недоступные, он воздвигал резиденции по своему вкусу, надёжные, как каструм в варварских землях.
– Логова узурпатора, – говорила Агриппина, – тайники его страха.
Но Тиберия наполняли не только страхи и подозрения. Ещё в нём была ненависть к женщинам, непереносимость чужих голосов, смеха и разговоров. Он отказался от придворных церемоний, многолюдных толп, музыки, ярких цветных одежд, оживляющего присутствия женщин. И хранил свои глубокие раны в тайне, никому не признаваясь в них. Своё личное время император проводил в унизительном одиночестве. Жгучим ударом по его самолюбию был ужасающий провал в отношениях с Юлией. С невыносимым разочарованием Тиберий видел, как его молчаливая, незаменимая Випсания вновь налаживает семейную жизнь.
Друз написал: «Асиний Галл, пожилой, богатый и спокойный достойный человек, провинился лишь одним: он посмел жениться на Випсании – женщине, которую Тиберий подло бросил, дабы исполнить волю своей матери Новерки и жениться на Юлии. И вот Тиберий, захватив власть, увидел перед собой среди сенаторов человека, который мог похвалиться, что несколько лет спит с бывшей женой императора и пользуется взаимностью. – Сарказм Друза граничил с оскорблением. – Бедняге со своей слишком знаменитой супругой следовало бы удалиться в глухую провинцию, чтобы больше не показываться людям на глаза. Он же по недостатку сообразительности приветствовал Тиберия с почтением, возможно вызванным робостью, но тот принял это за насмешку. Вскоре против Асиния Галла было выдвинуто ложное обвинение: мятежные разговоры и подготовка заговора. Устроили отвратительный процесс, и бедняга был раздавлен. Его приговорили к пожизненному изгнанию, лишению сенаторского достоинства, запрету носить тогу и конфискации имущества».
Но месть не принесла покоя императору. После неуклонной заботы о государстве он находил отдых не в цирковых играх и кутежах, как другие знаменитые императоры, не во всё новых и более экзотичных любовных утехах, гладиаторских боях и конских бегах. Он погружался в чтение какого-нибудь кодекса или свитка, уединяясь с торжественными, искушёнными голосами древности. Его ум был иссушен: во время вынужденной ссылки на Родосе он не нашёл никого, кто бы проник в искусство халдейской магии. Император предпочитал отдалённым землям мифы отдалённых веков. Но в личной жизни любил, и всё больше по мере того, как возрастала его нетерпимость к женщинам, компании юношей, которых набирали в провинциях Азии и которых легко опьяняла его царственность, его власть и таинственное одиночество. При его дворе не было женщин.
«Элий Сеян понял, – писал Друз, – что, дабы предоставить Тиберию всё это, нужно обеспечить ему полную изоляцию от внешнего мира. И таким образом сам сделался правителем Рима».
Всё более Тиберий предпочитал скалистый остров Капри, возвышавшийся в своём недоступном морском одиночестве. На вершине острова раскинулась обширная императорская вилла, посвящённая величайшему из богов и вошедшая в историю как вилла Юпитера.
«Для кого-либо другого такая изоляция была бы невыносимой, но для него явилась лёгкой ценой безопасности и тайных удовольствий», – написал Друз.
С вершины чудесного острова Тиберий с твёрдой ясностью управлял империей посредством пунктуальных, еженедельно отправляемых гонцов; из всемирной шпионской сети, крепчавшей год от года благодаря стараниям и деньгам Сеяна, поступала прямая информация. Император общался с сенаторами с помощью письменных посланий, верных и точных указаний – часто для убедительности вручаемых самим Элием Сеяном, – которые прочитывались с подобострастным страхом.
«Шестидесятилетние отцы Республики повинуются, даже когда дело касается обвинений и смертной казни кого-нибудь из них самих, потому что Рим теперь физически находится в руках преторианских когорт».
Прошёл слух, что Тиберий вдали от Рима добился также неумолимой, полной и безжалостной разлуки со своей грозной матерью Новеркой. Все шептались, что после долгого преступного сообщничества по какой-то таинственной, но наверняка ужасной причине их отношения резко охладели.
«Утешительно знать, что и она тоже его ненавидит», – написал Друз.
Но никто не знал истинных причин этой ненависти.
– Надеюсь, – сказал Гай, – этот твой дневник прочтут через много-много лет.
Друз улыбнулся. Но их надежда была открытым окном в темноту.
ПРОРОЧЕСТВО
И когда Тиберий в очередной раз удалился на Капри, кто-то подбросил мудрёное пророчество, которое быстро распространилось по всему Риму. Друз написал: «Некоторые восточные астрологи прочли по положению планет, что Тиберий покинул Рим, чтобы никогда не возвращаться...»
Обуреваемые противоречивыми, но одинаково сильными чувствами, люди спрашивали, откуда взялось такое пророчество. Об этом же гадал и Гай, вспоминая магические рассказы старого египетского жреца в саисском храме.
«Они всё лето изучали небо, – записал Друз, – при помощи инструментов, принесённых халдейскими астрономами. И ясно прочли по звёздам, что Тиберий умрёт, когда попытается пуститься в обратный путь».
Тиберий же вместо этого схватил и тут же покарал всех распространителей слуха, до которых сумел добраться.
«Сегодня утром троих человек распяли на Эсквилинском холме за то, что в тавернах говорили, будто Тиберий умрёт, если вернётся в Рим».
Но слухи уже передавались тысячами уст. И Друз скептически заключил: «Жаль, в звёздах не нашлось более полезного пророчества насчёт власти Элия Сеяна, который запретил императору жить в Риме».
Под влиянием предрассудков, или страха, или того и другого вместе Тиберий и в самом деле ни разу не возвращался в Рим за все оставшиеся ему годы жизни. Ещё меньше хотел он увидеться со своей матерью. Как и большинство образованных римлян, он не был привержен никакой религии, но его рационализм странно дополнялся некой смутной идеей о непознаваемых астральных силах, безжалостно вершащих судьбы людей. Говорили, что огромное влияние на него имеет астролог Фрасилл, с которым они познакомились в изгнании на Родосе, и грек всегда был рядом, чтобы еженедельно давать подробные советы.
Тем временем Элий Сеян, назначенный префектом преторианских когорт, необратимо попал под чары величия власти. Он спускался со скудных холмов вокруг Вольсинии, слишком уставший от зверств, чтобы появляться в городе, и его грубый, но весьма хитрый ум начал строить циничные планы насчёт преждевременного физического упадка императора.
Сеян давно пришёл к заключению, что римские граждане, германские и восточные легионы и фракция популяров видят в сыновьях Германика следующих и весьма желанных наследников императорской власти. И пока он размышлял, как устранить это препятствие на своём пути, кто-то предупредил об этом Агриппину.
Она с отчаянной проницательностью воскликнула, обращаясь к сыновьям:
– Берегитесь Сеяна, потому что ещё никто не знает его истинного лица!
Но Друз с презрением заметил:
– Смешно, человек вроде Сеяна так стремится сам завладеть империей...
А Нерон, импульсивный оптимист, радующийся всякому: риску, тайно собрал лидеров сенатской оппозиции, и старые солдаты, сражавшиеся под началом Германика, с нетерпением описывали упадок Тиберия. Однако никто не обладал достаточным авторитетом, чтобы посоветовать порывистому Нерону соблюдать осторожность.
Сеян же по-скотски прямо заявил Тиберию:
– Если Агриппина со своими сыновьями останется в Риме, вспыхнет новая гражданская война.
И вот однажды («непредвиденное событие, заставившее всех замолкнуть», – написал Друз) Тиберий пригласил Нервна с молодой женой на Капри, и от такого приглашения было не спастись. На проводах не было счастливых пожеланий и радостных объятий, мать и братья молча смотрели, как он уезжает.
Едва в доме затих звонкий голос и громкий смех Нерона, Друза что-то толкнуло открыть дневник. И Гай, любивший заглядывать ему через плечо, прочёл написанный неторопливым и ровным почерком плод осторожных раздумий – одну фразу, которую не сможет забыть: «Я бы предпочёл увидеть, как он отправляется на войну с Парфией».
Он посмотрел, как Друз положил каламус, и ничего не сказал.
Между тем круг друзей продолжал редеть. И наконец все поняли, что приглашение на Капри не было приглашением на аудиенцию. Разрешения вернуться в Рим не последовало, и Нерон на вилле Юпитера оказался в заключении. Ум Агриппины обострился от злобы, а пребывание беззащитного и неосмотрительного сына на Капри не давало спокойно дышать.
«Охотники в засаде, – написал Друз, заразившись этой тревогой. – Как только кабан выскакивает на открытое место, на него спускают собак».
Каждое утро семья тщетно ждала известий. Однажды ночью Гай – его сны становились всё короче и всё чаще прерывались – сказал себе, что его сильный и большой старший брат уже никогда не вернётся домой. И Друз, углублённый в себя, слишком пессимистичный для своих молодых лет, признался ему, что в этом дневнике останется заключённым его голос, что бы ни случилось.
– Запомни: во что бы то ни стало его нужно спасти.
А на Капри тем временем Сеян, словно обложив зверя в кустах, окружил Нерона шпионами – и ему удалось подстроить ловушку в доме, чтобы до Тиберия доходили даже неосторожные разговоры Нерона с легкомысленной молодой женой. Жизнь на императорской вилле была ограничена полной зависимостью от императора, маниакальным соблюдением расписания и маршрутов следования, долгими неподвижными ожиданиями, придворными церемониями. Тиберий то обращал к Нерону фальшивую улыбку, то с подозрением отгонял его. Жизнь молодого римлянина превратилась в пытку неопределённостью.
Между тем в уме Тиберия возрастали подозрения, и наконец Сеян сказал ему:
– Настал момент рискнуть и начать процесс. У нас будут доказательства, тебе приведут свидетелей...
Последним другом, кто сохранил постоянную верность, был тот самый Татий Сабин, который с ужасом уже присутствовал на суде над Кремуцием Кордом. Сеян велел одному сенатору, связанному с ним из подлых побуждений, пригласить Сабина, подпоить и усыпить его бдительность. Сенатор повиновался. В промежутке между крышей и расписным потолком в зале он спрятал трёх сенаторов, которые забились туда через люк как безупречные свидетели, чтобы превратить разговор в заговор. Когда хозяину дома показалось, что вина выпито достаточно, он начал жаловаться на плохое правление Тиберия, восхвалять умершего Германика и мужественную Агриппину с её сыновьями, которые уже в возрасте, чтобы последовать примеру отца. Он сказал, что спасение Рима – в этой великой фамилии, которую столь жестоко и несправедливо преследуют. Искренний Сабин позабыл об осторожности в доме старого друга и распустил язык.
И Сеян смог молниеносно сообщить Тиберию:
– В Риме готовится мятеж.
Тиберий с Капри приказал арестовать Татия Сабина и «всех возможных соучастников», судить и покарать.
Сеян при подобострастном молчании сенаторов прочёл послание, и они тут же велели арестовать Сабина, который, ничего не ведая, уже даже и не помнил разговоров того вечера.
Друз написал: «Тиберий вырвал от нас и этого, последнего друга. Коварство Сеяна, страх других, подобострастие многих – всё вместе сделало своё дело».
На единственном заседании сенаторы выслушали свидетелей, вынесли приговор и послали осуждённого на смерть, прежде чем он понял, в чём дело.
Стояли январские календы[30]30
Первый день месяца.
[Закрыть], и Друз написал: «В этот священный праздничный день его провели по дороге с верёвкой на шее. Этот преданный бедняга кричал: “Смотрите, как Сеян убивает невинных жертв!” Люди, видя конвой и слыша крики, бежали прочь и закрывали двери и окна. Тогда ему накинули на голову тогу и стали душить, чтобы он не мог кричать, а потом пошли дальше по пустынным улицам. И мёртвое тело бросили в реку».
Гай стоял в ночной тишине огромного полупустого дома. Пугала мысль о предателях, спрятавшихся под крышей в доме друга.
В ту ночь, свернувшись калачиком в своей тёмной комнате, молодой Гай пообещал себе, что от него никто никогда и нигде не услышит ни одного неосмотрительного слова. Но он не предвидел, что больше никогда не сможет ничего прочесть в дневнике Друза.








