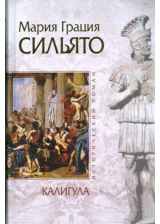
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
3АМУРОВАННАЯ КОМНАТА
Однажды в ту зиму судьба дала о себе знать. Случилось так, что, когда выполнялись какие-то работы в покинутом доме Тиберия, в одном кабинете рядом с личной комнатой старого императора обвалилась штукатурка и за ней открылась пустота.
Это был чулан, неизвестно когда бережно скрытый за стеной опытными и преданными рабочими, словно Тиберий со своей невротической подозрительностью хотел там спрятать труп.
Принесли свет и заглянули внутрь. Оказалось, что все стены от пола до потолка были зачем-то покрыты полками, и на них в строгом порядке разложены десятки закрытых кодексов, запечатанных восковыми и свинцовыми печатями. Увидевшие эту массу документов в тайной комнате Тиберия, куда он не возвращался двенадцать лет, сразу поняли, что наткнулись на нечто страшное.
Стояло приятное римское утро, навевавшее мысли о праздности, и тут пришло это известие. Императору инстинктивно захотелось убежать, но он велел до его прихода ничего не трогать. Чтобы не оставаться одному, он позвал Геликона и, пока юноша спешил по вызову, оделся. Но вдруг, через столько времени, живот свело спазмом.
Император направился в дом Тиберия пешком, неторопливо ступая, – до сих пор он избегал таких прогулок. С трудом поднявшись к никогда не виданной комнате, он вошёл туда, то есть проник в лабиринт ума старого императора. Все смотрели на него, пряча схожие мысли, а он подошёл к комнате бывшего императора, где увидел августианскую стражу, куски штукатурки на полу и едва видный проём. Тут Гай Цезарь остановился и велел расширить проход. Всем он казался очень спокойным.
Но его душа кричала, что лучше ничего не знать. Между тем люди осторожно разбили тонкие, плотно пригнанные кирпичи и подобрали куски штукатурки. Императору подумалось, что Тиберий не возвращался в Рим много лет, а следовательно, это были древние документы, возможно, времён отравления Германика. Он похолодел и ощутил дрожь.
Гай Цезарь принял власть и добивался неискреннего спокойствия, говоря себе и другим, что больше ничего не хочет знать о прошлом, и его слова встречали с энтузиазмом. Но он обманывал себя и слушавших его. Император приказал принести ещё света, всех отпустил, кивком оставив при себе лишь Геликона, и вошёл в пролом. Он взял в руки первый попавшийся кодекс в тёмном кожаном переплёте, какие всю жизнь любил Тиберий. Посветив, император увидел печать Тиберия, поставленную с обычной маниакальной аккуратностью. Ни к чему не прикасаясь, он подумал: «Неужели Тиберий забыл обо всём этом? Или припрятал подальше, как смертельный яд?»
Гай вышел оттуда с кодексом в руке.
– Подожди, – попросил он Геликона, подойдя к окну.
Он ощущал опасную добычу, как охотничья собака, и дрожал, как дрожат некоторые псы, почуяв кабана в ежевичных кустах. И всё же сломал печать.
Кодекс открылся. Это была масса аккуратно пригнанных листов различной величины, исписанных разным почерком. Император закрыл кодекс и подумал, что созданное им равновесие вот-вот нарушится.
– Не нужно, не смотри, – посоветовал Геликон.
Ничего не ответив, император пошёл туда, где привык сидеть Тиберий. Опустился на сиденье с кодексом в руке. Через несколько мгновений от ненависти пересохло в горле и запеклись губы. Он попросил Геликона принести воды, велел вытереть от пыли длинный стол. И стал молча ждать.
Молодой император не мог двинуться с места до вечера. Это была история, творимая изнутри: осведомители, анонимные доносы, незарегистрированные свидетельства, тайные голосования, секретные совещания, личные беседы императора, приказы трибунам и префектам – история долгих, продуманных преследований, погубивших его семью и всех преданных ей друзей.
Тиберий с леденящей точностью лично собрал все. Виновные представали десятками со времён мучений Юлии и убийства Гракха до страшных дней в Антиохии; здесь были имена и заявления обвинителей; тексты лжесвидетельств с подписями в низу листа; списки сенаторов, вынесших приговоры. Доклады, писавшиеся день за днём с бесчеловечной доскональностью, о тюремщиках, видевших, как его мать искала смерти из-за садистского обращения на острове Пандатария. Нерон, старший из братьев, страстно любивший жизнь, который поднимал его в воздух и швырял себе на плечи на бегу, был вынужден покончить с собой, когда увидел инструменты для зверских пыток – клещи, плети, железные пруты для накаливания, – всё это с улыбкой показывал ему посланный Тиберием палач. А Друз, писавший свой дневник, умер от голода в подвале этого самого дворца; одинокий узник, в течение девяти дней он, борясь за жизнь, жевал солому своей подстилки. Девять дней отчаянно звал на помощь, умолял проклятого Тиберия, и охранявший пленника центурион по имени Аттий усмирял его слабеющие протесты ударами хлыста. А шпионы Тиберия отмечали каждое слово, каждый вскрик, каждое бессвязное бормотание в ожидании неизвестно каких секретов. Но Друз никого так и не назвал.
Здесь молодой император подумал, что кто-то, наверное, молча улыбнулся, когда он объявил в своей программной речи: «Все эти бумаги сожжены». Официальные документы были лишь саркофагом, а не действительным ужасом, заключённым внутри.
Тяжело дыша, с Тибра явился Каллист.
– Я узнал... – Он бросил тревожный взгляд на пролом в стене и прошептал: – Кто бы сказал...
Император был измучен; к боли в животе добавилась тошнота. Он встал на ноги и глубоко вздохнул у открытого окна. И тут увидел, что уже глубокая ночь. Глаза Каллиста тем временем жадно бегали по аккуратно переплетённым кодексам, воскрешающим неумолимые приказы Тиберия и чуть ли не вызывающим к жизни его самого. Но грек не посмел подойти к ним.
Император обернулся, взял открытую рукопись и протянул ему, ничего не объясняя. Это был реестр «добровольных» показаний против Нерона и Агриппины, и на эти показания опиралось предварительное следствие. Здесь были запечатлёны имена магистратов, высоких жрецов, сенаторов, консулов.
– Это всё меняет, – пробормотал Каллист.
Он весь побелел, как мраморные косяки, косяки из безжизненного, чуть желтоватого мрамора, который Тиберий так любил в своих интерьерах.
– И все они ещё живы.
Благодаря этим людям власть сенаторов и власть императора теперь физически столкнулись. Каллист мгновенно оценил в уме, что враги в подавляющем большинстве.
Снаружи, в старом атрии дома Тиберия, беспокойно столпились чиновники и вельможи, так как разнёсся неясный слух о раскрытии каких-то тайн времён Тиберия. Каллист провёл худыми руками по листам.
Император сказал:
– Это не Тиберий приговорил мою семью. Её приговорили голоса сенаторов, оптиматов, которые, как только он умер, сами же назвали его чудовищем и единодушно избрали меня.
Каллист подошёл посмотреть на пролом в стене, заглянул внутрь и обернулся.
– Тиберия не было здесь, когда умирали твои братья, как и в дни суда над твоей матерью. Он был на Капри и больше не вернулся. Кто же спрятал всё это здесь?
Он был прав. В те дни Тиберия не было в Риме, он уже никогда сюда не возвращался. Каллист задумался.
– Мне помнится, Макрон что-то говорил незадолго до твоего избрания. Он беспокоился и ругался: «Там, внутри, могут натворить что угодно». Они и натворили. И не уничтожили, а спрятали.
Он помолчал, а потом прошептал:
– Но кто же это?.. – чуть ли не восхищаясь тонким умом, выбравшим самое невероятное место – покинутые комнаты старого императора, где наверняка никто не будет спать ещё несколько десятилетий.
Возможно, догадался грек, таков был давний приказ самого Тиберия. Каллист задумался, а потом со вздохом сказал:
– У кого эти документы, тот держит в руках сенаторов...
Его холодные мысли бежали всё дальше, и каменная бледность проходила. Грек взглянул на императора и вдруг выпалил:
– Эти документы – огромная удача, Август. Отныне сенаторы у тебя в руках.
Император ничего не ответил. Он закрыл глаза и хотел обдумать всё сам, принять для себя решения без чужого вмешательства.
– Опубликуй документы, огласи все, – посоветовал Каллист с ледяной жестокостью. – Это змеиное гнездо в твоём доме. Ты не можешь не раздавить их. С тобой преторианцы, легионы, весь народ Рима. Если ты заговоришь, те, кто теперь каждый день придумывают тебе по новой проблеме, – он сжал кодекс с их именами, – завтра не смогут даже выйти на улицу.
Как и в помещениях Пандатарии, императору хотелось закричать. Судил не император, а он, человек, невыносимо страдающий, так как после всех этих лет узнал в мельчайших подробностях, что последние дни его братьев и матери в действительности были страшнее, чем он мог себе представить. Он пытался вырваться из этого клубка и спрашивал себя, что бы сделали Август или Тиберий в подобной ситуации. Что лучше – объявить виновных или выносить месть, не дав врагам догадаться о ней?
– Быстро объяви об этих документах, – коварно настаивал Каллист, – а потом, когда правда об их подлости разнесётся по всей империи, объяви, что прощаешь их. Мы не можем поразить всех сразу. Но если ты предашь огласке эту историю, если весь Рим узнает о ней, с их публичной жизнью будет покончено.
И император решился. Его непоправимое решение войдёт в исторические книги одной отчаянно наивной фразой: «Oderint dum metuant» – «Пусть ненавидят, лишь бы боялись»[57]57
Слова из трагедии Акция «Атрей».
[Закрыть].
Он собрал сенаторов. Подождал, пока все после его прибытия и ритуального приветствия рассядутся по местам. Все держались тихо-тихо, и было видно, что из уст в уста переходили самые странные слухи. И, наконец в курию вошёл бывший раб по имени Протоген, ныне принятый на службу в императорскую канцелярию.
– Ещё один из этих греко-египетских выдвиженцев Клеопатры, – шепнул кто-то, припомнив его историю.
Протоген, напрягая силы, принёс на чём-то вроде подноса кучу рукописей, как жертвенные дары. Сенаторы гадали, как держаться; один знатный старик вздрогнул, вроде бы узнав тёмную кожу, в которую Тиберий складывал свои бумаги, и шепнул об этом сидевшим рядом.
Император поднял руку, желая произнести речь, и все взгляды устремились на него. Он начал медленно, ясным голосом:
– Я собрал вас здесь, потому что в комнатах Тиберия были обнаружены документы, о которых невозможно молчать.
Он говорил размеренно, делая промежутки между словами, и голос его казался каким-то чужим. Император остановился, сделав паузу, и весь зал замер в молчании.
– Хорошо бы прочесть их здесь, публично, перед всеми вами... отцы.
Благородное обращение к сенаторам было добавлено после паузы – означало ли оно уважение, иронию или что-то ещё?
Каллист встал, взял первую рукопись, открыл и начал читать сухим и холодным голосом. Молнией по всему пространству курии вновь материализовались обвинения, доводы защиты, свидетельства, приговоры, которые почти все сенаторы слышали в оригинале. Каллист читал быстро, переходя без промедления от одного документа к следующему, написанному другим почерком, он ни разу не запнулся, не замешкался. Историки напишут, что шестьсот сенаторов за время чтения не вымолвили ни слова.
Замешательство популяров перешло в немой негодующий триумф. Оптиматы же, когда Каллист читал их имена, вставали среди молчащих товарищей по партии, смертельно побледнев, не в силах вздохнуть или вымолвить слово. А потом садились, дрожа, в то время как Каллист откладывал рукопись и с той же торжественностью брал новую, и сидевшие вблизи, знавшие об этих фактах больше, чем говорилось в документах, смотрели, выпучив глаза в ожидании своей очереди. В паузах все смотрели на тонкие папирусные листы, которые Каллист постепенно откладывал, и на множество ещё не прочитанных, которые держал в руках. В тишине раздавалось следующее имя, и очередной сенатор вздрагивал и сжимался в своей тоге, вцепившись в подлокотники кресла. По курии разливалось озеро ненависти.
Император слушал с пересохшим ртом, не в силах сглотнуть. Его руки похолодели. Но верно говорил древний поэт: «Ни одно удовольствие не сравнится с местью». Каллист ровным голосом дочитал до конца.
После долгого и мучительного чтения популяры посмотрели на императора, ожидая знака, что же он решил: его акция была необратимой и ужасной, она превосходила даже их ненависть. Среди оптиматов никто не посмел подать голос первым. Император дал всем прочувствовать это молчание, потом встал, и многие восприняли это с облегчением. Он сказал, что установил, и не остаётся никаких сомнений, что и среди этого почтенного собрания затаились многие, кто выдвигал заведомо ложные обвинения, и, возможно, Тиберий поверил им; а многие сознательно лжесвидетельствовали и приговаривали невинных. Он говорил медленно, ледяным тоном, сначала с трудом подбирая слова, но постепенно повышая голос, и его речь превращалась в страстное обличение.
– Все, кто почитал Тиберия и служил ему при его жизни, были орудиями, соучастниками и, возможно, вдохновителями его преступлений. А сегодня все вы здесь согласны, что это были действительно преступления. Когда Тиберий умер, вы радовались, что избавились от тирана, и проклинали память о нём. Неужели один Тиберий был виновен? Но если он был таким чудовищем, почему же вы воздавали ему почести, а не восстали? И как Рим может верить вашим словам сегодня?
Но оптиматы не обращали внимания на его пафос – они видели лишь обрушившуюся на многих непредвиденную опасность. Поведение молодого императора за несколько часов страшно изменилось. Его горькая и опрометчивая прямота напугала их, так как единым словом он мог применить свою огромную военную власть – стоящие у ворот преторианские когорты, легионы во всех провинциях и буйную, неуправляемую любовь народа.
В страхе за свою шкуру некоторые стали малодушно бормотать, якобы они ничего не знали. Популяры разразились воплями и заглушили эти испуганные голоса. Но потом словно прорвало плотину: обвиняемые, будто потерпевшие кораблекрушение, стали хвататься друг за друга, выгораживать один другого, умолять, приводить взаимные свидетельства, бросились к креслу императора и окружили его, ужасаясь при мысли, что огромная бронзовая дверь сейчас распахнётся и ворвутся преторианцы. А из сектора популяров, где все встали и заполнили партер, сыпался град оскорблений.
Валерий Азиатик в тоге с безупречными торжественными складками с самого начала заседания неподвижно наблюдал со своего места. Он не был замешан ни в одной из отвратительных интриг, и в голове у него было достаточно ясно, чтобы понять, что древний, грозный и гордый римский сенат больше никогда не станет тем, чем был многие века.
Между тем император смотрел на перепуганные лица сенаторов, от страха исказившиеся до неузнаваемости. На мгновение он обменялся страшной улыбкой с Каллистом. Неправда, что месть – самое сильное из удовольствий. Гай Цезарь молча встал и попытался удалиться от окружавших его людей, они хватали его за край тоги, и ему пришлось жестом подозвать германский эскорт. Германцы тут же обступили его, заставив сенаторов в беспорядке ретироваться. Выпрямившись, он укрылся за этой стеной. Император направился из Рима по Аппиевой дороге и после нескольких часов беспокойной скачки при свете факелов без передышки и смены лошадей, пока ночь ещё покрывала окрестности, уединился на своей любимой вилле на озере Неморенсис.
ОРАТОРЫ
Пока охваченные паникой оптиматы спорили, Валерий Азиатик молчал. Он один в этот момент нашёл в себе силы холодно восстановить в уме весь этот ужасный день. Представив, что случилось бы не так давно, попади документы подобной тяжести в руки Августа или Тиберия, Азиатик заключил про себя: «Я бы никогда не увидел того, что мне довелось увидеть сегодня. Император один. И у него неловкие или плохие советчики».
За этим последовала мысль, что, несмотря на германцев и легионы, молодой император очень уязвим. Потом вспомнилось, что он сохранил жизнь и смягчил изгнание Арвилию Флакку, вору, а сверх того ещё и одному из самых жестоких судей его матери. С вернувшейся на губы улыбкой Валерий Азиатик присоединился к группе коллег и сказал:
– Если будет позволено посоветовать вам один шаг, который нужно предпринять немедленно...
Все замолкли и, увидев его улыбку, замерли в ожидании, как в храмах ждут ответа оракула. А он объяснил, роняя благодушные слова:
– Выберите среди себя пять человек, которые умеют говорить с волнением и кому не приходилось участвовать в тех процессах, потому что в тот день были больны. И пошлите поскорее к нему, пусть бросятся в ноги и жалобно умоляют помиловать других, которые не смеют даже показаться ему на глаза...
Уже светало после ночи, в которую никто не сомкнул глаз, и с балкона виллы, неуклюже построенной Юлием Цезарем для Клеопатры, но теперь ставшей величественной в окружении пышных садов, император устало и безрадостно созерцал чудесные корабли – эти мраморные храмы, неподвижно застывшие на тёмных водах. Евфимий, Имхотеп и Манлий, как и обещали, заканчивали строительство. Уже были возведены колонны, на берегу лежала золочёная черепица. Но начинался дождь, строительство приостановилось, рабочие в бараках готовили пищу.
Несмотря на дождь, делегация сенаторов, избранных из самых убедительных ораторов, взобралась наверх и, добравшись до охраняемых германской стражей ворот, с облегчением узнала, что император согласен их принять. В действительности и он почти с таким же облегчением услышал об их прибытии. Сенаторы объяснили ему, в каком непрестанном страхе пребывали они в правление Тиберия, как невозможно было укрыться от него и как теперь они благодарят богов, что живут под его, Гая Цезаря, милостивой властью. И под конец кто-то тонко добавил, что это они единодушно избрали его... И клянутся в абсолютной верности. Ради этих несчастных, пребывающих в тревожном ожидании в Риме, делегаты умоляют императора проявить милосердие, потому что, как известно со времён Гомера, милосердие – самая светлая добродетель сильных душ.
А поскольку он продолжал молчать, одному из сенаторов пришло в голову процитировать взволнованным голосом несколько прекрасных строк из «Илиады» о прощении врагов. Судя по поведению императора, им удалось убедить его, и на следующий день, хмурым утром, он не спеша вернулся в Рим. Инцитат уловил настроение хозяина и повиновался его рукам и шенкелям даже без лёгкого подрагивания мощных мышц. Великолепная грива, отяжелевшая в сыром воздухе, ниспадала по обеим сторонам шеи.
Но в Риме Каллист первым делом предостерёг:
– Нельзя никому верить. Ты должен защитить себя.
Единственной поистине надёжной защитой был испытанный в своё время Тиберием зловещий закон о покушении на величество – неограниченное средство насилия, которое молодой император в своё время с восторгом упразднил. А теперь, менее чем через три года, возникла необходимость восстановить его ради спасения своей жизни. И он восстановил старый закон.
При объявлении об этом сенаторы зашептались:
– Он сам с таким шумом отменил его, а теперь если примет снова, то уж наверняка, чтобы воспользоваться.
И к ним вернулся страх как во времена Тиберия, который осмотрительно и безжалостно избавлялся от противников при помощи монотонно повторявшихся судебных процессов.
Валерий Азиатик впервые без улыбки проговорил:
– Имена, которые он дал прочесть этому греку, просочились из сената и гуляют по Риму. Цериал и Бетилен вчера ходили на форум Августа, и им пришлось уйти оттуда, скрыться от толпы. Если император их арестует по самому абсурдному обвинению и прикажет бить плетьми и распять на кресте, народ скажет, что так им и надо. А если кто-то возмутится, ему стоит хлопнуть в ладоши, и на площадь выйдут преторианцы. Вы видели, чем кончил Серторий Макрон?
Сенаторы пугали друг друга и уже видели, как возвращаются вольноотпущенники с поручением провести тайное расследование, безымянные чиновники, занимающиеся случаями всяческих проявлений враждебности и заговоров, в атмосфере общего страха получившие прозвание cognitionibus, то есть «сборщики сведений». Видели, как воскресают страшные слова: заявление, судебный заявитель. Но на этот раз началась не охота на разрозненных популяров, отбившихся от стада ослабевших кабанов, как во времена Тиберия, – за горло взяли самых могущественных людей в Риме.
Кто-то заметил, что под Тиберием было невозможно сопротивляться, так как он уединился в своей крепости на Капри и даже по случаю смерти матери не вернулся в Рим. Он сам распространил выдумку об оракуле, не советовавшем ему возвращаться. «А этот живёт в Риме, появляется на людях, ездит по дорогам...» Но другие отвечали, что народное возмущение, как это было во времена Юлия Цезаря, закончится резнёй с использованием сильной германской охраны.
«Тиберий выбрал себе скалу и не выезжал оттуда, а этот оградил себя мечами и ходит, куда захочет».
А ещё кто-то предположил, что приблизиться к императору можно через окружающих его людей в тихой роскоши императорских палат.








