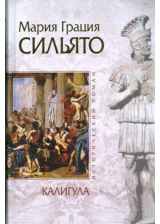
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 35 страниц)
ADLOCUTIO COHORTIUM
Окружённый восторженными сенаторами – все действительно ласкали его взглядами как своё достижение, результат их политической алхимии, – новый император направился к трибуне, что возвышалась посреди Форума, где перед строем преторианских когорт ему предстояло держать свою первую официальную речь, то есть слова, сочинённые втайне на продуваемой ветрами террасе в Мизенах. Перила трибуны были сделаны из бронзовых таранов – ростр вражеских кораблей одной морской битвы, выигранной три века назад. Следовательно, это было священное место для самых выдающихся исторических речей: Юлий Цезарь и Август сделали эту трибуну символом римской славы.
Поднимаясь, молодой император по странной прихоти памяти вспомнил, что бедная Юлия, дочь Августа, была осуждена за публичную оргию со своей весёлой компанией в этом невероятном месте. И всё же то обвинение, где ловко были смешаны личная распущенность и осквернение священного места, возмутило половину Рима, не увидевшего всей его смехотворности. При этой мысли губы молодого императора сложились в саркастическую улыбку, в которой все, не зная, о чём он думает, увидели юношеское волнение.
Между тем, двигаясь с совершенной слаженностью – и в этой дисциплине чувствовалась тяжёлая рука Сертория Макрона, – преторианские когорты выстраивались перед ростральной трибуной. И как только избранный император взял слово, военные и магистраты, отсалютовав ему, как защита и охрана Республики, приготовились к привычной риторике праздничных речей, а сенаторы слушали с меньшим вниманием, так как уже имели подобный опыт в курии. Но все заметили, что он не читает и не держит в руках записей. Люди зашептались, когда он неожиданно продолжил свою речь, вспомнив, что завещание Тиберия было признано недействительным, и безмятежным голосом объявил этим застывшим в неподвижности вооружённым людям, чувствующим себя хозяевами Рима, что, раз завещание недействительно, то денежная часть наследства предназначается преторианцам и легионерам. И с невинным видом объявил цифры своего дара: соответственно по двести пятьдесят и по триста денариев на каждого.
Говоря это, император заметил дрожь в рядах солдат и обратил внимание, как окаменел Макрон. Среди тревожного молчания префект прошёл меж сенаторов, торжественно стоявших в своих тогах и смотревших на него с ошеломлением, так как никто из них, думая только о собственных интригах, не уделил внимания этому богатейшему аспекту аннулированного завещания.
После напряжённой паузы молодой голос объявил:
– Хотя последняя воля Тиберия из-за этой его последней жестокой болезни законно считается недействительной, но его хорошо известную любовь к преторианцам, его признание их долгих трудов – нет, этого отменить нельзя.
И этим неожиданным для всех ударом он объявил, что по собственной воле не только удовлетворяет это желание, но и удваивает сумму.
Ему хотелось запечатлеть память об этой изумительной речи в монете стоимостью именно пятьсот денариев, специально отчеканить её и, чтобы поняли потомки, к которым он обращался, сделать на ней надпись: «Adlocutio cohortium» – обращение к строю преторианских когорт.
Огромная цифра, тяжёлая, будто уже была отчеканена в серебре, опустившись в напряжённое молчание преторианцев, превратила его в восторженный гром. А император милостиво объявил, что из императорского имущества жалует каждому легионеру во всех легионах империи не триста, а шестьсот пятьдесят денариев. Потом распорядился, чтобы и этот дар был запечатлён в изящной монете.
– И кроме того, сто двадцать денариев каждому римскому вигилу и людям из городского гарнизона, о которых Тиберий в своём завещании, к сожалению, забыл.
При каждом объявлении там и сям возникали короткие захлебывающиеся овации. Гай на время останавливался, потом поднимал руку и продолжал. Поистине императорское наследство Тиберия позволяло такую щедрость и ещё многое другое. Под конец он объявил раздачу любимому и преданному римскому плебсу одиннадцати миллионов двухсот пятидесяти тысяч денариев. И никто не знал, что признания Макрона насчёт завещания Тиберия и одинокие размышления на террасе в Мизенах дали возможность молодому императору хорошо спланировать свои затраты.
Под конец восторг на площади стал всепоглощающим, неуправляемым. И тут император объявил, что впервые воспользуется своими полномочиями, и приказал приостановить смертные казни, сроки в темнице и в изгнании, назначенные при Тиберии, и пересмотреть приговоры, чем вверг весь Рим в неожиданное волнение. Он приказал:
– Пусть приговорённым немедленно сообщат об этом и никто не проведёт ни одной лишней ночи в тревоге.
И понял, что за один день («и с меньшим трудом, чем Август», – подумалось ему) завоевал Рим.
Пока под трибуной, как волны, бушевали овации, он успел заметить растерянное молчание сенаторов, увидел затаённую злобу на изумлённом лице Сертория Макрона: за несколько секунд все они догадались, что реальная власть ускользнула из их рук. В двадцатипятилетием Гае Цезаре, потомке военной династии, которая на суше деяниями Германика, а на море – Агриппы была вписана в славную историю империи, сотни тысяч её вооружённых солдат нашли своего идола. Для любого начинания ему стоило сделать лишь один жест.
Даже к сенатору Валерию Азиатику, родом из Виенны, могущественному главе фракции, вернулись мысли об Августе.
– Помните, как в девятнадцать лет он потребовал наследства своего дяди Юлия Цезаря? – спросил он у близстоящих. – Помните, как скоро потратил его на вооружение своего личного войска? Ну вот, а этот вооружил войско своей речью.
Кто-то задумчиво согласился:
– История повторяется.
И эта мысль веками будет приходить на ум многим, и также невпопад.
Валерий Азиатик ответил ему, что тот ничего не понял. И что последствия этой истории ещё нужно увидеть.
ОСТРОВ ПАНДАТАРИЯ
Пока сенаторы и магистраты, выйдя из оцепенения, с непроизвольной угодливостью толпились вокруг него с похвалами и поздравлениями, молодой император выразил свою вторую волю, и этого тоже никто не ожидал.
Он приказал, чтобы все приготовились отчалить на большой императорской триере (корабле с тремя рядами вёсел) с тараном на носу. В небе над Римом сгущались тучи. В эти дни на море прошла непогода, свойственная для периода равноденствия. Дул сильный холодный ветер, налетевший на Тирренское море с запада, но император велел отправляться без промедления. Корабль повиновался, выйдя в море с флотилией сопровождения, то через силу выгребая вёслами, то под рвущимся на ветру парусом. А неожиданной целью, перепугавшей многих, оказался остров Пандатария.
Волны вздымались на ветру и били в борт, когда корабль повернул к восточному берегу, где находилась спокойная бухта перед изящным частным портом, который Агриппа со всей мудростью моряка вырыл для своей жены Юлии. Молодой император высадился здесь в первый раз, и он единственный из всей уничтоженной семьи никогда не видел этого места. Но оно казалось знакомым – так ярко описала его мать.
Он запретил посылать сигналы во время поездки, но с острова увидели грандиозную трирему под пурпурным парусом с императорскими знаками, и потому императора встретила в порту толпа солдат во главе с растерянным центурионом. После лютой смерти Агриппины Тиберий фактически запретил кому-либо причаливать к острову, оставив там в качестве самой надёжной охраны гарнизон её тюремщиков.
Первым соскочил на землю военный трибун, уже несколько часов командовавший императорским эскортом, и с отвращением осмотрелся: воду в порту заполняли обломки и мусор, на молу скопилась грязь после зимних бурь.
Потом сошёл молодой император, и его как физическим холодом сковал образ матери, которая здесь же высадилась в цепях. Центурион, командовавший этим жалким гарнизоном, неуклюже попытался отдать салют. Император не смотрел на него, но услышал голос, говоривший на варварском диалекте, мельком заметил лицо, показавшееся ему звериной мордой, и ощутил содрогание от давно пережитого страха. Ему подвели коня (император ещё раньше велел, чтобы на борт погрузили Инцитата, коня цвета мёда, который следовал за ним из Мизен). Прямо с земли, ни на кого не опираясь, он вскочил на спину лошади. Его душила тревога.
Верхом он поднялся на плато к вилле, которую никогда не видел, а остальные, кроме главных лиц свиты, ковыляли пешком. Подъехав к подъёму на мыс, император узнал вход на виллу – именно такой, какой живо оставался в памяти со слов матери, – и быстро спешился.
Дальше они все поднимались пешком. В течение всего заключения матери он вызывал в памяти её описание и сердился, что так много забыл. Это помогало ему залечить муку разлуки, он обманывал себя, видя её в прелестном саду, укрывшемся от ветра за стенами; ему представлялись маленькие изысканные комнатки, укромные ступени к морю, термы за колоннадой, терраса, смотревшая на вечернее небо.
Эти образы были обезболивающим средством, но они отвратительным образом лгали. Он увидел засохший сад, мусор в портике у терм, пустые грязные бассейны, отбитые с бессмысленным вандализмом мозаики. Некоторые статуи упали с пьедесталов – или их свалили. В десятках фонтанов и каскадов не сочилось ни капли воды. Трибун следовал в шаге за императором, маленький местный гарнизон был охвачен ужасом.
Император вошёл в здание и прошёл по комнатам, озираясь и ничего не говоря. Он увидел оторванные косяки, покосившиеся на петлях двери, застарелую грязь. Здесь не было мебели, которую он представлял себе. Только лавки, нары, кучи соломы, старые скомканные занавески. Он мельком заметил Геликона, которому удалось сесть на корабль вместе со свитой: египтянин наклонился над кучей тряпья и тонкими пальцами разбирал клочки цветного шёлка.
Что происходило здесь в течение шести лет с единственной беззащитной заключённой среди злобных тюремщиков? Не осталось ни одной безделушки, статуэтки, чашки, тарелки – ничего. В глубине спускающейся к морю лестницы догнивала старая деревянная загородка, когда-то преграждавшая заключённой путь вниз. Другие заграждения стояли у всех выходов в сад, в портики, на террасы. Император шёл в глубоком молчании, и его следы отпечатывались в пыли.
Что она переживала, о чём думала, куда уходила плакать, где искала укромное убежище, где пыталась найти забытье? Какой угол выбрала, чтобы умереть? Ничто не хранило никаких знаков, разве только сам факт, что большинство комнат были заперты или замурованы. Узница не видела отсюда ни неба, ни моря. Она была заживо похоронена и ожидала смерти. Император шёл, жестами веля открыть дверь, отодвинуть громоздкий прогнивший деревянный хлам или поломанную мебель. И двигался дальше.
Старики надзиратели бросились освобождать проходы, они руками отгребали пыль от его обуви, обуви нового императора, и ему на ходу случалось задевать лица этих жалких людей, стоящих на коленях. Но никто не реагировал.
Он не просил разъяснений раньше и не спрашивал ничего теперь. Ему хотелось колотить кулаками в стены, чтобы камни заговорили. Его молчание усиливало страх тюремщиков. В одной маленькой комнатушке, наверное бывшей изначально альковом, он увидел на стене длинные бурые пятна, казавшиеся следами крови.
Ему хотелось кричать, но он продолжал ходить, словно ничего не видел. Никто не смел приблизиться, даже милый Геликон держался на расстоянии. Гай мысленно разговаривал с матерью, от комнаты к комнате, словно говорил с мёртвыми. Его скорбь не находила утешения, а вопросы – ответов.
«Тебе как-то удалось узнать, что я жив? Ты знала, где два других твоих сына – один в Понтии, а другой погребён в Палатинском подземелье? Помнишь, как твой Германик, наш отец, был в отчаянии от расставания с тобой, когда внутри горел яд и у него путались мысли? Возможно, вы каким-то образом встретились там, если там что-то есть, кроме теней? Ты слышишь, знаешь, каким-то образом видишь, что я здесь? Что моей первой мыслью в качестве императора, когда весь мир распростёрся у моих ног, была мысль об этом?»
Среди всеобщего исступления он бесстрастно думал, как по-детски обманывал себя, каждое утро глядя в сторону недостижимого острова. Представляла ли она, что он смотрит на него? Но он прибыл сюда слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно. Пройдя вглубь последнего зала, Гай остановился и обернулся. Сторожа в страхе столпились у дверей.
– Где вы её похоронили? – спросил император.
С облегчением, поверив, что успокоят его своим ответом, они нестройным хором сообщили, что по собственной инициативе соорудили погребальный костёр и совершили погребальный обряд, а потом старательно собрали пепел и кости, полагая, что когда-нибудь... Они бормотали, ловя его взгляд, и чуть ли не улыбались, надеясь на одобрение. А центурион, пытавший его мать – император не нашёл в себе сил посмотреть ему в лицо и видел лишь его тяжёлые руки, большие и грязные, – отвёл его в комнатушку, где в пустой нише стояла грубая фаянсовая урна, как на кладбище бедняков. По-видимому, она стояла здесь, заброшенная, много лет.
Гай молча взял урну и ощутил, какая она лёгкая. Он прижал её к груди, вынес из помещения и, избегая чьей-либо помощи, поставил у ног. За спиной у него солдат подвёл под уздцы послушного коня. И так, в молчании, император вернулся в порт. Там он заметил Геликона, который собрал кучу шёлковых лоскутков, пестревших разными цветами и золотыми нитями.
С урной в руках император поднялся на борт корабля, жестом отказавшись от помощи, всё в том же молчании осторожно поставил свою ношу, и эскорт отдал ей воинские почести. Моряки молчали, выстроившись у ограждения. Потом император позвал трибуна, который до этого ходил за ним по пятам, и тихо велел ему оставить на острове охрану: никто из живущих здесь не должен его покинуть, и ни к чему из находящегося здесь нельзя прикасаться. Дальнейшие распоряжения поступят завтра.
Трибун, железный северянин, сражавшийся под началом Германика на Рейне, посмотрел на него спокойным ледяным взором и молча кивнул. Их мысли мгновенно совпали. Для этих напуганных тюремщиков, оставшихся на молу, уже были готовы подвалы в ужасном Туллиануме. Вскоре будут рассказывать об их ежедневных муках и о том, как они в отчаянии обвиняли друг друга, а потом молили о скорейшей смерти.
Император велел поднять якорь. Он решил про себя, что на этом удаляющемся молу поставит кенотаф – монумент в память о заключении его матери. Было велено держать курс на остров Понтия, где флотоводец Агриппа, любивший острова, мысы и морские гроты, построил себе ещё одну изысканную резиденцию. Гай никогда её не видел и даже не помышлял о владении ею. Он лишь знал, что туда был сослан и там лишён жизни его старший брат Нерон.
В разорённой вилле на Понтии тоже прозябала охрана. Как и на Пандатарии, император забрал прах Нерона в убогой урне. Этот ничего не весящий прах был его сильным, весёлым старшим братом, ростом выше отца, тем самым, который, увидев Гая первый раз, рывком оторвал его от земли и со звонким смехом, как куклу, посадил на плечи.
Все удивлялись, что император при виде этого продолжает молчать. Он говорил одними губами, только с трибуном, отвечавшим за его безопасность, и тот, такой же молчаливый, кивал, как на Пандатарии.
Они поднялись по Тибру, текущей через Рим реке, довольно медленно, чтобы успела разнестись весть. Император высадился, держа под порфирой грубую урну с прахом своей матери, как в своё время Агриппина держала прах Германика. Огромная взволнованная толпа в молчаливом негодовании ожидала на берегу и, как во время прибытия Германика, неожиданно приветствовала его страстным общим криком. Потом его окружил спонтанно собравшийся бесчисленный кортеж с тысячами факелов, и император направился к мавзолею Августа.
Прах Нерона тоже был помещён туда. Скорбная строгость церемонии превратилась для римского народа в неумолимое обвинение сенатской партии, поддерживавшей Тиберия. От другого брата, Друза, кончившего жизнь в Палатинских подвалах, не осталось ничего, что можно было бы похоронить.
«Я никогда не узнаю, – думал Гай, неподвижно стоя во время ритуала; от ощущения всеобщих взглядов на своей спине ему не хватало воздуха. – Никогда не узнаю, какими были их лица в последние дни. Мои воспоминания останутся старыми, многолетней давности, когда они ещё не испытали всех этих мук».
Не осталось ничего, чтобы запечатлеть их образ, даже страшных посмертных восковых масок, которым мы обязаны драматической, натуралистичной, безжалостной жизненностью множества римских бюстов, столь отличных от стерильных мифологических греческих скульптур. Лица его братьев и матери были полностью доверены любовной памяти тех, кто их знал. И Гай с беспокойством решил, что нужно поскорее позвать величайших скульпторов, завтра же, пока воспоминания не растаяли, как всё свойственное людям.
Между тем весь Рим из этих запоздалых похорон понял, что каждый из приговорённых встретил тайную смерть после долгих мук в одиночестве и отчаянии.
Тем временем быстрые императорские гонцы, а ещё скорее оптические сигналы и даже почтовые голуби, за день преодолевающие сотни миль, разнесли в самые отдалённые уголки известие об избрании нового императора, и это вызвало энтузиазм во всей империи. Вскоре все города от Асса в Троаде до Ариция в Лузитании принесли клятву верности новому императору. Повсюду – от крохотного Сестина в Умбрии до Акрайгии в заброшенной Беотии и Аргоса, столицы исторической Всегреческой Лиги, – в восторге воздвигли мемориальные доски. В Ахайе, Фокиде, Локриде, Эвбее были устроены народные праздники; в Олимпии, Дельфах, Милете, Коринфе, Александрии Египетской, в Тарраконе Иберийском поставлены статуи. Легионы, несущие службу вдоль протяжённых границ на Рейне, Дунае, Евфрате, втайне называли императора его детским прозвищем – Калигула, как когда-то давно, когда он ещё маленький ходил со своим отцом.
В восточных провинциях и пограничных государствах, которые вскоре после мудрой доброжелательности Германика испытали гнёт Тиберия, затеплилась надежда на более светлые дни. Послы из всех провинций, из всех городов, всех вассальных и союзнических царств – Фракии, Понта, Армении, Киликии – вспомнили, как видели нового императора мальчиком с его прекрасным отцом. Летописцы написали: «Прокатилась волна празднеств, каких ещё не видели в империи». И никто не представлял, что грядёт трагедия, так как очень многим в Риме эти восторги начинали действовать на нервы.
MENSIS JULIUS
Туча слуг, сторожей, управляющих бежала на Палатинский холм. Суетясь, они разбудили покинутые дворцы, чтобы принять вернувшегося хозяина. Для начала его сопроводили в дом Тиберия, к которому он раньше даже не приближался. Перед ним распахнули бронзовые двери, и Гаю показалось, что внутри кромешная тьма. Потом он разглядел два ряда колонн, тени статуй и очертания лестницы. Ему померещился ужасный, ядовитый запах, от которого спёрло дыхание. Гай сделал шаг, и его кольнула мысль, что где-то там, внизу, находится подземелье, где умер его брат Друз, и он жестом велел не провожать его. Придворные подумали, что его сковала ненависть, но на самом деле его снова охватил тот же ужас, что и на Пандатарии.
Сделав несколько шагов, он заметил, что шарит глазами по этому склепу Ливии, Новерки, где он провёл в заключении целый год.
– Закройте все эти двери, – велел император.
Потом перед ним открыли легендарные скромные комнаты Августа; он прошёл по ним со смешанным чувством гордости и тягостной злобы, которую тянула за собой память. С облегчением выйдя оттуда, император приказал:
– Эту обстановку нужно сохранить в неприкосновенности, для истории.
Наконец он с торжеством вошёл в великолепный императорский дворец, официальное вместилище власти в дни Августа, прошёл по роскошным просторным залам, которых никогда не видел, и в нём пробудилось триумфальное чувство обладания, словно он вошёл в завоёванный город. Но одновременно его окружило продолжавшееся десятилетиями молчаливое запустение. А из стен, как вода, сочились тягостные воспоминания.
С недавних пор все глаза с тревогой следили за ним, и те, кто не мог приблизиться, пересказывали слова других. Старые опытные императорские чиновники – весь вышколенный аппарат, выстроенный Августом и усиленный бдительной суровостью Тиберия, – поведали, что вскоре он попытался узнать как можно больше о крайне эффективном механизме, державшем в целости империю; он слушал, спрашивал, читал, размышлял – и улыбался. И все единодушно предсказывали, что Гай Цезарь будет тихим и податливым правителем.
На Римские холмы давила духота, и ветер с моря не овевал их в тот день, когда император спустился с Палатина и направился в курию для первого основополагающего публичного действия – своего программного заявления. Был первый день июля. В простые времена Республики этот месяц назывался незамысловато – квинтилис, то есть пятый. «Однако с Юлием Цезарем, – едко написал кто-то, – божественность рода Юлиев распространилась также и на месяцы». И через века люди будут называть его так же – июль.
А на сенаторов, которые, беззаботно беседуя, небольшими группками шли в курию, вдруг напал страх. На лестнице перед залом заседаний один чиновник, весь трепеща, шепнул нескольким влиятельным оптиматам, что молодой император интересовался материалами судебных процессов Августа над Юлией и её друзьями, а также Тиберия над семьёй Германика и его сторонниками. Эти процессы хранились в зловещей тайне, и из страшного архива публиковали (да и то не всегда) только приговор.
– Но, – бормотал чиновник, – мы открыли лишь некоторые документы, и те были в беспорядке.
Услышавшие это известие замерли на полдороге как пригвождённые. Со слабой надеждой они спрашивали друг друга, не уничтожены ли эти документы по предусмотрительному приказу Тиберия. Но те, кто близко знал старого императора, отвечали, что он никогда ничего не уничтожал.
– Он говорил, что для убийства человека три строчки подходят лучше, чем кинжал.
Сенаторы медленно поднимались, шепчась на ходу. И у них рождались всё новые подозрения.
– Кто рылся в этих дворцах с Капитолийскими архивами между рассветом, когда умер Тиберий, и моментом, когда мы избрали Гая Цезаря? У кого в руках все документы о страшных процессах над Агриппиной и её сыном Нероном? А также над Друзом, трибуном Силием, Татием Сабином...
В качестве судей и свидетелей на этих безжалостных процессах в действительности выступали уважаемые, достойные сенаторы, и теперь, важно занимая места в креслах, они чувствовали себя совершенно беззащитными. «Нас шантажируют неизвестные хитрые враги», – думали они, а кто-то предрёк:
– Тот, у кого эти документы, выложит их в нужный момент...
Сенаторы старались успокоить себя басней о глупом мальчишке, затерявшемся в пыльном мире книг и никогда не беспокоившемся о своей семье, но некоторые предостерегали:
– Если вспомнить, что его первая поездка была на Пандатарию...
Император подошёл к месту, которое раньше занимал Тиберий. В течение одиннадцати лет сенаторы видели это место пустовавшим, а теперь там лежали подушки, накрытые новым шёлком цветов благородного рода Юлиев, и по вполне объяснимым причинам все глаза неотрывно следили за преемником Тиберия. Пока он укладывал руки на подлокотники, сенаторы гадали, кто же написал за этого молодого неопытного человека основополагающую программу будущего правления. А поскольку ответить на этот вопрос никто не мог, все настороженно посматривали друг на друга.
И первым леденящим заявлением императора – после ритуального начального приветствия – было именно то, что разветвлённая шпионская сеть провела поиски и обнаружила, хотя и в беспорядке, архив секретных документов. Вся курия застыла в напряжённом молчании.
Но молодой император благодушно объявил:
– Я не стал читать этих документов. Я не хочу ничего о них знать.
По рядам сенаторов непроизвольно прокатился шёпот, а император продолжил:
– Эти записи принадлежат прошлому и будут сожжены. И осведомители нам не нужны, они будут уволены.
От его слов гнетущий страх растаял, сменившись облегчением. Раздались и затихли спонтанные аплодисменты. И всё же кое-кто задавался вопросом, не является ли это великодушное заявление самым страшным коварством:
– Он ещё не сказал, что это за документы и сколько их.
Но император, сменив тон, объявил, что есть много других задач, над которыми нужно поработать. Например, он обнаружил, что общественные расходы в большой степени являлись тайным государственным делом, и теперь заявил, что отныне будет открыто публиковать строгие отчёты. Он сказал, что ярмо централизованной власти в провинциях экономически неоправданно тяжело и зачастую власть находится в руках хищных продажных чиновников. Император признался, что надеется на помощь сенаторов в ослаблении этого ярма, и вспомнил деяния своего отца Германика. Кроме того, предоставление римского гражданства до сих пор было очень ограничено, и это разделяло население империи на привилегированное защищённое меньшинство и огромное беззащитное большинство.
– Поработаем вместе над тем, чтобы расширить предоставление гражданства. Нам служат граждане, а не подданные.
Заявления следовали одно за другим, и слушатели не успевали их обдумать. Но складывалось впечатление, что новое правление будет коренным образом отличаться от предыдущего.
Император сказал, что закон, созданный в древние времена для защиты Республики, закон о величестве, – и первое же его упоминание вызвало у присутствовавших в курии мурашки – превратился в страшное оружие для подавления свободы.
– Он заполнил темницы заключёнными и подследственными. Это позор для Рима. Думаю, что найду ваше согласие для его отмены.
Сенаторы в напряжённом молчании ловили каждое его слово.
Император сказал, что ссылка и изгнание были примитивным и безжалостным оружием тирании. Многие жертвы были вынуждены жить вдали от Рима, в нищете, а их имущество было конфисковано.
– Мы вернём их на родину и возместим ущерб. И больше такого не случится, чтобы судьи были вынуждены по несправедливым законам приговаривать римских граждан за то, что они думают, говорят или пишут.
Какой-то старый юрист вполголоса заметил:
– Он возвращает суду независимость, утраченную во времена гражданских войн.
Все гадали, кто же вдохновил этот молодой ум на столь срочную и фундаментальную реформу.
Но император, произнося речь, видел перед собой исчезнувший кодекс, в котором каждое утро в тишине библиотеки, принадлежавшей раньше Германику, делал записи его брат Друз. Он сказал, что труды многих писателей были запрещены, некоторые поплатились за свои слова ссылкой, заключением в темницу или жизнью. В могильной тишине сената прозвучали имена Тита Лабиена, Кассия Севера, Кремуция Корда.
– Мы в долгу перед ними за их усилия и их мужество – постараемся же, чтобы их труды были восстановлены и опубликованы. Не сокрытием правды, – сказал император, и эта фраза стала знаменитой, – достигается безопасность.
Очарование молодости, эти чуть вьющиеся каштановые волосы, ясные глаза, стройная атлетическая фигура, приобретённая за годы жизни в каструме, придавали его речи захватывающую силу, иногда вопреки логике. Взволнованные популяры зааплодировали, разочарованным же оптиматам всё сказанное императором показалось в большой степени утопичным, плодом неопытной наивности. Но все понимали, что объявление намерений часто успокаивает народ, как будто обещания уже исполнены, а поскольку спокойствие римлянам явно необходимо, оптиматы тоже с лёгким сердцем зааплодировали. Все шумно поддержали одного из сенаторов, когда он встал и торжественно произнёс:
– Предлагаю, чтобы эта чудесная речь была высечена на мраморе и выставлена на Капитолии.
Молодому императору эта волна согласия на мгновение показалась искренним коллективным чувством и, возможно, даже любовью – это было венцом его долго вынашиваемых замыслов, местью за отца, рассветом новых дней. Вследствие молодости избавление от замкнутости и осмотрительности было для него высшим освобождением.
– Тебя любят, – шепнул ему Геликон, когда они переходили в амбулакрум[43]43
Аллея для гуляния или плац для маршировки солдат.
[Закрыть], и в его глазах цвета оникса показались слёзы.
Переполненный чувствами, Гай молча посмотрел на Геликона.
В отдалении Луций Аррунций, кремонский сенатор, открыто выступивший против избрания Гая, одиноко сидел на своём месте и видел, как его старые преданные сторонники – неблагодарные – проходят мимо с едва заметным кивком. В тот день он непоправимо подставился. А сенатор Анний Винициан, одарённый исторической прозорливостью и язвительным умом, развлёк коллег, сказав, что самый надёжный способ не выполнять обещаний – это торжественно высечь их в камне.
Тем временем восторженные популяры подчёркивали, что молодой император ни разу не упомянул Тиберия.
– Ни в похвалу, ни в порицание. Единственным напоминанием о нём останутся вернувшиеся из ссылки или вышедшие из заточения.
Среди прочих из римских темниц вышел и Квинтий Помпоний, трагический поэт и будущий консул, семь лет дожидавшийся суда, и когда он появился при свете дня, никто из родственников не бросился обнять его, так как не смогли его узнать. Вышел и легендарный поэт Федр. Он был брошен в тюрьму за то, что написал басню о волке и ягнёнке у ручья, обречённую остаться в некотором роде незабываемой для всех изучающих латынь в будущие века: в волке, искавшем предлог, чтобы растерзать ягнёнка, все увидели Тиберия, а в испуганном ягнёнке – уничтоженную семью Германика. Вышел из темницы и молодой Ирод Иудейский, который при Тиберии неосторожно заявил: «Желаю вскоре власти Гаю Цезарю». Император велел, чтобы его привели, как нашли, в цепях, и, когда цепи упали у него на глазах, приказал – и этот факт вошёл в исторические книги:
– Переоденьте его в соответствии с его рангом. В награду за верность ювелир сделает для него золотое ожерелье, весом равное этим железным цепям.
И оба не представляли, каким горьким способом Ирод выразит свою признательность.








