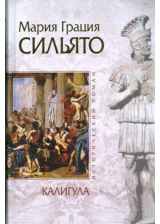
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
ГОДОВЩИНЫ
Наступил первый день августа, календы месяца Августа.
– На рассвете этого самого дня в Александрии, – шепнул Гаю Геликон, – Марк Антоний, твой дед, решил умереть.
Мгновенно вернулось воспоминание о человеке, которого в предсмертной агонии принесли к его царице, чтобы он упал в её объятия. Император снова увидел тот одинокий александрийский дворец над морем с почерневшими от огня стенами и закрытой на засов дверью, высеченное в граните сильное мужественное лицо, лежащее под водяным покровом. Имя Марка Антония всё ещё было в Риме под запретом, и мало кто осмеливался вспоминать о нём. Это имя произносили вполголоса, потому что и через шестьдесят лет оно ещё несло на себе тот позорный приговор за измену и мятеж.
Император погладил Геликона по голове.
– Спасибо за память. Позови ко мне писца.
Пользуясь полномочиями, данными ему сенаторами, коротким декретом он отменил тот древний приговор.
Сенаторы изумились. Большинство расценило этот жест как наивное, возможно, неосмотрительное отдание почестей отцовскому роду. Те, кто посообразительнее, задумались:
«Для своего декрета он выбрал годовщину того самоубийства», – но прочие, чья память поддерживалась злобой, говорили:
– Как Юлий Цезарь посмертно реабилитировал Гая Мария, тогдашнего вождя популяров, так теперь он реабилитирует Марка Антония.
Потом подошёл сентябрь, и на эти дни пришлись празднования в честь морского сражения при Акции, то есть полной и роковой победы Августа над Марком Антонием.
– Рим снова заполняют триумфальные арки, готовятся военные парады, – растерянно сказал кроткий Геликон, словно рассказывал сказку.
Но молодой император созвал городские власти.
– Эти арки не нужны. Верните солдат в каструмы. Этот праздник отменяется и больше праздноваться не будет, – велел он с неожиданной холодной решительностью, ошеломившей исполнителей его указания.
На этот раз отреагировали многие. Оптиматы с гневом: «Это ущемляет славу Августа!» Популяры с гордостью: «Наконец-то восстановлена справедливость к памяти погибших!»
А император вновь увидел перед мысленным взором растерянность отца, когда Германик, глядя на море, проговорил: «С той ли стороны, или с другой, в моих жилах течёт вражеская кровь», – и пресёк всякие разговоры, заявив:
– Это было сражение римлян против римлян. В этом кровопролитии нечего праздновать.
Он подумал, что столько десятилетий назад от любви Юлия Цезаря и Клеопатры родился мальчик, которого отец назвал Птолемеем Цезарем и которого однажды осенним днём Август цинично и предательски убил в Александрии, а потом замарал имя убитого, назвав его незаконнорождённым ублюдком и дав ему презрительное имя Цезарион. Император Гай объявил, что признает законность имени, данного мальчику отцом, и чтит его память. И тут группа благородных сенаторов запротестовала.
А он ответил:
– Юлий Цезарь поставил статую Клеопатры как матери своего единственного настоящего сына рядом со статуей богини Венеры Родительницы, матери рода Юлиев. Надеюсь, вы помните об этом. Весь Рим тогда сбежался посмотреть на неё. Мне говорили, что она была чудесно красива, из позолоченной, сверкающей на солнце бронзы, обнажённая, как и Венера. Но её разломали и переплавили.
Говоря это, он попытался проанализировать про себя грандиозный и таинственный проект, в честь которого Юлий Цезарь воздвиг в сердце Рима статую египетской царицы, и прошептал:
– Египет, августейшая провинция, с которой, как ни с одной другой землёй империи, Рим свяжет себя кровными узами.
В те же дни – с помощью нескольких изощрённых юристов, бывших также убедительными переговорщиками, – быстрыми разводами он освободил своих сестёр от унизительных браков, на которые их вынудил Тиберий, а заодно освободил себя от неравного родства. Общественное мнение инстинктивно одобрило эти шаги; мужья, лишённые доступа в императорские дворцы, стерпели, но не простили. Во всём этом даже самые мирно настроенные из сенаторов усмотрели сногсшибательный политический сигнал. «Здесь всё меняется», – говорили популяры с восторгом, а оптиматы с тревогой.
Но больше всех тревожился могущественный сенатор Юний Силан, который, несмотря на то что его дочь давно умерла, по-прежнему претендовал на роль кого-то вроде величественного и назойливого наставника при молодом императоре.
– Я видел тебя ребёнком, – вспоминал он растроганным голосом.
Но предсказывал коллегам:
– Мы въезжаем на спуск. Нужно поскорее остановить его, или случится катастрофа.
– Тут необходимо соблюдать осторожность, – отвечали ему, – потому что в курии равновесие балансирует на лезвии ножа.
И вот пришли дни тактических проволочек, подпольных обструкций, интриг. И от заседания к заседанию всё ярче проявлял себя большой «мастер» таких штук. Это был великий Валерий Азиатик, искренне почитаемый среди популяров за то, что со своей внушительной внешностью, утончёнными манерами и культурой давно посещал дом Антонии. Но его обширные экономические интересы шли вразрез со старой дружбой. Эту дружбу несколькими словами разрушил почтеннейший, а ныне озлобленный Луций Аррунций.
– Ты боялся неопытности нашего молодого кандидата? – напомнил он всей курии. – Ты гадал, кто внушил ему эту прагматичную речь? И не мог догадаться, потому что он написал её сам. Она родилась у него в голове. И его способности не исчерпываются словами, высеченными в камне, – предсказал он.
Популяры зааплодировали, не уловив скрытого двойного смысла в этом выступлении, изящном примере ловкого бесстыдства при смене идей и позиции.
Первая стычка разразилась, как всегда, по поводу налогов. В страшно расточительных конвульсиях гражданских войн Юлий Цезарь и Август в своё время придумали тяжёлую систему налогообложения, включающую особый налог – один процент с любого вида покупок, – ненавистный с первого же дня, так как прямо и ощутимо задевал скромные расходы беднейших классов. Одно время был риск восстания против этого налога, но потом народ решил не бунтовать, и временный налог стал постоянным. Обычная судьба налогов – он даже усугубился. В последующие века его будут с энтузиазмом копировать и увеличат до гигантских размеров.
Но молодой император обнаружил в своём положении страшную силу и однажды утром, проснувшись, сказал себе: «Действуй без лишних слов». И отменил ненавистный налог.
А чтобы отметить этот свой шаг, выпустил особую монету, предназначенную сохранить память об этом в будущем.
– Вы не должны были позволять ему этого! – кричал Юний Силан на нескольких растерянных сенаторов и крайне встревоженного Сертория Макрона, который в дни выборов погорячился, гарантировав безвредность молодого императора. – Это непродуманное решение открывает дорогу фантастическим реформам, которые то и дело предлагают популяры. Вот увидите, оно повлечёт за собой неисчислимые бедствия, – с досадой предрёк он.
Но среди колыхающихся в негодовании тог популяров выступил Валерий Азиатик и в своей подготовленной речи на хорошей латыни косвенно подсказал:
– Если вы иногда не будете вмешиваться, нам тоже будет труднее возражать вам по другим проблемам.
Все уставились на него. И самые предусмотрительные из оптиматов сообразили, что на этого человека можно рассчитывать.
Но проектам молодого императора не хватало сильных союзников, «принципиальных советников». Формируя свои решения, он начал ощущать вокруг себя пустоту, ему не хватало тех, кого убил Тиберий. Якобы невротические судебные процессы тирана на самом деле расчётливо и методично обезглавливали одну из политических партий. Тиберий, «словно швыряя куски мяса мастиффу, чтобы очистить дом», обрёл безопасность, выдавая оптиматам одного за другим вождей противной партии. Медленная чистка проводилась с таким искусством и так глубоко, что партия популяров уже никогда не поднимется. И не найдётся историков, которые бы честно рассказали о ней.
И теперь молодому императору было не избежать ловушек, хитро расставленных оптиматами на его пути. Все они были намного старше него и гораздо опытнее в лабиринтах власти, видели и пережили дни, знакомые ему только по рассказам. Они происходили из древних родов, участвовали в знаменитых сражениях, торговых переговорах, судебных процессах, обучались законам, вели долгие тайные дискуссии. Гордые люди, традиционалисты и независимые, с большим самомнением. И кроме того, ненавидящие друг друга.
В своё время Тиберий цинично заявил, что мятежи сенаторов – как лягание упавшего на дороге мула:
– Оно опасно, если подойдёшь близко. Но лучше не беспокоиться, потому что этот мул уже не встанет.
И удалился на Капри.
А молодой император оставался в Риме и выслушивал их, когда они вмешивались, предлагали что-то изменить, отменить, слегка подправить. Он с досадой обнаружил, что групповые интересы или личная вражда «tantis discriminibus objectus» – «создают постоянные препятствия» на пустом месте, – эта его фраза впоследствии попадёт в книги историков, хотя и не многих, и её отметят.
Но это были последние слова, родившиеся от почти искреннего страдания. Это чувство быстро перешло в гнев.
«У меня грандиозные планы для всей империи, я потратил на них все дни своей юности, – подумал император, – и вы меня не остановите».
Он просыпался среди ночи и не мог уснуть до рассвета. Однажды ночью он сказал себе:
– Юлий Цезарь тоже предпринимал схожие шаги, но после его убийства они были отменены.
Гай чувствовал себя так, будто физически связан верёвками. Но постепенно он делался опытнее в своих обширных полномочиях, делегированных ему сенатом в первоначальном восторге, и пользовался ими всё чаще, внезапно и наверняка.
И многие сенаторы испугались.
– Слишком многое мы ему доверили...
В давние времена городские магистратуры избирались на комициях, народных собраниях, где участвовали все горожане. Но в треволнениях гражданских войн сенаторы усмотрели в этих свободных голосованиях опасность и мановением руки в большой степени передоверили выбор самим себе. А потом Тиберий вообще отменил выборы.
Вспомнился Клуторий Приск, поплатившийся жизнью за слова: «На комициях вместо голосования устраиваются спектакли». Молодой император без лишних слов заявил Серторию Макрону:
– Будет справедливо восстановить для римлян прямое голосование. Я решил сделать это.
Но промолчал о том, что этим шагом отнимает у сенаторов их самое острое оружие – полный контроль над административными механизмами Рима.
– Сенаторам такое не понравится, – ответил Макрон со смесью ужаса и военной грубости. – Они полагали, что ты не воспользуешься своими полномочиями таким образом.
И осмелился сердито добавить:
– Но ты меня не слушаешь.
Он говорил резко, потому что считал свой вес на чашах весов большим.
Император решил не продолжать спор и подумал: «Тиберий верил, что завоюет Рим восемью когортами. Но вместо этого бросил город в руки подобного типа». Он посмотрел на Сертория Макрона, который в отдалении строго отчитывал своих офицеров: «Не стоит забывать, что его выбрал Тиберий».
Между тем оптиматы не нашли способа отменить его решение, и анархистский закон о прямом голосовании был обнародован.
– Проще разлить воду, чем потом её собрать, – сказал кремонец Луций Аррунций, сенатор, при выборах проголосовавший против.
Теперь он впервые почувствовал удовлетворение.
В память о принятом законе император велел отчеканить необычную бронзовую монету, и в истории революций она вдохновит многих подражателей, поскольку там был выбит pileus – нечто вроде фригийского колпака, венчавшего голову Дианы Свободы, богини рабов, в её храме в Авентине. Этот головной убор был именно символом раба, ставшего свободным человеком. Народ мгновенно понял и полюбил этот образ. Но кое у кого он вызвал страшное отвращение.
– Некоторые отказываются принимать эту монету, – мрачно заявил Серторий Макрон. – Это очень плохой признак.
В третий раз римский император оставлял о себе память, беспорядочно рассеянную по миру и почти не подверженную уничтожению, отчеканенную в бронзе, серебре или золоте, и это порождалось его беспокойством о будущем.
«Во время войн и революций уничтожаются библиотеки, надгробия и статуи. События потом интерпретируют, переписывают и редактируют историки. Но монеты люди собирают, прячут и сохраняют».
ИМПЕРАТОРСКИЙ ВОЛЬНООТПУЩЕННИК
– В этих дворцах происходят невиданные вещи, – прошипел один высокопоставленный чиновник из старинной фамилии Цезарей. – К этому молодому императору больше заходят бывшие иноземные рабы, чем люди римской крови из семей, служивших здесь со времён Юлия Цезаря и ещё раньше...
Впервые явно послышался мятежный тон, и присутствующие осмотрительно сделали вид, что не слышат. Но это было как трещина на стекле – теперь уже ничто не могло стать как раньше.
Между тем среди тысяч членов фамилии Цезарей появился раб Каллист, этот тридцатилетний александрийский грек, рождённый от матери-египтянки, который на Капри доставлял Гаю самые неожиданные и почти всегда трагические известия. Молодой император не мог не вспомнить об этом и сказал о нём Серторию Макрону. Тот сразу предложил «за заслуги» назначить его на работу в имперскую канцелярию.
И снова со вспышкой подозрительности император увидел Сертория Макрона, сидящего в ожидании в портике виллы Юпитера, и Каллиста, который проходил мимо. «Никто так не знаком со способностями Каллиста, как Макрон», – сказал он себе. И забыл об этом.
А Каллист ловко втёрся в эти тайные кабинеты благодаря своим исключительным способностям не только эрудированного писца-полиглота, но и тонкого и всё более опытного выразителя сути пишущихся документов. Всё чаще император хотел его видеть, чтобы продиктовать ему что-нибудь, и выбирал именно его среди целого отряда искуснейших в скорописи писцов. И никто не замечал, как Каллист старается усвоить тонкие механизмы власти, от элементарных до самых сокровенных.
Однажды император обратил на него внимание, когда, диктуя, прервался, чтобы обдумать фразу, а Каллист осмелился шёпотом закончить её. Дерзость невиданная, но еле слышные слова замершего с занесённым каламусом раба оказались именно теми, расчётливыми и коварными, которые искал император.
Для удовлетворения любопытства молодого императора, как в своё время делали это для Тиберия, императорские осведомители установили происхождение загадочного Каллиста, и им показалась правдоподобной история одной очень богатой семьи, разорённой грабежом завоевателей, – история безымянная, как и многие другие.
– В конце концов, – доложили они, – его отправили на величайший невольничий рынок на острове Делос, где его и приметил тот сенатор.
Но когда император спросил самого Каллиста о его прошлом, тот осторожно ответил:
– Беды восстания обрушились и на мою семью.
Император поинтересовался, где это случилось.
– В окрестностях Хайт-ка-птах, Города Духа. Римляне называют этот город Мемфисом, – коротко пояснил грек. – Но теперь боги отплачивают мне за все мои страдания.
Упоминание о Мемфисе отвлекло императора от его мыслей и вызвало ностальгические чувства. Письма, направляемые в ценную египетскую провинцию – а практически в огромную личную императорскую вотчину от Александрии до Фил, – сначала попадали в руки Каллиста, а постепенно и прибывавшие оттуда послания стали прочитываться им, и всё чаще он толковал их, с тайной тревогой со дня на день ожидая личного освобождения и влиятельнейшего положения императорского вольноотпущенника.
Но Серторий Макрон сказал, что этот раб заслуживает большего, «а также, чтобы лучше его использовать», он предложил дать ему свободу по редкой привилегированной процедуре, когда цепи не размыкаются, а физически разбиваются на наковальне, – по римским законам это означало, что он никогда не был рабом, и позволяло подняться на самые верхние ступени социальной лестницы. Так и было сделано.
Мысли императора стали опираться на быстрый и изворотливый ум молчаливого Каллиста, так как по всякой проблеме он выдавал своё соображение, уместно подчёркивал какой-либо тезис, и это зачастую преображало саму проблему. И он создавал ощущение спасения от опасности. Придворные видели, что всё чаще грека вызывают в императорские покои.
– Вот и советник принцепса.
Его никто не любил. Довольно скоро даже Серторий Макрон, пользовавшийся им на Капри как преданным шпионом, начал его ненавидеть.
Но чтобы успокоить подозрения, Каллист имел неопровержимый аргумент: «Тиберий хотел меня убить, и жизнь мне спасла только астрология Фрасилла».
Однажды император сказал ему и Макрону:
– Наши сенаторы носят в душе столетнюю ненависть. Невозможно править.
Сенаторское кресло на практике переходило от отца к сыну, богатые и могущественные фамилии сами по себе издревле делились на фракции, и изменить что-либо не оставалось никакой надежды. «Curia popularibus claus est» – «Курия закрыта для популяров», – говорили в народе.
– Здесь необходимо влить новую кровь, – подчеркнул император, – заставить избрать новых людей, из дальних провинций. Империя обширна, у неё тысячи голосов. В Риме должны говорить они все. Ещё Юлий Цезарь видел необходимость реформы. И проводил её.
Перед ним сидели Макрон и Каллист. Префект смотрел с тупым изумлением, а проницательный грек настороженно молчал. Молодой император, которому больше не с кем было посоветоваться, почувствовал разочарование. Но Серторий Макрон не сдержался и вдруг выругался:
– Это огромный риск. Шестьсот сенаторов тебя сбросят. Через день ты получишь шестьсот врагов.
– Не все шестьсот, – ответил император, сдерживаясь, чтобы голос звучал спокойно. – Те, кто сегодня в меньшинстве, завтра будут большинством. Юлий Цезарь за короткое время ввёл двести новых сенаторов. У нас никогда не будет мира, если миллионы людей чувствуют себя подданными, а не равными нам.
Застывший Каллист с некоторым страхом подумал, что чистый и живой ум императора беззащитен против мечтаний. Но Серторий Макрон отреагировал буйно:
– Если при выходе отсюда я встречу Юния Силана, человека, выдавшего за тебя свою дочь, обеспечивающего верность тебе своих сторонников и, хотя эта несчастная умерла, чувствующего свою ответственность направлять тебя, и скажу ему, что ты хочешь этой своей идеей уничтожить большинство...
Глаза императора расширились, зрачки уставились на префекта. Серторий Макрон поколебался, в душе возникло ощущение, что всё пропало, но взгляд императора смягчился.
– Возможно, ты прав, – ответил он, потом покачал головой, словно упрекая себя, и улыбнулся. – Пусть всё остаётся как есть.
Но в голове его засело неосторожно вырвавшееся у Макрона слово: «Направлять...»
Каллист за всё это время не сказал ничего.
И всё же император не отказался от своей мысли. Только через много веков – когда в сердца людей начнут проникать мечты о великих сообществах равных между собой народов – станет видно при внимательном чтении имён, что тогда начало реализовываться именно это ненавистное введение «новых людей». Но молодой император дорого заплатил за свой незавершённый замысел.
МОДЫ
– Похоже, вернулись времена Юлия Цезаря и Клеопатры, – ворчали старые сенаторы.
Во времена той скандальной любви блестящие моды фарцонского двора градом обрушились на всё ещё простоватое римское общество, где за два века единственным изменением в одежде был переход от простой toga restricta в эпоху Республики – портреты тех времён изображают облачённых в тоги персонажей, застывших в одной и той же позе с рукой, согнутой на уровне локтя, – к toga fusa, просторной, задрапированной в складки и сложные ниспадающие каскады, в эпоху империи. Несмотря на это, тога, по сути дела, оставалась не чем иным, как просто закруглённым снизу куском материи, и надеть её было довольно сложным делом, почти искусством, и требовало помощи опытного раба, чтобы добиться того величественного эффекта, которым мы восхищаемся в мраморных римских статуях времён империи.
Но даже такие скромные нововведения казались кое-кому распущенностью. И действительно, уже знаменитый Теренций Варрон – который помимо участия в разных войнах нашёл время написать «Энциклопедию наук» и многое другое (всего, согласно его биографам, шестьсот книг) – сетовал на чрезмерную роскошь в одежде. «Веками, – писал он, – мужчины и женщины носили toga restricta и ничего другого, с утра до вечера...» И потому после разгрома Клеопатры и Марка Антония многие одобрили жёсткие законы Августа об ограничении роскоши, запрещавшие дорогие заморские ткани. Сам же Август, боявшийся холода, измученный кашлем и хроническими простудами, прежде чем облачиться в императорскую порфиру и выйти в мраморные галереи дворца, зимой закутывался в шерстяное одеяло поверх вязаной сорочки и трёх или четырёх толстых туник, сшитых служанками.
Прядение простой белой шерсти в течение веков было исключительно домашним промыслом, и всякая хозяйка была обязана владеть этим ремеслом. «Сидит дома, прядёт шерсть», – говорили о женщине, что у древних (интересно отметить) считалось большой похвалой. В лучшем случае вместо поступавшей с каменистых пастбищ Лация грубой шерсти выбирали хорошую шерсть, привозимую из Канозы Апулийской. Позже появилась мягчайшая милетская шерсть из Ионии – кашемир тех времён. И цены потрясали.
Но молодой император имел вкус к изысканным вещам из Эллады, Сирии и Египта. А в доме Новерки и на императорской вилле на Капри он вкусил горькую и мелочную экономическую зависимость вплоть до минимальных расходов на одежду. Потому-то в императорских палатах быстро появились и распространились собранные с молодым энтузиазмом скандальные восточные моды, причёски, складчатые одежды, прозрачные кисеи, ожерелья и браслеты, изящные пояса, парики. Пышные туники, хламиды, платья, мантии, а также балдахины, подушки и сандалии поражали сотнями расцветок из красилен Пелузия и Буфоса.
Сенаторы с тревогой и изумлением обнаружили, что император в частной жизни носит туники греческого покроя, длинные и тонкие, с широкими рукавами до запястий, хотя такие одеяния неизвестно почему считались в Риме, даже зимой, неприличными. А летом они с возмущением увидели, что император носит одежды из египетского льна с искусно задрапированными складками, заглаженными раскалённым утюгом, чтобы не давать материи прилегать к коже. И вся римская золотая молодёжь бросилась страстно ему подражать – это был реванш вседозволенности, прорыв собственной индивидуальности.
Сенатор Луций Аррунций с возмущением рассказывал, как сын заявил ему:
– Я не могу одеваться, как ты.
И отец, тщетно пытаясь соблюдать рассудительность, спросил:
– Что же тебе мешает?
– Мои представления, – ответил сын. – Населённая людьми земля больше и разнообразнее, чем вы можете себе вообразить.
Пожилые пришли в ужас, узнав, что император влюблён – буквально – в шёлк, драгоценный, неощутимый, блестящий. Его пряли из растений, как хлопок? Или из руна неизвестных животных? Или из какой-то слизи вроде паутины? Шёлк прибывал неизвестно какими путями в египетские порты на Красном море, в Египет привозили пряжу, окрашенную, как лён, в самые чудесные цвета. И император носил живописные плащи из пурпурного шёлка более тонкой работы, чем ткани, созданные самой нежной и ровной рукой. Летними вечерами он надевал шёлковые туники, лёгкие и приятные в противоположность невыносимым плотным тогам, как сегодня носят рубашку от модного портного вместо непроницаемого пиджака из синтетической ткани.
Часто гладкий шёлк украшали каймой и квадратиками, дорогими вышивками – плодами терпеливого труда – или несравненным золотым шитьём. В специальных школах в Канопе ремесленники учились вышивать ветки, бутоны, сверкающие цветы, которые даже на ощупь казались настоящими, водяные растения, птиц, павлинов, крокодилов с купидонами, всяческие эротические сцены и всю нильскую мифологию. Женщины добивались красоты в новом духе – экзотической и чувственной.
– Скоро будем покупать одежду на краю света, – ворчали отцы семейств, видя, как сыновья и дочери выходят из дому, вырядившись подобным образом, и были правы, потому что никто на Западе не умел воспроизвести эту чудесную пряжу.
Мода распространялась с неудержимой быстротой и становилась чем-то вроде социального бунта, отчётливой идеологией, и она ещё не раз сыграет эту роль в последующие века.
А кое-кто перед всей курией объявил, что молодой император разлагает нравственность. Его упрекали также за обувь: раньше он носил калиги, очень жёсткие, подбитые гвоздями, со шнурками из грубой кожи, которые натирали пальцы и лодыжки, а теперь его не удовлетворяла обычная римская обувь – неизменно чёрные сенаторские ботинки или мрачные императорские сапоги. Когда ему хотелось, он надевал лёгкие сандалии на греческий манер, а иногда даже коварные котурны на пробковых подошвах.
Однажды на официальную церемонию он надел – что было тут же отмечено, и это описывали через два века – лёгкий парадный панцирь тонкой, ювелирной работы, сделанный неизвестно когда каким-то греческим или сирийским ювелиром. Говорили, что раньше этот панцирь принадлежал Александру Македонскому. В соответствии с военными обычаями на панцире была серебряная и золотая насечка, особенно на плечах, а поверх него император накинул хламиду из пурпурного шёлка, тоже украшенную золотом и привезёнными из Индии самоцветами.
В некотором роде молодой император предвосхитил моду времён Византийской империи, когда никто, даже монахи, не смели критиковать пышные, цветные, расшитые, украшенные драгоценными камнями одеяния, которые грубоватый христианин Юстиниан, сын варвара-земледельца, надевал на богослужения в Святой Софии и на пиры в хризотриклинии.
Но молодой Гай Цезарь во многом опережал своё время: он сочетал изысканную эксцентричность в одежде со смелой политикой. По справедливости он мог бы стать Королём-Солнце[44]44
Король-Солнце – французский король Людовик XIV.
[Закрыть] или Джорджем Браммелом[45]45
Джордж Брайан («Красавчик») Браммел – родоначальник дендизма.
[Закрыть], но враждебные историки представили эти новшества как распущенность, чем он и стал известен в истории.








