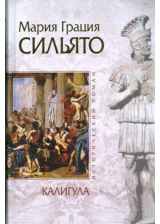
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
IV
ОСТРОВ КАПРИ

ВИЛЛА ЮПИТЕРА
Неожиданно император повелел, чтобы последнего сына Германика немедленно доставили на Капри. «Немедленно» по приказу императора означало покинуть дом Антонии в течение часа, так же как в своё время Гая вырвали из ватиканской резиденции, чтобы заключить в доме Ливии.
«Как моего брата Нерона, – подумал Гай. – Его пригласили, подловили и убили».
От этой мысли его обдало ледяным холодом, возник порыв бежать, повторить тщетную попытку Друза. Гай сам отметил, сколь глупа эта мысль: бежать от воли Тиберия можно было лишь путём самоубийства. Но эта мысль увлекала молодость. Антония, заметив перемену на его лице, обняла его с обволакивающей нежностью и шепнула:
– Чувствую, тебе не нужно бояться. У Тиберия остался ты один.
Эти, казалось бы, бессмысленные слова, однако, успокоили его. Ему шёл двадцатый год. Гай прильнул к Антонии, в ней текла мучительная смесь кровей – Октавии, несчастной сестры Августа, и Марка Антония, его самого ненавистного врага. Гай оставался единственным человеком, в котором ещё жили эти древние, трагические силы.
Престарелая матрона почувствовала, как юноша прижался к ней, и, понимая его тревогу о предстоящей поездке, повторила:
– Не бойся, держись...
В страшной игре со смертью, видимо, действовали и какие-то ещё неизвестные интересы.
– Помни, что, когда Тиберий запретил мне присутствовать на похоронах твоего отца, я ответила, что всё равно это было бы выше моих сил, и поблагодарила его. И плакала в одиночестве.
Гай выскользнул из её объятий и сказал:
– Я не боюсь. А теперь мне пора уезжать.
Молодые царевичи-заложники всей толпой пришли попрощаться, они испытывали искреннюю печаль, но на виду у преторианцев держали свои мысли при себе. Лишь Рометальк, который за несколько недель до того руководил оргиастическим ритуалом, без колебаний сказал по-гречески:
– Взгляд богов следует за тобой, так как ты насытил их удовольствие.
Он хотел, чтобы это звучало намёком на оргию или пошлой шуткой, но его слова напомнили о тайном союзе, договоре о будущем перевороте.
Гай с улыбкой удалился. Он ступил на землю Капри ярким днём позднего октября.
– Последние деньки, прежде чем время прервётся, – пророчествовал во время поездки кормчий быстроходной биремы[34]34
Галера с двумя рядами вёсел.
[Закрыть].
Первым и неожиданным ощущением был опьяняющий своим несравненным ароматом воздух. На молу с безупречной военной чёткостью Гая встретил трибун, офицер высокого ранга, за которым следовал пышный эскорт императорской стражи, августианцев. Трибун предложил гостю сесть на коня, посмотрел, как тот это проделал, и похвалил за уверенную манеру, но потом прибавил:
– На этом острове водятся только спокойные лошади с лёгким костяком. Не позволяй коню переходить в галоп.
Без улыбки. И больше ничего не говорил всю дорогу.
Миф о недоступном острове уже подчинил себе личность Тиберия. Изнурённый подозрительностью, император воплотил в вилле Юпитера никогда раньше не виданную архитектурную идею: воздвиг строения последовательными уступами по склону до вершины самой неприступной на острове скалы, окружённой непреодолимыми обрывами.
И вот, в конце долгого подъёма, где неожиданно открылась окружённая портиком площадка, трибун коротким чётким жестом оставил эскорт позади и остановил коня прямо перед огромным атрием с четырьмя колоннами – знаменитым и строго охраняемым входом в императорский дворец. В неправдоподобной тишине подбежали слуги. Гай без посторонней помощи соскочил на землю. Трибун посмотрел на него. Они вошли.
«Море мрамора», – говорили изумлённые гости, те, кто имел возможность это увидеть. В самом деле, пол и стены до самого потолка, опиравшегося на четыре огромные колонны, покрывали роскошные инкрустации. Всё пространство было совершенно пустым, если не считать неподвижных августианцев на страже. Гай видел, что, не меняя положения, они внимательно следят за каждым его шагом от входа. И его мысли провалились в прошлое, как будто он шёл рядом с отцом; это было великолепное ощущение. Видимо, его ждали, и все знали, кто он такой.
Трибун обернулся и, указав пальцем на только что пересечённый порог, предупредил:
– Выходить отсюда без разрешения императора запрещено.
Значит, это тоже была тюрьма, как дом Ливии, а потом Антонии. Заточение длилось уже больше трёх лет.
– Путь следования императора, – указал трибун, – его нельзя загораживать.
Только император проезжал здесь верхом с очень немногочисленными гостями, которым позволял следовать за собой.
С левой же стороны атрия открывалась мраморная лестница, и она терялась наверху за широким поворотом, отчего создавалось впечатление олимпийской недосягаемости, которое подавляло пришедшего.
Но у Гая, в детстве повидавшего строения и храмы властителей Египта, как удар кинжалом, возникло единственное чувство: что ему, сыну Германика, предстоит взойти по этим ступеням. Он ступил на первую. И подумал, что его брат Нерон шёл тем же путём. Они начали подниматься, и с каждым поворотом, с каждой площадкой справа и слева открывались галереи и криптопортики, ведшие в залы, где бесшумно сновали придворные. За уровнями для свиты следовала головокружительной высоты скала с пристроенными портиками и балконами. Повсюду неподвижно стояли бдительные августианцы с непроницаемыми взорами.
Трибун шагал в неизменном ритме.
– Здесь будут твои комнаты, – проговорил он у одного поворота, и Гаю подумалось, что по крайней мере какое-то время ему ещё суждено пожить. Он было остановился, но трибун шагал дальше.
Новые ступени. Вдали виднелись термы, о которых в Риме ходили смутные слухи. Между тем чередование нижних этажей закончилось, помещения становились всё просторнее и роскошней, здесь были бронзовые статуи, виднелись обширные мозаики, разноцветные инкрустации, но кругом царила тишина и стояли на страже августианцы. По бесконечным мраморным полам мимо быстро и бесшумно проскользнуло несколько слуг и чиновников.
– Отсюда управляется империя, – сказал трибун.
И распахнул двери в зал для императорских аудиенций – величественный полукруг, на который выходило пять других пышных залов, расположенных как бы вокруг оси в основании полукруга, где возвышался императорский трон.
«Никогда не видел ничего подобного – словно протянута циклопическая рука с пятью пальцами и ладонью, а в основании, на месте запястья, сидит император», – рассказывал один посол и признавался, что от эмоций его тщательно обдуманная речь превратилась в сбивчивый лепет.
Из зала шёл неожиданный, совершенно прямой прорубленный в скале проход, в конце которого открывался чудесный вид на залив.
– Входить туда запрещено, – сказал трибун. – Туда ходит только император.
Ничьих других голосов не слышалось. Последний и самый высокий пролёт лестницы был совершенно пустынен. Через равные промежутки в победоносной наготе стояли на пьедесталах великолепные статуи молодых полубогов, воинов, атлетов, созданные греческими мастерами времён золотого века Греции. На всей вилле не было ни одного женского образа.
Гай с трибуном подошли к вершине. На самом верху был построен зал, который с драматической неожиданностью смотрел своими арками на террасу с колоннадой, экседру, выходящую на бурное великолепие моря. На чистом мраморе свет казался нестерпимым.
Трибун провёл Гая к порогу экседры и остановился. И вот в первый раз Г ай вблизи увидел того, с кем его мать никогда не встречалась и кого издали называла родосским изгнанником и царственным отравителем. Он стоял под полуденным солнцем; рядом выстроились трое-четверо придворных. Ростом император был выше остальных, что придавало его образу ещё большее одиночество. Говорили, что на днях Тиберию исполнилось семьдесят три года. Его грудь была необычайно широка, и, несомненно, в молодости он обладал незаурядной силой. Император плотно сжимал губы, лицо его выражало прирождённую свирепость, которая отразилась в тысячах портретных статуй и монет. Но на коже его там и сям виднелись красноватые пятна – знаки какой-то хронической кожной болезни, – и эта отталкивающая подробность придавала ему человечности. За спиной Тиберия колонны, море, острова, далёкий берег, небо – все вместе создавали ослепительный пейзаж.
Он смотрел на приближение молодого Гая. Его прямая осанка напоминала о годах, проведённых в армии, о страшных кампаниях в Иберии, Армении, Галлии, Паннонии, Германии, в самых кровавых уголках империи, где воевал этот великий солдат, хотя победы его перемежались кровавыми I поражениями. У него были большие руки с тяжёлыми пальцами, и говорили, что их хватка смертельна. Император молчал.
Историки скажут, что всегда, а особенно после избрания императором, все его чувства, стремления, желания были спрятаны за непреодолимым барьером скрытности. Но за этой защитной подозрительностью работал мощный ум, ясный и холодный, распознававший обманы и опасности. Когда его личные обиды и мстительность молчали, он принимал решения после долгих одиноких размышлений. Его отношение к ответственности за империю характеризовалось неизменной преданностью, отсюда рождалось твёрдое руководство главами провинций, внимательное к мелочам, маниакально экономное, однако по существу справедливое и эффективное, поскольку он опирался не на блестящие озарения, а на упорство и прилежание. Август со свойственной ему дальновидностью распознал в нём эти качества. Но власть была единственным жизненно важным объектом чувств Тиберия, и её завоевание было одной тяжелейшей битвой на уничтожение. В нём жило постоянное инстинктивное презрение и недоверие к ближним, вечная память на обиды, нерушимая ненависть к врагам, прирождённая способность убивать без угрызений совести. Он совершенно не знал жалости; устрашение врагов вызывало у него удовлетворение, близкое к сладострастию, и никакие средства, никакие жестокости не казались ему чрезмерными. Сея вокруг ненависть, он ощущал необходимость устранять всякую возможную опасность для себя. И уже психологически скрутив себя в тугую спираль уничтожения, по-человечески одинокий, он оказался и физически изолирован на скалах Капри. Потому находиться рядом с ним было крайне опасно.
Тиберий посмотрел на молодого Гая, и у тех, кто собрался поздороваться с ним, от ненависти в этом взгляде пересохло в горле. И тогда, впервые в жизни, Гай наклонился, подобрал полу пурпурной мантии и в полной тишине медленным истовым жестом поднёс её к губам и поцеловал. В свежем ветерке острова, как в своё время в доме Ливии, юноша ощутил затхлый запах залежалой шерсти. С высоты своего роста император, едва заметно вздрогнув, всё так же молча посмотрел на слегка вьющиеся на затылке прекрасные каштановые волосы последнего сына Германика.
Гай поднял голову. Ничего не сказав, император жестом отпустил его. Тем же жестом, каким его отпустила в первый день Новерка. Трибун проводил Гая до выхода.
СКАЛА ТИБЕРИЯ
В молчании спускаясь вниз, Гай не знал, что теперь ещё долго ему не разрешат вновь подняться на верхние этажи. В этом ограниченном, управляемом наподобие тюрьмы дворе для избранных, куда его забросила катапульта судьбы и где единственной радостью были тайные пороки, о которых шептались в коридорах, забота о выживании заставила Гая сократить жесты и слова до необходимого минимума. Он никого здесь не знал и говорил себе, что ни о чём не может спрашивать и ничему не может доверять.
Весь остров был императорской собственностью, также как Пандатария и Понтия, и никакой иностранец не мог здесь высадиться. Море, колотящее по неприступным скалам, было зыбкой тюремной стеной. Корону виллы Юпитера – тесной, нелепой столицы – составляли двенадцать зданий. Но Гай бродил по коридорам виллы, не выходя за пределы атрия. Его двусмысленное положение гостя и узника, трагическое наследие фамилии, память об убитом брате вынудили предоставить в его распоряжение троих испуганных рабов. Он понимал, что, прислуживая ему, они не знают, увидят ли его снова на следующий день. Его спрашивали, чего ему угодно, и он принципиально предпочитал местную морскую рыбу, фрукты и медовые пироги.
– Пища ребёнка, – растроганно говорили на кухне.
Но часто после нескольких кусочков его тошнило.
Потом он покидал свои комнаты – Тиберий выделил ему жильё не такое унизительное и убогое, в каком он проживал у Новерки, и Гай испытывал облегчение, почти благодарность, глядя невидящими глазами на непостоянные красоты садов, свинцовых скал, морских бухт и двигаясь рассеянной походкой, которую отметили ещё в доме Ливии. За спиной ощущались глаза неутомимых надзирателей, но день за днём он начал создавать в уме архив лиц и повадок, чтобы понять, насколько и с кем можно чувствовать себя относительно спокойно, ознакомился с распорядком, привычками, надзором. С Тиберием он больше не виделся.
И в какой-то момент, когда Гай, считая, что находится в одиночестве, глядел на море в западном направлении и пытался различить там тень Пандатарии – острова, где была заточена его мать, к нему подошёл императорский вольноотпущенник. Германик когда-то говорил сыну: «Остерегайся их. Они были рабами и молили богов освободить их, даровав смерть. А теперь, получив власть, живут лишь затем, чтобы удовлетворить свою ненависть».
С неожиданной сердечностью слуга пригласил Гая прогуляться к странному месту, и Гай с кроткой улыбкой согласился.
– Падение отсюда означает смерть, – сказал его спутник.
Гай обернулся и выдавил улыбку, но не весёлую, а вымученную.
– Процессы, – пояснил бывший раб, – устраиваются не только в Риме. В особых случаях император хочет познакомиться с обвиняемыми и судить их лично ради безопасности империи...
Он замолк, глядя на юношу.
Гай, ничего не знавший о тайных тюрьмах и казнях на Капри, ощутил, как тревожно свело живот.
– Понимаю. Рим далеко, – ответил он.
Ему помог его юный возраст, а также репутация наивного юноши, приобретённая в доме Ливии, отчего собеседник расслабился, но всё же сказал многозначительно:
– Если кто-нибудь упадёт вниз и останется жив, подплывёт морская стража, подцепит его абордажными баграми и забьёт вёслами.
Юноша вытаращил глаза, но через мгновение тупо, словно не понял, наклонился, чтобы рассмотреть место, которое прославится в местных легендах как «скала Тиберия», и с улыбкой сказал:
– Даже голова кружится, когда смотришь вниз.
Смотревший не вниз, а на него провожатый раздражённо ответил:
– Вернёмся. Ветер поднимается.
И надзирающие за Гаем шпионы доложили Тиберию, что его узник никогда не говорит и не спрашивает ни о матери, ни о своём брате Друзе. Он ни разу о них не упомянул – возможно, как написала Ливия, его ум был так ничтожен, что даже не мог вообразить их судьбу, да она и не имела для него значения.
Между тем Гай обнаружил, что на вилле, как и в Палатинском дворце, имеется тихая библиотека. Ему позволили ею пользоваться, он поблагодарил, подумав, что его репутация чудака не от мира сего, страстного и безобидного любителя чтения была хорошо описана шпионами. Спустя годы он пошутит, что половину юности провёл, сидя среди книг.
Библиотека не подвергалась надзору и казалась заброшенной. Библиотекарем был рассеянный и меланхоличный сириец, который появлялся каждые два-три дня, чтобы, проведя пальцем по столам, показать рабам, где необходимо вытереть пыль. Больше ни души в библиотеку не заходило. Гай осмотрел полки и с разочарованием увидел там одни труды по музыке и наукам, а также бесконечное множество туманных писаний по магии и астрологии, почти все по-гречески. Но потом кто-то сказал ему, что император любовно собирает всех великих греческих классиков, а особенно Фукидида, созвучного ему по суровому темпераменту и категоричности суждений, в свою личную библиотеку – примыкающее к его комнате наверху маленькое роскошное помещение, полное изысканнейших и редких папирусов.
Гай задался вопросом, кто и с какой целью собрал эту кучу никому не интересных писаний. Потом заметил один очень старый свиток, хранившийся в древнем футляре из полированной древесной коры. Он вынул свиток из тубы и на бирке с названием прочёл по-латыни: Libri Pontificum – «Жреческие свитки». В этой сухой скрипучей рукописи, о которой все говорили, хотя никогда её не видели, были собраны благословения, заклинания, заговоры от порчи и для снятия злых чар, древнейшие магические формулы, которые веками произносили жрецы и полководцы, чтобы вымолить победу, принося жертвы перед сражением.
«Divi divaeque, qui maria terrasque colitis, vos precor quaesoque...» – «Боги и богини, обитающие в море и на земле, прошу вас и вопрошаю...» И такие чтения предпочитал холодный Тиберий? Мольбы о победе, о разгроме врагов и безжалостной их смерти? Побед в эти века было много, много было разбитых и убитых врагов. И Тиберий возносил такую молитву, когда велел убить Германика? Неужели действительно в этих древних словах заключалась неодолимая сила? Где-то существовал Некто или Нечто, к кому или к чему можно воззвать? Гай снова скрутил свиток, чувствуя жалость к самому себе от этих мыслей.
И тут увидел засунутую в маленький шкафчик знаменитую книгу Веллея Патеркула, которую в Риме Тиберий изъял и уничтожил (несмотря на великую и подобострастную дружбу автора с Августом), так как много лет назад Патеркул описал первое жестокое восстание в Германии, которое Тиберию не удалось подавить. Неужели его злобная зависть к молодому Германику произросла из этого давнего поражения? Но тут Гай испугался, что эта заброшенная книга – ловушка для него, и положил её в приоткрытый шкафчик, хотя и горел любопытством прочесть. Вместо этого он занялся халдейской астрологией в плохом греческом переводе. Вернувшись в библиотеку позже, он с облегчением увидел, что в шкафчик с книгой Патеркула никто не совался.
Всю солнечную осень после гибели Элия Сеяна Гай проводил дни в портике за чтением. Придворные наблюдали за его постоянным молчанием, его склонностью к одиночеству, его любовью к древним серьёзным книгам. С любопытством и восхищением они смотрели, как он погружается в трактаты Аристоксена Тарентского о музыке, а ещё больше в труды того самосского астронома, который три века назад выставил себя на всеобщее посмешище, написав со многими расчётами, что Земля круглая и за один год обходит вокруг Солнца.
Его странная репутация любителя литературы, родившаяся в доме Новерки, здесь получила зримое подтверждение и всех успокоила. Как и в Палатинском дворце, его начали на всё более долгое время оставлять в покое. Возможно, Тиберий больше не считал его достойным смерти. Это был прилив полного счастья, но, не двигаясь и ничего не говоря, Гай видел все запертые в мозгу императора опасности. Потому, помня тех трёх сенаторов, которые, спрятавшись под крышей, подслушали речи бедного Татия Сабина, тщательно следил за каждым своим жестом, даже когда закрывался у себя комнате один.
Его начали приглашать на обед чиновники высшего ранга, расспрашивать о его чтении, и он давал объяснения с разными хитроумными подробностями, так что они только диву давались. Странные астрологические истории казались забавными, и их слушали многие, а потом Гай уходил и снова спокойно усаживался в портике.
Но однажды он обнаружил в содержащейся в безупречном порядке библиотеке выложенный почему-то на стол маленький изящный кодекс, красиво переплетённый, с застёжками из позолоченного серебра. Надпись на ярлычке полустёрлась – быть может, намеренно. Виднелись лишь два слова: «Публий Овидий...» Гай снял футляр и замер, затаив дыхание. Это была элегия, начинавшаяся с заголовка «Понтийская», и этот экземпляр посвящался его отцу Германику. Что крылось за непонятным изгнанием Овидия, прекраснейшего поэта, за его бесполезными мольбами к Августу, за его смертью в отчаянии и одиночестве на печальных берегах Понта? И почему этот экземпляр книги оказался в императорской библиотеке? Что произошло втайне от непосвящённых?
Он взволнованно начал перелистывать страницы, но тут ощутил за спиной какую-то тень: именно так – писал один поэт, которого цитировал Залевк, – тебя касается спешащая мимо судьба. Однако это оказался молодой египтянин, которого война обратила в рабство, но за изысканную внешность и изящество манер его удостоили чести служить при императорском дворе. Гай замечал его раньше, поскольку его глаза неосознанно искали моментов утешения. С виду египтянину ещё не исполнилось двадцати. Он был раб, который не мог ничего решать в своей жизни. Повинуясь какому-то импульсу, Гай спросил юношу по-гречески, откуда он. И тот на беглом греческом ответил, что приехал из Александрии и что зовут его Геликон. У него были большие, глубоко посаженные глаза цвета оникса с чистыми белками, как на картинах в древних храмах. Одет он был в лёгкую короткую тунику и пару золотистых сандалий.
Гай сказал:
– Я был в Александрии, Саисе и Юнит-Тенторе, – и доверительно добавил: – С моим отцом.
Раб тут же ответил:
– Весь Египет помнит об этом.
Эти слова тронули сердце Гая, но он подумал, что, возможно, этого молодого египтянина подготовили. Тем не менее он сказал, что очень полюбил пустыню.
Раб вежливо ответил, что пустыня прекрасна, но и страшна.
– Если судьба заставляет тебя пересечь её, нужно знать, где найти тень пальмы.
Гай положил кодекс; один лист упал на пол. Молодой раб быстро опустился на колени, чтобы поднять его. Лёгкая белая туника подчёркивала его изящество. Юноша деликатно положил лист на стол.
– Это я оставил его здесь, – прошептал он, – когда вытирал пыль.
Его рука была гибкой, смуглой, с длинными пальцами. По-прежнему стоя на коленях, он сказал:
– Юнит-Тентор – это великий храм. Отец рассказывал мне, как один верующий заболел и, ища исцеления, провёл там ночь в молитвах. И вдруг увидел – это был не сон и не видение, потому что глаза его были открыты и ясны, – увидел фигуру выше человеческого роста, неописуемую божественную фигуру, которая склонилась над ним и осмотрела, а в руке её была книга. Через мгновение фигура исчезла. А он дрожал, весь обливаясь потом, но лихорадка исчезла. И болезнь прошла.
Гай слушал и не мог удержать недоверчивой улыбки. Юноша в замешательстве поднялся на ноги, а Гай дружелюбно проговорил:
– Я слышал другие подобные рассказы в Саисе.
Раб сказал, что в землях к югу от Саиса, возможно, ещё остались священные папирусы с предсказаниями судеб.
– В том числе и твоей. Но я не знаю, как их прочесть. Помню только, что нужно разложить двадцать девять молодых пальмовых ветвей на жертвеннике, столе Исиды...
Гаю подумалось, что для раба разговаривать с сыном Германика – всё равно что для потерпевшего кораблекрушение ухватиться за доску.
Но юноша невинно продолжал:
– Один человек, которого одолевала тревога о будущем, попросил жрецов дать ему спуститься в подземелья. Они сжалились и разрешили. И там этот человек впал в магический сон: он увидел, как священный корабль богини пересекает лик неба... и голос велел ему освободить сердце от тревоги, потому что против великих врагов есть могущество Исиды, госпожи с бесчисленными именами...
Гая охватило желание спросить у египтянина, жив ли ещё его отец, передавший эти рассказы, но потом он подумал: «Мой отец узнавал судьбу в Самофракии и в Милете, и ему не принесло пользы знание, что жизнь его будет короткой...» Его снова охватило подозрительное беспокойство, и он притворился, что углубился в чтение.
Раб бесшумно выскользнул прочь.








