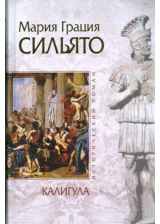
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)
МУСКУЛЫ (ОСАДНЫЕ МАШИНЫ)
Вечером император сидел за ужином в претории. В мышцах не чувствовалось тяжести после поездки, и он констатировал, что пока испытывает лишь облегчение и никакого волнения.
Сидевший слева от него Сервий Гальба, новый командующий фронтом на Рейне, почтительно поднял кубок с вином.
– Твой отец поступил бы так же, как ты, – коротко сказал он. – Но наездник ты, может быть, даже лучше его. Только ты мог покрыть все эти мили за столько дней.
– Меня посадил в седло трибун Гай Силий, – вспомнил император, и это имя взволновало обоих.
Историки напишут, что за немногие годы своего правления Гай Цезарь проехал миль больше, чем многие правившие за гораздо более длительный срок. Он не поддавался усталости поездок, скачки, плавания по неспокойному морю, встречал в пути солнце Сицилии и зиму на Рейне. Так,свободно разъезжая, неожиданно появляясь там и тут, как его учил Германик, он узнавал реальное положение вещей, не замаскированное официальной помпой. Его наезды некоторых пугали, а у многих вызывали восторг. Император заботился, чтобы имперские дороги способствовали быстрому движению, и, если находил пыль и грязь, страшно гневался на чиновников, следящих за содержанием дорог, которые больше других избегали контроля над расходуемыми средствами. Одному небрежному квестору, который не следил за римскими улицами, по его приказу солдаты заляпали тогу грязью[60]60
Этот случай вошёл в историю, потому что этим небрежным квестором (или эдилом) был будущий император Веспасиан.
[Закрыть]. Этот случай разнёсся по легионам, которым приходилось месить много грязи.
Среди рейнских легионов запахи, голоса, отдалённые звуки буцин (боевых труб, означавшие смену часовых в ночном дозоре), приказы, передававшиеся по обширному каструму трубой или сигнальным рожком, возвращали его в знакомый мир – и конечно, здесь он спал хорошо.
– Хорошо, что ты здесь, – сказал Гальба. – Это слабый фланг империи. Ты успокоил границу на Евфрате, но на этой границе никогда ничто не успокаивается. Если когда-нибудь, дет через четыреста, враги, даже названия которых мы сегодня не представляем, прорвут рубеж, пределы империи, очерченные Августом, и пойдут на Рим, им не придётся переправляться через Евфрат или Дунай – на их пути будет Рейн.
Император рассказал ему, что в годы, проведённые на Капри, у него было время читать и размышлять над «Кратким изложением военного дела» великого Вегеция, в котором перечислялись строжайшие наставления не допускать неповиновения и расхлябанности среди легионеров, как это сделал Гетулик, допустивший здесь полный разброд.
– За исключением моего легиона, – серьёзно добавил Гальба, известный своей железной рукой. – За остальных возьмёмся завтра утром. Центурионы и декурионы будут досконально следить за соблюдением всех уставов и исполнением наказаний. Проведём серию учений. Самое полезное упражнение – заставить войско идти по лесам в боевом порядке, спать в походном лагере, рыть оборонительные рвы. Когда велишь им прекратить, они будут тебе благодарны.
Он заявил, что имеет на примете список офицеров, которых на следующее утро, когда они появятся в президиуме, он без лишних церемоний тут же уволит: пора собирать вещи. Есть кого поставить на их место. Гальба заверил императора, что легионы, снова приведённые в порядок, очистят берега Рейна от просочившихся германцев.
Тем временем амбициозная сестра императора, которую тихим ходом везли в крытой повозке, с ужасом увидела, что её не эскортируют с подобающим её рангу почётом, а стерегут, как пленницу, два ряда германских стражников. Они проезжали без остановки постоялые дворы, варили суп из солонины, кое-как мылись в ручьях, пили своё хмельное пойло из ячменя и солода, ночевали в лесах, а ей с её служанками приходилось спать в повозке.
Она пыталась протестовать, спрашивала, в чём дело, умоляла, но, как и предвидел император, германцы не понимали ни слова. И не придавали этим бессмысленным звукам значения. Растерянная сестра приехала, когда после суда и казней прошло уже несколько дней.
Император лишь мельком взглянул на неё: она была вся в пыли, растрёпанная, напуганная до неузнаваемости.
– Сейчас не время плакать, – сказал он, и она, мечтавшая о власти после его убийства, задрожала от смертельного страха.
Но он, с зародившейся в глубине души решительностью, почти насильно заставил её взять урну с прахом Лепида и с этим багажом под охраной немедленно отправил назад в изнурительную поездку.
– Я сошлю тебя не далеко, – проговорил он, не глядя на сестру. – Достаточно какого-нибудь острова, как для нашей матери.
Но она недолго пробудет вдали от империи. Поскольку её звали Агриппина, как умершую мать, историки назовут её Агриппиной Младшей. Она была честолюбива и цинична; судьба сделала её матерью – от первого грубого и жестокого мужа у неё родился ребёнок, нежеланный и нелюбимый. Этот малыш станет править империей под именем Нерон.
В тот вечер Гальба сказал императору:
– Мои спекуляторы советуют мне присматривать за бриттами – их вооружённые банды пришли в движение.
Британия была неукрощённым островом, как и Германия, она так никогда и не окажется под полным римским контролем. И легионы – «эти сухопутные люди, в отличие от Мизенских военных частей» – не любили покидать надёжные приветливые провинции ради этого незнакомого острова посреди великого северного моря, где над поверхностью дуют ледяные ветры, а в пучинах вод полно чудовищ.
– Всё равно придётся туда тащиться, – заявил Гальба с полным хладнокровием профессионала.
Но император ответил:
– Мне бы не хотелось бросать людей в то море. С моим отцом однажды такое случилось, и это была трагедия.
Молодой император не сказал, что мысль связать своё имя с новой войной вызвала в нём тревожный протест: во многих его снах последним непотопляемым островом был успех в сохранении мира.
– Возможно, – сказал он, – достаточно будет продемонстрировать бриттам нашу мощь. Они давно нас не видели и испугаются.
На берегах Oceanus Britannicus, в самом узком месте (которое нынче мы называем Ла-Манш), император, словно готовясь к вторжению, собрал три легиона с боевыми и осадными машинами, называемыми со времён Юлия Цезаря мускулами. На острове получили известие, что он собирается высадиться, и там, на песчаном берегу, уже ждали высадки легионов. Проснулись страхи, что спокойные дни прошли. Но он не развязывал никаких войн. Мечта императора – или утопия – не сдавалась. Однако эта пауза была непродолжительной: через несколько лет, когда Рим наметит новые планы по расширению империи, войны начнутся снова.
Тем временем в Риме, патрулируемом, как во времена Тиберия, преторианцами и контролируемом Домицием Корбулоном, никто точно не знал, куда отправился император. И известие о молниеносно подавленном заговоре явилось внезапно, как ураган. Что вмешательство императора было невероятно стремительным, подтверждалось считанными днями с его отъезда из Рима до торжественных обрядов, выполненных арвальскими братьями в благодарность богам за спасение его жизни.
– Он сам её спас, – уточнял хладнокровный Каллист.
Впервые он был ошеломлён – и озабочен, – что ничего обо всём этом не знал. Но принял участие в публичном обряде с демонстративным волнением.
Сенатор Валерий Азиатик, уже искусно манипулировавший сотнями голосов в сенате, проходя по галереям курии, говорил своим сторонникам:
– Эти олухи погубили себя собственными руками. Как они могли подумать, что легионеры, рискуя жизнью, пойдут за такими людьми, как Лепид и Гетулик?
И добавлял со злобным сарказмом:
– На некоторую дичь охотятся в чистом поле, со стрелами и собаками. Для другой, – он покачал головой, – нужно развести дым у входа в логово.
Милония тоже всё знала. И хотя она была беременна, а Альпы уже побелели, она сказала своему брату, что если вскоре ей не удастся добраться до императора, то лучше умереть. И Домицию Корбулону ничего не оставалось, как только сообщить императору, что опа едет в Лугдун. И вот Гай Цезарь, стоя у высокого дворца над рекой, увидел, как она вышла из тяжёлой галльской повозки для путешествий и взволнованно и осторожно, с некоторой неуверенностью ступила на землю. Он, как обычно окружённый трибунами и магистратами, побежал ей навстречу и обнял в том же приливе нежности, какую в детстве видел у своего отца по отношению к матери. Он сказал ей, что не может без неё, как его отец Германик не мог без Агриппины.
– Хочу, чтобы мы были рядом с тобой, – сказала она, употребив слово «мы».
У него перехватило дыхание.
На следующий день, на рассвете, он с каким-то новым чувством посмотрел на Милонию, которая спала, утопив голову в подушки. Он не погладил её и не попытался разбудить, а только провёл двумя пальцами по пряди совершенно чёрных волос. Но она тут же проснулась, и он сказал:
– Пора вставать. Потому что сегодня я на тебе женюсь.
Известие о том, что четвёртая жена императора, мать наследника, – это сестра знаменитого военного трибуна Домиция Корбулона, к тому же происходящего из плебейского рода, а не дочь какого-нибудь влиятельного, но ненавистного сенатора, вызвало восторг во всех двадцати пяти легионах империи.
Так в Галлии, в Лугдуне, который потом мы назовём Лионом, родилась первая дочь императора, та, что была зачата, как в ритуале давних религий, на водах священного озера. Отец назвал её Юлия Друзилла, именем умершей сестры. Когда малышка появлялась на свет, он дрожал всем телом и ушёл далеко, ожидая и давая обеты, как какой-нибудь суеверный египетский крестьянин. Ему не удавалось прогнать из головы мысли о том, что случилось в Анции. Но на этот раз всё закончилось быстро и благополучно, и император почему-то решил послать на озеро Неморенсис богатые дары Исиде, Богине-Матери, и её малышке, детской богине Бастит, священный символ которой – кошка с выгнутой спиной.
Северные горы и долины заволокло тучами, ехать было невозможно. Император, Милония и девочка провели в Лугдуне прекрасную зиму со спокойными ночами и искрящимся по утрам на солнце снегом. Император понял – хотя не мог никому сказать, – почему Тиберий считал жизнь в Риме до того ужасной, что не возвращался туда двенадцать лет.
Но боги хотели его возвращения. Оно состоялось к концу зимы, когда Альпы очистились от снега, и в Риме все заметили, что число следовавших с императором германских стражников удвоилось.
С первой же ночи в Риме на спинке кровати из золота и слоновой кости снова примостился бледный бог бессонницы.
– Я решил, – с наступлением дня сказал Милонии император, – позвать Манлия, который скоро приедет сюда. Хочу построить себе личную резиденцию, где не крутятся те, кого я не хочу видеть, а ты сможешь ходить куда захочешь по саду, где Юлия Друзилла будет свободно бегать, как все дети...
– О да, – вздрогнув, ответила Милония, обняла его, и он прижал её к себе.
– Мечтаю о часах, полностью принадлежащих мне, – сказал он ей, – как были у нас в Лугдуне.
– Да, там было прекрасно, – прошептала она, но её голос затих, так как сердце подсказало ей, что те дни уже не вернутся.
– Мне подумалось о вилле, которую Меценат подарил Августу. Манлий быстро приведёт её в порядок. Меценат был коллекционером, и внутри его виллы огромные пространства. Мне нравятся залы, где я мог бы развесить на стенах с подобающим освещением мои любимые картины. И, проходя мимо, я буду любоваться ими.
Так философ Филон Иудейский из Александрии, давно желавший встретиться с императором, наконец явился туда и был изумлён, увидев, что тот лично следит за отделочными работами. Рабочие устанавливали разделённые на квадратные ячейки окна, каких Филон никогда не видел: на них были не заделанные алебастром рамы, а лёгкие пластинки из «прозрачных кристаллов», то есть из редчайшего материала – стекла, которое изготавливали в печах Тира и привозили в Рим. В тот же день философ вошёл в залы с небом, солнцем, садами. Потом император быстро перешёл в смежный павильон, где собирали картинную галерею. Для молодого императора, коллекционировавшего всевозможные произведения искусства, из разных городов империи и сопредельных царств присылали чудесные дары, стремясь угодить его вкусу.
Многие сенаторы уже пребывали в беспокойстве. Они боялись легионов Домиция Корбулона и столь щедро оплачиваемых преторианцев, которые могли мгновенно окружить курию. Однако некоторые настаивали, что на Юлия Цезаря напали именно в древней курии Помпея и ударили сзади, когда он стоял в окружении высоких особ, притворявшихся, что молят о снисхождении к одному изгнаннику. Никто из сторонников не пришёл Цезарю на помощь. Но другие сенаторы отвечали, что Август сурово отомстил за это убийство, уничтожив не только зачинщиков, но даже память о месте, где оно было совершено. Древняя курия была закрыта, и рядом Август специально построил величайшие в Риме общественные уборные.
Память о смерти Юлия Цезаря укоренилась и в Тиберии, который пожелал сделать себе в курии отдельное от всех кресло на возвышении. И Гай Цезарь решил, что ему следует сделать то же самое. А поскольку сенаторы испытывали страх перед этими грозными, неподкупными, необщительными германцами-телохранителями, он начал злорадно окружать себя ими также и во время заседаний.
– Смотрите, – сказал сенатор Валерий Азиатик, с демонстративным отвращением выходя из курии, – в Риме уже не понять, кто тут враги – варвары или сенаторы.
С такими речами он пересёк широкий Римский Форум в сопровождении своих сторонников и клиентов, словно не замечая враждебного настроения толпы, которая медленно расступалась перед его слугами, чуть ли не задевая их в недружелюбном пренебрежении и давая проход лишь в последний момент, только потому, что приходилось. Но внимательные глаза Азиатика видели, что в этом опасном молчании достаточно одного призыва, одного крика, чтобы – при попустительстве преторианских когорт и бесстрастной неподвижности германцев – никому из тех, кто, подобно ему, носил на тоге почётную пурпурную сенаторскую кайму, не удалось бы живым перейти площадь.
НОЧИ В ВАТИКАНСКИХ САДАХ
Император уже не мог отказаться от спекуляторов, шпионов. Раньше он полагал, что они его защищают, но теперь обнаружил, что они стали для него самым безысходным мучением, какое только он мог применить к себе. Привыкшие к излишней активности со времён Тиберия, они с явной радостью протягивали ему какую-нибудь записку или шептали на ухо известия, от которых он бледнел. И однажды на стол ему попал точный и страшный донос: что сенатор Папинии и один юноша из знатной фамилии по имени Аниций Цериал затевают новый заговор.
«Сенаторская курия, – говорил Тиберий, – это заросшее крапивой поле: можешь выпалывать его, пока не сожжёшь руки, но среди травы крапива вырастет снова».
Как трава питала крапиву Тиберия, так физический страх, утрата привилегий и амбиции подпитывали интриги. И император – повзрослевший на три года с тех пор, как принял власть, – с холодной уверенностью приобретённого опыта велел тайно арестовать обоих обвиняемых, когда они были вдали от Рима. Под угрозой пыток они, а особенно молодой Цериал, сломались, прежде чем за них действительно взялись.
– Это правда, – всхлипывая, признался он, – мы искали способ убить императора.
И, продолжая плакать, заявил, что оказался завлечён в эту подлую компанию по глупости.
– Я хотел убежать, – говорил Цериал, – но мне угрожали смертью. Защитите меня, – попросил он.
При этих словах юноша обнаружил, что стал для следователей неуязвимым и драгоценным. Ему пообещали не наказывать его, и он пошёл по пути, которым в последующие века с тем же корыстным рвением пойдут многие другие. На все вопросы он отвечал то, чего от него ожидали, предугадывая желания допрашивающих.
– Молодой Цериал, – сообщил старший из дознавателей, – перечислил по памяти имена шестидесяти шести человек. Это потрясающе, писцы устали записывать за ним.
Но было трудно – как будет трудно и в будущем – отделить истинные сведения от выдумок. Цериал войдёт в историю как один из самых губительных предателей ещё и потому, что в число обвинённых включил собственного отца, видного сенатора, к которому испытывал тайную ненависть за неравные браки и неразделённое наследство.
– Это не просто заговорщики, это целое тайное общество, – сказал Домиций Корбулон, единственный, которого император посвятил в это дело.
И Гай Цезарь инстинктивно ответил:
– Полагаю, что многие из них просто много болтали, слишком много выпив.
Вскоре стало понятно, что молодой Цериал с ядовитой тонкостью назвал некоторых, чья очевидная невиновность вызвала сомнения и в виновности прочих.
Когда следователи потерпели фиаско, спекуляторы, оскорблённые в своём профессионализме, продемонстрировали, что знают своё дело. Они принесли неопровержимые улики против четверых или пятерых из обвинённых, и среди них против отца раскаявшегося юноши, а также против одного магистрата высшего ранга – квестора.
– Вот истинная суть всей истории, – рассудил Домиций Корбулон, глядя на предъявленные имена. – Остальное – дым. Он не дурак, этот молодой Цериал.
Император ничего не сказал. Он не чувствовал никакого беспокойства, его душа состарилась. Он думал лишь, что достаточно одного его жеста, чтобы раздавить этих пятерых.
«Жалость, благоразумие, поиски согласия, терпимость здесь неуместны», – подумал он. И сказал дознавателям:
– Благодарю за службу.
Они смотрели на него, ожидая решения.
– Нужно какое-то время поразмыслить, – спокойным голосом проговорил император.
Когда они в смутном разочаровании уходили, ему на ум пришла одна фраза из древней истории – кто же её написал? – «Если обладаешь властью, ты должен сам защищать её». Потом, без всякой логики подумав о Милонии и малышке, Гай Цезарь ощутил, как отчаянно хочет жить. Ночью, оставшись наедине с самим собой, он решил заняться тем абсолютным аспектом жизни и смерти, который на Капри вызвал у него тошноту, когда тот садист-вольноотпущенник демонстрировал ему скалы на дне пропасти, куда Тиберий бросал приговорённых к смерти.
Император приказал глубокой ночью арестовать пятерых, привести их, какими найдут, полуодетыми, за реку, в сады нового Ватиканского цирка, туда, где много лет назад арестовали его мать. Выбор этого места, столь неподходящего для суда, многим тем не менее показался мрачной данью памяти о том аресте. Собралась группа негодующих сенаторов, и, едва их головы прояснились ото сна, они увидели подходящий случай разогреть давнюю злобу и все вместе образовали нечто вроде стихийного суда.
– Допросите их, – велел император, – и осудите по римским законам.
Сам он удалился в сад, а сенаторы передали осуждённых в руки неумолимых германцев, быстро допросили всё ещё не пришедших в себя после ареста людей и устроили им очную ставку с обвинителями. Самым драматичным была встреча отца с сыном, которого отец считал всё ещё находящимся в Сицилии; оба много лет ненавидели друг друга. Всех приказали пытать и бичевать, а пуще остальных того, кого сообщники назвали главарём.
– Это квестор Бетилен Басс, – с удовлетворением сообщили императору.
Пока в ночи происходило всё это, император в одиночестве ходил по аллеям столь любимого когда-то парка. Он искал темноты, хотя и знал, что в этой темноте невидимо бдят десятки не ведающих усталости германцев. Он чувствовал, как его обволакивает тоскливая безопасность, и вместе с тем ощущал, что некуда спрятать лицо. В тусклом свете факелов император подошёл к экседре и прошёл меж пустых скамеек.
В юности, вспоминая смерть отца, он испытывал такое опустошительное горе, что сказал себе: «Убийцы не представляют себе всей безмерности человеческих страданий, которые оставляют за собой их действия».
Тогда его душу переполняли светлые и мирные мечты, возвышенное желание облегчить страдания другим. Но теперь, извлёкши уроки из первых лет своего правления, он пришёл к убеждению, что никому нет дела до чужих страданий. Кого толкает демон власти, тот возвышенно и гордо остаётся глух к страданиям как одной беззащитной жертвы, так и сотен тысяч обречённых на смерть от голода при осаде какого-нибудь города. Бездны жестокости невообразимы. «Власть – это тигр».
Но теперь ему показалось, что голоса звучат слишком громко. Действительно, среди глухой римской ночи время от времени раздавался крик, смешиваясь с журчанием реки, поднявшейся от прошедших в верховьях дождей.
Кто-то кричал, и сначала ему показалось, что этот кто-то хочет, чтобы его выслушали.
– Все тебя ненавидят, тебя и твоих близких, в трёх поколениях, проклятых!..
Но потом последовали вопли, и среди воплей как будто назывались какие-то имена. Император отошёл подальше.
А дознаватели не отступали:
– Говори!
Несчастный кричал от нестерпимой боли, и императору показалось, что он произнёс:
– Каллист...
Гай Цезарь замер от этого названного на допросе имени. Но дальше слышались одни лишь стоны.
Дознаватели, словно сами не желая, продолжали требовать:
– Имена, имена, все!
Человек хрипел, угрожал, просил:
– Помогите мне...
Просил или обвинял? Дознаватели не отставали, безразличные к державшему его палачу. Ноги несчастного сжали надёжными клещами. Человек кричал, рыдал, блевал.
– Имена, повтори все имена, – не отставали мучители.
Он корчился и кричал:
– Помоги мне, вырви меня отсюда... мы говорили целыми днями, а теперь я не вижу тебя здесь...
Император с леденящим чувством спросил себя, не притворяются ли дознаватели, что не понимают. Послышался громкий и отчётливый голос одного из сенаторов:
– Ещё.
Вопль жертвы долго не затихал, и, когда кончилось дыхание, несчастный взмолился:
– Убейте меня...
– Больше они ничего не знают, – заявил опытный палач, – больше ничего.
Но сам не знал, кого спасает своими словами.
– Казнить, – объявили приговор судьи и пошли вглубь экседры, где в темноте ждал император.
Он спросил, не различая лиц:
– Вы совершили суд?
Их голоса ответили утвердительно. Один из германских стражников поднял факел. Лица сенаторов были бледны, у одного на тоге виднелись следы крови. Император подумал, что в такие моменты Тиберий запирался в своих комнатах на вилле Юпитера и, возможно, не видел подобного. Крики вдали затихли. Сенатор в запачканной тоге велел:
– Привести в исполнение немедленно.
Издали донёсся голос:
– Ты вспомнишь нас, когда придёт твой черёд!
– И тела не выдавать родственникам, – велел сенатор, – а бросить в реку.
Император как будто не слушал, и остальные притворились тоже. Но он чувствовал, как в душе лопнула злоба, словцо прорвало плотину. Сенека как-то сказал: «Человек сам не знает, что в нём таится, пока не придёт случай».
Никто не знал, где и каким образом проводил эту ночь двуличный Каллист. Со временем он обнаружит, что эти приговорённые к смерти были ему ближе, чем он думал. Но ещё до рассвета всем отрубили головы и их истерзанные трупы были с позором брошены в реку, туда, где быстро и бесследно всё поглотил водоворот. Вода бежала, кто-то ненадолго застрял в зарослях камыша, задержался под мостом, но потом мощное течение увлекло всех и унесло далеко, к мутному песчаному устью на Тирренском море. И больше не было риска, что кто-то заговорит.
Солдат подвёл императору Инцитата. Жеребец нервничал в темноте, и император с облегчением провёл рукой по его шее, чувствуя верность животного. Вскоре его окружили германцы на своих конях, высоких в холке, с мощными крупами и тяжёлыми копытами – стена, прибывшая с задунайских равнин. Среди них император проехал через реку по новому мосту, перекинувшемуся четырьмя пролётами от сердца Рима к грандиозному Ватиканскому цирку, и с горькой самоиронией подумал, что после торжественного открытия снова едет по нему в такую ночь.
За чёрными очертаниями римских пиний небо начало светлеть. Люди рядом с императором хранили бесстрастность – они прибыли из далёких земель, но не могли вернуться туда, где родились, потому что избрали путь войны против своих соплеменников. Самые безжалостные, преданные и сильные видели всё не так, как он, и теперь, хотя не понимали ни слова по-латыни, гордились тем, как закончилась эта ночь.
Они поднялись на Палатинский холм, и император подумал, как это ужасно – окружить себя среди собственного народа вооружёнными чужеземцами. Это и есть власть?
Он прошёл через зал с дожидавшимися его вольноотпущенниками и рабами, а также придворными и августианцами, изнурёнными тревожным бдением, и даже не взглянул на Геликона, застывшего в углу атрия. Император вошёл в свою комнату и отпустил всех. Впервые Милония прошла к нему, когда её не звали, и закрылась с ним.








