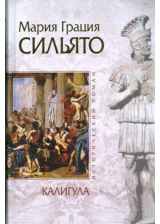
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц)
ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАШИ
Над горными долинами стали собираться тучи. Пришло время уезжать в Рим. Гай понуро отправился в конюшни и в последний раз ласково погладил по гриве Инцитата. Потом перед оружейной кузницей увидел Гая Силия, трибуна, который когда-то показывал ему, как обращаться с сикой – кинжалом для засад, и подошёл к нему.
На этот раз Силий держал в руках не оружие – вместо этого его пальцы сжимали чудесную серебряную чашу.
– Посмотри, – проговорил он, протягивая её Гаю.
Серебро было тонкой работы, с чеканкой и едва заметной позолотой.
– Греческая работа, – сказал Силий. – История Илиады.
В его устах это казалось шуткой.
Но на чаше в самом деле была изображена история царя Приама, который на коленях целовал руку Ахиллу, убийце его сына, чтобы получить мёртвое тело. И виднелось древнее, но отчётливое клеймо автора. «Chirisoposepoiese», – быстро прочёл Гай. А на краю местный ремесленник выгравировал имя трибуна, «Силий», и работал над второй чашей.
– Твой отец не хочет, чтобы эти края порождали новые войны, – сказал Силий. – Серебряные чаши должны отправиться к моему далёкому другу, далеко за Германский рубеж, на реку у великого северного моря.
– Завтра мы уезжаем, – сказал Гай.
И поскольку Силий был одним из самых близких к отцу людей, а его жена Сосия, жившая в претории, была близкой подругой матери, мальчик доверчиво понизил голос и взмолился:
– Пожалуйста... Нужно кое о чём спросить.
Трибун, бывалый и безжалостный воин, с удивлением посмотрел на него, испытывая противоречивые чувства. Глаза мальчика были нежны и тревожны, голос обезоруживал. Он обладал одним из множества изысканных даров богов – способностью непосредственно и иррационально вызывать к себе симпатию. Трибун жестом отпустил солдат.
Гай снова заговорил:
– Моя мать плакала, и ты знаешь, что она скрывала это, чтобы никто не видел. Почему мой отец сказал ей лишь: «Имей терпение, возьми себя в руки» ? И почему никто не захотел со мной говорить, словно я ничего не могу понять?
Даже в обычном разговоре, выражая свои чувства, мальчик соблюдал синтаксис и правильно употреблял время и наклонение каждого глагола. Он поднял голову с шапкой каштановых волос, чуть вьющихся на лбу.
– Никто не узнает, что мы об этом говорили, – пообещал он и стал ждать ответа.
Трибун вздохнул, как с ним бывало за мгновение до атаки, и сказал:
– Ты уезжаешь в Рим. И теперь я должен поведать одну историю, которую до сих пор мне не разрешали тебе рассказывать. Ты знаешь, что Юлия, единственная дочь божественного Августа, мать твоей матери, имела от Марка Агриппы, великого флотоводца, ещё и трёх сыновей.
– Знаю, ты сам мне это сказал, – ответил Гай, расправив плечи; он здорово вырос за последние недели. – Другие никогда не хотят говорить со мной об этом.
– Двое старших были сильные, мужественные, и мы все возлагали на них большие надежды, – прямо заявил трибун. – Но их обоих послали в очень отдалённые от Рима провинции. И вместо обоих в Рим вернулся только прах.
– Кто решил отправить их так далеко, одного за другим? – спросил Гай со спокойствием взрослого мужчины.
Силий умолчал, что Ливия, Новерка, уже подчинила своей воле престарелого Августа. «Nam senem Augustum devinxerat adeo, – напишет об этом Корнелий Тацит с презрением историка и сделает вывод: – Novercae dolus abstulit» – «Их убило коварство Новерки».
– Луция послали в легионы в Тарраконской Испании. Он едва доехал до устья Родана – там его поджидали, чтобы умертвить. Говорят о какой-то странной болезни, которую никто не смог объяснить.
– Скажи мне, сколько ему было лет? – прервал трибуна Гай.
– Чуть не хватало до девятнадцати. Вскоре после этого другого брата – его звали, как тебя, Гай – послали в охваченную восстанием Армению. Там он попал в засаду, его ранили. Никто не мог к нему прорваться. Он, конечно, понимал, что его хотят убить, поскольку написал Августу, что хотел бы бросить всё и удалиться в какой-нибудь город в Сирии. Возможно, он надеялся на жалость Новерки. Но письмо пришло уже после его смерти. Ему было тогда двадцать три года. На его похоронах всё население Рима и все солдаты легионов кричали о злодейском убийстве, кричали, что Новерка убрала первое и второе препятствия на пути к императорской власти для своего сына Тиберия. И они говорили правду: через три месяца Август усыновил Тиберия, распахнув для него двери к власти.
Гай никак это не прокомментировал, только спросил:
– А моя мать?
– Она в те дни была ещё девочкой. У неё оставался третий брат, последний мужской представитель рода Августа, но ему ещё не исполнилось и шестнадцати лет. К тому же его упрекали во вспыльчивости, агрессивности, чванстве своей силой. И Новерке удалось сослать его на остров Планазию, как угрозу действующей власти. А он мог бы стать прекрасным военным.
– Где это – Планазия? – спросил Гай.
– Это маленький островок в Тирренском море.
– Залевк и про это мне не сказал, – пробормотал Гай.
– Не вини его. Он не мог сказать большего, он же раб. А я могу и должен сказать тебе кое-что ещё. Пока Август доживал свои последние дни, один человек, бывший проконсулом в Азии, Фабий из рода Максимов, железный человек, нашёл в себе мужество раскрыть эту преступную интригу. И вот Август вырвался из-под контроля Новерки и вместе с Фабием высадился на Планазии, где томился в заключении бедный юноша. Он был красив и силён, и старый Август подумал при встрече, что тому двадцать лет. Юноша был в отчаянии от этого несправедливого заточения.
Как говорят историки, дед и внук обнялись и вместе погоревали (хотя непонятно, о чём так единодушно могли горевать автор этого наказания и его жертва).
Силий продолжал:
– Даже Фабий, повидавший не знаю сколько войн, был тронут и поделился своими чувствами с женой. Но жена его дружила с Новеркой и, попав под влияние её чар, не смогла удержать язык за зубами. Через два дня на Фабия напали в глухом переулке и убили. Мне говорили, что удар был нанесён опытной рукой – один из тех ударов, которым я учил тебя. Мне известно, что у жаркого погребального костра вдова пришла в отчаяние и кричала, что это она его убила, рассказав о том, о чём следовало молчать. Ты должен знать также, что Фабий был большим другом твоего отца. И что за него никто не отомстил.
Гай молчал. Идея неотмщённого убийства впервые вошла в его жизнь. И он холодно спросил, словно вёл следствие:
– А что Август?
Трибуна Гая Силия смутила твёрдость этого вопроса.
– Он был уже болен. И бедный юноша остался на Планазии.
– Живой, – заметил Гай.
– Да, живой. Но он был последним законным соперником Тиберия. И Тиберий, как только получил власть, послал одного центуриона убить его. На юношу предательски напали, он защищался, но против него одного было трое мужчин.
Эта кровавая сцена запала Гаю в душу. И Силий не узнал, сколько ночных снов подростка будут прерываться тревожной дрожью.
– Когда известие о его смерти пришло сюда, твою мать никто не видел три дня, – сказал трибун.
– Я не помню... – пробормотал Гай.
– Ты был маленький.
Это первое преступление нового императора («primum facinus novi principatus», – напишет Тацит с отвращением) показало его ледяную жестокость и необычайную скрытность, которые будут держать в страхе весь Рим.
– Но когда центурион доложил Тиберию, что задание выполнено, и, чтобы набить себе цену, сказал, что убить юношу было непросто, Тиберий на глазах у шестисот сенаторов заявил, что не давал никакого приказа. Возможно, сказал он, это был тайный приказ Августа, который тот отдал перед смертью. Тиберий изобразил возмущение и приказал поскорее предать центуриона суду. Говоря так, он держал в руке маленький кинжал, символ власти над жизнью и смертью, и поигрывал им. Мы здесь, узнав, что власть попала в руки Тиберию, хотели пойти на Рим. Но и тогда нас удержал твой отец.
Гай молчал.
– Помни, – прервал молчание трибун, – что кровь тех юношей бежит и в твоих жилах. Пока что.
– Понял, – сказал Гай со спокойствием, которое Гаю Силию из-за малых лет собеседника показалось ужасающе неестественным, так что он пожалел о сказанном.
Но тут беседа закончилась, так как Гай повернулся к конюшням и сказал трибуну совсем другим голосом:
– Рекомендую тебе моего Инцитата. Не знаю, почему отец не разрешает взять его в Рим.
Любимый Инцитат, видимо, понимал, что его юный наездник расстаётся с ним, и тоже испытывал глубокую печаль, следя за мальчиком влажным взором.
– У Инцитата лёгкие копыта и сухожилия, – сказал Силий. – Долгое путешествие не для него. Ты бы это заметил по прибытии. Это прекрасный конь для парадов, и здесь он будет шествовать во главе других.
– Я приду попрощаться с ним завтра перед отъездом.
– Не возвращайся, – посоветовал Силий. – Пусть начнёт забывать тебя.
– Животные не забывают. Напиши мне, пожалуйста.
Трибун Силий пообещал. Оба не могли вообразить, при каких страшных обстоятельствах встретятся в Риме.
Когда Гай направился к преторию, Силий внезапно чисто инстинктивно предостерёг его, словно на войне, в засаде:
– Завтра ты отправляешься в Рим. Но ты должен научиться быть осторожным, детёныш льва.
II
ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ.
ПРОВИНЦИЯ ЕГИПЕТ

РИМ
И вот уже там, за лесами и горами, был Рим, которого Гай никогда не видел. Раньше его молодому уму, возбуждённому заклинаниями грека-учителя, представлялось, как после долгого путешествия по холмам и долинам впереди, словно белое облако, появится мраморный город, широко раскинувшийся на семи холмах на берегу светлой реки. Но потом его таинственное семейство – о котором он практически ничего не знал – превратилось в клубок призраков, а Рим стал озером тревоги, над которым, как грозовое небо, нависала имперская мощь.
На каждой остановке стихийно собравшиеся массы народа громко приветствовали его отца Германика – дукса, несправедливо смещённого Тиберием.
– Козни Новерки... – ворчали некоторые.
Но всё же большинство ликовало:
– Ты вернулся к нам!
Среди всеобщего энтузиазма всё громче звучали слова, не столько выражавшие радость, сколько призывавшие к восстанию. Перекрывая остальные, в уши мальчика проник чей-то голос: «Защити нас!» – и он с любовью и обожанием увидел в отце сверхчеловеческие возможности.
Командир эскорта наклонился в седле и тихо проговорил:
– Видишь, прийти в Рим с легионами было бы детской забавой, – и в его словах слышалось сожаление, злость и затаённая в душе озабоченность.
Гай слушал и молчал. Ехать верхом ему было нетрудно, но он не хотел называть этого сильного жеребца с тяжёлыми копытами именем своего теперь уже далёкого жеребчика. Однако он быстро привык к неутомимому ритму, с которым поднимался и опускался широкий круп, и всю дорогу скакал верхом, как и отец.
Подъехав к последнему привалу перед столицей, они увидели, что навстречу им движется огромная возбуждённая толпа друзей, сторонников, патрициев, всадников, сенаторов, родственных семей, военных и несколько сотен совершенно незнакомых людей.
– Будь с нами хотя бы один из оставленных там легионов, – пробормотал командир эскорта, – мы бы пошли прямо на Палатин.
Он обратился к Гаю:
– Смотри и помни: это день, посланный нам богами.
Гай увидел свою прекрасную мать, с улыбкой обнимавшую счастливых людей в толпе, и его пленили горящие глаза, звук радостных голосов и смеха, потому что он уже несколько месяцев не видел, чтобы кто-то смеялся. А потом все бросились обнимать его, Калигулу, рождённого в каструме на Рейне, скакавшего на коне как варвар, чудесно говорившего на аттическом греческом, но запинавшегося на латыни. И пока все его ласкали, а один старый сенатор с нежностью проговорил: «Кровь Августа вернулась в Рим», – один трибун пробился сквозь толчею и сказал ему:
– Посмотри на Рим – ты же никогда его не видел.
Мальчик оглянулся – там, за светлой рекой, действительно был Рим, властный и великолепный, белый от мрамора, как облако. А трибун говорил:
– Этот город Тиберий украл у твоего отца.
Мальчик смотрел, широко распахнув ясные глаза. И тут его стиснули в объятиях два его старших брата, остававшиеся эти годы в Риме, «чтобы получить настоящее образование», как говорил Залевк. Ему не удалось даже поговорить с ними, потому что старший, рослый юноша, посадил его на плечи, как малыша, и со смехом побежал. Для Гая это было необычайное чувство – телесное признание наряду с полным радостным доверием и взрывом силы. И он тоже рассмеялся в унисон со своим большим братом, обхватив его за шею, и все оборачивались, чтобы на них посмотреть.
– Ты обратил внимание, как в Риме говорят по-латыни? – спросил его неумолимый Залевк.
И в самом деле, латынь, на которой говорили образованные патриции, магистраты и ораторы, сильно отличалась от жаргона, который мальчик слышал на улочках каструма; манера говорить, неожиданные цитаты из выдающихся поэтов казались Гаю непонятными. Зато Залевка порадовало, как всех изумили непринуждённость и изящество, с какими мальчик изъяснялся по-гречески.
– Совершенное двуязычие, – с задумчивой симпатией заметил могущественный и богатейший сенатор Юний Силан.
И никто не мог представить себе, что судьба обрушит на них в ближайшие годы.
Возбуждение толпы на берегах Тибра всё возрастало, пока она не смяла эскорт и сама не стала кортежем.
– Все эти люди собрались лишь потому, что Германик вернулся из поездки, – с неприязнью заметил сенатор Анний Винициан, вождь оптиматов.
Назвать «поездкой» суровые годы войны, к которой Германика принудили в надежде, что его убьют, было так цинично, что сторонники Винициана деланно рассмеялись.
Тем временем прославленное семейство с мудрой медлительностью расчищало себе путь в толпе, постоянно приветствуя встречающих, и так продвигалось к пышной пригородной резиденции на Ватиканском холме. Бывшая собственность Августа пустовала. Её открыли в дни свадьбы Юлии и флотоводца Агриппы, и всё здесь свидетельствовало о строительном искусстве, вкусе и роскоши. К реке спускались знаменитые сады, а залы украшали изысканные яркие фрески с изображением славных событий в истории семьи.
Этот шумный приём вызвал у императора Тиберия серьёзное раздражение. Из-за его опасений многочисленные шпионы поднялись в его дворец на вершине Палатинского холма, чтобы доложить о настроениях народа. Императорский дом – как камень на могиле – был построен на месте разрушенного дома Марка Антония, надежды популяров и любовника Клеопатры, буйного мятежника, покончившего с собой. В одинокий дом Тиберия, столь внушительный и массивный, что конструкции дожили до нынешних дней, допускали не многих избранных. Своих ядовито усердных шпионов Тиберий свысока слушал в тишине, недостижимый в своём могуществе, – с непроницаемым лицом и плотно сжатыми губами, как на своих изображениях. Однако его как будто и не занимала шумная героическая аура, окружавшая Германика и его жену Агриппину, любимую внучку божественного Августа. Он никак не проявил своих чувств, ни одобрения, ни раздражения, когда сенаторы единодушно (популяры – с энтузиазмом, оптиматы – чтобы успокоить смуту в городе) постановили устроить Германику триумф за его победы над хаттами, херусками, ангривариями и многими другими народами, населявшими земли за Рейном.
После суровой изоляции в каструме Гай Цезарь увидел неожиданную перемену в своём молодом отце, который надел блестящие одежды, придуманные Римом для своих победителей, – торжественное ритуальное облачение, выражавшее всю взрывную мощь империи.
Триумфатор надевал «пальмовую» тунику с вышитыми по краям золочёными листьями пальмы, поверх неё надевалась пурпурная, расшитая золотыми пальмами тога picta; на голову ему водружали венец, свитый из золотых лавровых листьев, а в руке он держал тяжёлый скипетр из слоновой кости. Таким образом преображённый, полководец восходил на золотую колесницу, запряжённую четвёркой белых коней, чтобы совершить ритуальное действо, и это картинное, волшебное шествие змеёй обвивалось вокруг пупа Рима. Меж двух шумных и плотных стен толпы квадрига – которая через две тысячи лет неожиданно возродится в кинематографе – объезжала древнюю Ромулову стену, сердце первоначального Рима, Бычий форум, Велабр[10]10
Название двух площадей и улиц в Древнем Риме, где были сосредоточены продовольственные лавки.
[Закрыть], Большой цирк и наконец поднималась к Триумфальным воротам, а оттуда по усыпанной цветами Священной дороге спускалась к Капитолию.
Но это был не просто парад – он представлял собой воображаемый рассказ о войне, единственно возможный в дотелевизионную эпоху. Сначала на телегах и носилках появлялись трофеи, драгоценности, добыча, то есть в сконцентрированном виде полезная сторона войны. Потом толпа выносила высоко поднятые огромные расписные щиты, иллюстрирующие, как афиши, завоёванные города, сражения, осады, вероломных врагов и необычайные подвиги римлян – образы мужественной и героической войны.
А потом следовали безжалостно закованные в цепи (порой даже в золотые, для пущего издевательства), наряженные в роскошные одежды побеждённые монархи и полководцы со своими жёнами, сыновьями, придворными – образ разрушительной мощи Рима. Когда появлялись пленники, толпа уже отдавала себе отчёт, что разворачивается пред ней, и её переполняли гордость и ненависть. И это, конечно, был образ отмщения, так как многим из этих знаменитых пленников предстояло умереть ещё до окончания триумфа или навек сгинуть в тюрьме.
Среди пленников и добычи Тиберий поместил и жену побеждённого Арминия Туснельду, которая попала в руки римлян, несмотря на отчаянные попытки германского вождя спасти её. И Туснельда с ясными глазами неутомимо шагала, гордо обратившись мыслями к далёким краям. Гай её не видел, но представлял её в движущемся перед ним бесконечном кортеже. Но тут до него донеслись слова отца – пока друзья веселились рядом, Германик прошептал, обняв сына за плечи:
– Тиберий отравил мне этот триумф.
Было отвратительно ехать на парадной квадриге, зная, что совсем рядом под оскорбления толпы идёт эта женщина, закованная в цепи.
Но тут вперёд вышли жрецы со святынями, римскими и вражескими, – образ небесного покровительства над Римом, – за ними двинулись увитые цветами белые быки, которых предстояло принести в жертву перед Юпитером Капитолийским. И это было символом замысловатой и глубокой тесной связи между религией и политикой. Традиция, которой суждено возродиться через века в новых верованиях.
Наконец появлялся сам vir triumphalis, герой триумфа, в устрашающем окружении: его высокомерные командиры, орлы, знамёна, музыка, легионеры в сияющих парадных доспехах, великолепная лёгкая конница и тяжеловооружённые катафракты, воины и кони, закованные в железо, а также ауксиларии – вспомогательные войска союзников из дальних земель, от Нумидии до Парфии, Германии и Иберии. Окружённый облаками пыли и криками кортеж не спеша демонстрировал высокомерному Риму его же величие. И устрашал врагов.
Однако в этот день легионы, оставленные на Рейне, были мало представлены в триумфе Германика. «Тиберий побоялся ввести их в Рим», – говорили люди. Смешавшись с толпой, один бледный учёный по имени Кремуций Корд (тогда ещё не началось преследование, которое его убьёт) видел этот день своими глазами – глазами историка – и написал, что, несмотря на малочисленность войска и отсутствие Тиберия, Германик получил самый горячий приём, какого Рим не устраивал ни одному победителю. Но он задался вопросом: «А чему мы в действительности радуемся? Победам над далёкими и по большей части незнакомыми народами? Или надеждам на новое будущее?»
Рядом с ним остановился ещё один друг Германика, жизнерадостный и энергичный всадник Татий Сабин, который, слушая его, в глубине души был тронут.
– Я верю, что всё действительно может измениться, – пробормотал он и чуть не прослезился, увидев, как Германик поставил своего младшего сына на ось триумфальной квадриги, одетого в великолепный панцирь и знаменитые калиги, сшитые как копия взрослых.
Мальчика опьяняли эмоции, сверху он махал толпе рукой, посылал воздушные поцелуи, смеялся, и толпа в общем порыве полюбила его, а несколько ветеранов в толчее выкрикнули его ласковое прозвище:
– Калигула!
Но другие с ледяной злобой бормотали, что Германик хочет поднять плебс, снова вселить дух в поверженных популяров и театрально предложить римлянам для власти свою династию.
– Тиберий ему этого не простит...
Но Тиберий по-прежнему ничем не выдавал своих чувств. И историк Кремуций Корд испытывал мрачные подозрения насчёт этого отстранённого молчания. «Тиберий не может забыть, что в жилах Германика течёт кровь Марка Антония». И действительно, трагическая семья Германика вела род от нелепого и несчастного брака, который много лет назад устроил Август – следуя неумолимым государственным интересам – между своей послушной сестрой Октавией и упирающимся Марком Антонием, уже отдавшим своё сердце Клеопатре. Брак быстро распался, и между парой осталась только враждебность. И юные сироты.
На вершине Капитолия друзья Германика нашли время показать ему шестидесятилетнего человека, коренастого и хмурого, в парадной сенаторской тоге с почётной пурпурной каймой, который, стоя в окружении приспешников и клиентов, недружелюбно наблюдал за ними издали. Гаю объяснили, что этого человека зовут Гней Кальпурний Пизон, и тон, которым произнесли это имя, внушил мальчику смутную тревогу и неясную мысль о коварстве и могуществе.
Этот человек действительно родился в великой и гордой до высокомерия семье, в роду, который много лет назад оказал огромное влияние на избрание Тиберия. Теперь его последователи с сарказмом шептались:
– В Рим вернулся претендент...
Сенатор демонстративно не наклонил голову в знак приветствия, а только рассмеялся. И даже издалека было видно его презрение.
Согласно древним верованиям, боги в такой день собирают в сердце Рима всех, кому вскоре предстоит встретиться в безжалостной борьбе. И только боги, которые играют судьбами людей, знают, что мало кто спасётся. Но не ведающие будущего люди ещё до конца мая запечатлели память об этом триумфе на мраморной доске римской славы и в капитолийских списках[11]11
Капитолийские списки – хроники выдающихся событий в Древнем Риме.
[Закрыть], замурованных на Римском Форуме.
На следующий вечер историк Кремуций Корд встретился в портике на форуме Августа – самой новой и великолепной римской площади – со своим другом Татием Сабином и признался ему:
– Германику нужно быть настороже. Тиберий не простит ему победы там, где сам он потерпел поражение.
О том же самом кричали трибуны и солдаты на Рейне. Несколько лет назад действительно один легион был перебит до последнего человека в Тевтобургском лесу, ставшем для Рима символом невосполнимых потерь[12]12
Видимо, имеется в виду уничтожение в Тевтобургском лесу трёх легионов Квинтилия Вара в 9 г. н. э. (ещё при жизни Августа).
[Закрыть].
– Тиберию, – вспоминал Кремуций Корд, – не удалось не то что спасти их, но даже похоронить убитых. А теперь по Риму ходят рассказы, как Германик на том же месте разгромил Арминия и отвоевал Тевтобург. Говорят, что мёртвые пролежали там шесть лет на земле не похороненные, с оружием и значками, и было видно, что многим хладнокровно перерезали горло. Говорят, что Германик собственноручно возложил этих несчастных на погребальный костёр. И поднял честь Рима из грязи, где Тиберий бросил её гнить. И я с утра пошёл послушать эти рассказы, потому что должен их записать.
Бледный Кремуций говорил, как писал, и вокруг него стал собираться народ. Но, удалившись вместе с Татием Сабином, он пробормотал:
– Я понял, почему Тиберий молчит. И мне страшно. Совершенно ясно, – объяснил историк, – что Германик – дукс, одним жестом поднимавший или сдерживавший восемь возмущённых легионов, владыка войны и мира, перед которым побеждённые падали на колени, – лишён власти. Без единого слова, не нанеся ни одного удара, Тиберий убрал от себя всех, кто когда-нибудь мог бы быть избран в императоры.
Он говорил так, будто уже писал свою книгу.
Татия Сабина, широкую душу и оптимиста, не склонного к рефлексии, раздражала задумчивая бледность Кремуция.
– Весь Рим у ног Германика. Ему стоит поднять руку и...
Но печальный Кремуций перебил:
– Его руки пусты.
Над Римом нависала иная власть – сенат, коллегия жрецов, консулы и над всеми ними недосягаемый Тиберий, император. Германик же был просто римским патрицием, одним из многих, – молодым, очень красивым, благородным, знаменитым и любимым, но некоторые смотрели на него с подозрением и злобой за старые обиды. А главное, у него не было должности, дни его проходили праздно. И наконец, императора окружал грозный эскорт преторианцев – солдат, охранявших Рим и державших город в кулаке.
Кремуций заключил:
– Мысль Тиберия подобна змее в траве. Идёшь и не знаешь...








