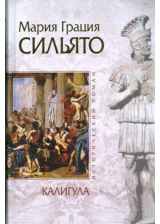
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
РУКОПИСИ
Но в серые февральские дни молодой Гай обнаружил, что в центральном шкафу, закрытые решёткой, как драгоценные реликвии, лежат рукописи, написанные самим Августом. Он слышал разговоры об этих писаниях – почтительные, полные гордости и мифического восхищения, а с другой стороны, наполненные безнадёжностью и горчайшей семейной обидой. Примерно то же он ощутил в Александрийском порту, когда они с отцом увидели в мутной воде изуродованную голову Марка Антония из чёрного базальта.
Гай побежал позвать старого Юлия Игина, и тот – господин и судья всего, что хранилось в библиотеке, – услышав просьбу, погрузился в молчание. Потом на его лице отразилась радостная гордость, почти что любовь к любопытному юноше. Но вскоре библиотекарь замкнулся в настороженной сдержанности, испытывая боль оттого, что нужно открыть ларец. Наконец гордость и радость возобладали над осмотрительностью, и он сказал, гладя рукой решётку:
– Божественному Августу было семьдесят пять лет, когда он вручил мне, мне одному, вот здесь, эти рукописи. Они существуют в двух экземплярах, и оба написаны его собственной рукой – один здесь, а второй в храме весталок, в самых священных хранилищах Рима. Когда прочтёшь это, тебе не понадобится читать никаких других книг, ни греческих, ни римских.
Август всё написал сам, втайне, чётким и твёрдым почерком, безупречно ровными строчками, с постоянным наклоном и размером букв. Это казалось работой искусного писца, но на самом деле было законченным продуктом ясного ума, который сам всё это и сочинил, слово за словом.
Всего было написано четыре документа. Первый лаконично, но торжественно передавал распоряжения насчёт похорон. Второй в мелочах описывал дотошное, точное управление Августа военным, административным и финансовым аппаратом империи. Август назвал этот труд «Полный краткий обзор державы». Всей империи, чтобы его преемник мог независимо от ненадёжных помощников мгновенно сориентироваться в ситуации. Третий документ содержал советы или, лучше сказать, неоспоримые распоряжения о том, как удержать власть внутри страны и как действовать в конс[)ликтах с соседями, вассалами, союзниками и врагами. Его Август назвал «О республиканском управлении». И Тиберий, по словам Игина, немедленно получил эти копии.
Но четвёртым документом – Август озаглавил его «Список своих деяний»(«Index гегшп a se gestarum»)[33]33
Этот труд известен нам как «Res gestae divi Augusti» («Деяния божественного Августа»).
[Закрыть] – была его собственная история. Игин положил изящнейшую рукопись на пюпитр и велел Гаю не сдвигать её ни под каким предлогом.
Когда Игин прочёл, а возможно, процитировал по памяти заголовок, с кодекса поднялась лёгкая пыль. Август приказал, чтобы его труд был высечен на огромной мраморной плите и выставлен в Риме, и чтобы его также выбили на бронзовых табличках в столицах всех провинций империи...
– ...От Иберии до Армении, от Августы Треверорум до Александрии, и приказ был выполнен, – произнёс Игин и очень осторожно открыл кодекс.
Гай с нетерпением начал читать и с начала первой же строчки был околдован. Автобиография, предназначенная быть высеченной в мраморе и бронзе, начиналась грандиозной фразой: «В возрасте девятнадцати лет... по своей инициативе и за свой счёт я собрал войско и освободил государство от притеснителей...»
Девятнадцать лет, а слов ещё меньше. Безупречно ясные, они говорили всё то и только то, что автор хотел сказать. Не было никакого запутанного или искажённого смысла, малозначительных признаний, никаких эмоций или противоречий. Такие слова действительно стоило высечь в камне. Единственное скрытое качество, которое было возможно в них вычитать, – это мощная, спокойная, сознательная гордыня.
Через несколько десятилетий власть Рима распространилась на необозримые пространства, на десятки разных языков, преодолела тысячи границ и глубочайшие различия между подданными, от германцев до нубийских блеммов. А это ежедневно порождало неожиданные проблемы и требовало всегда новых, гибких и быстрых методов управления.
Но государственные структуры древней свободной республики зародились на незначительном клочке Средиземноморья; надменный республиканский сенат, уже разбившийся на беспорядочные течения, не подходил для правления разрастающейся великой империей. Сенаторы были вынуждены признавать своих вождей: время от времени в сенатском корпусе появлялся кто-нибудь, рождённый для командования, – консул, триумвир, отец отечества, – и сенаторы делегировали ему часть своих полномочий. Или же он брал их силой. И тогда сенаторы восставали.
Посредством долгих, изнуряющих гражданских войн Август тонко обескровил старые республиканские порядки. А поскольку в сенате, в этих тысячах голов, было невозможно найти быстрое согласие по любой повседневной, незначительной проблеме, ему удалось мягко сократить их число до шестисот, отсеяв оппозицию. И оставшиеся были довольны, потому что, как ни странно, власть каждого из них возросла.
Он преобразил законы, не заменяя их, а изменив их применение. Он назвал себя защитником республики, когда республики уже не существовало. Его способности иллюзиониста были необычайны. Август мягко играл льстивыми титулами и реальными рычагами власти. Он уступил многие не слишком значимые государственные полномочия и обязанности, но оставил за собой те совсем немногие, что действительно имели важность.
Сенаторы издавали законы, а он заставлял эти законы работать. С полным формальным уважением к республиканским прерогативам и конвенциям сенаторы, магистраты, ассамблеи занимались своей древней рутиной, но для самого Августа была придумана абсолютистская должность princeps civitatis – первый среди граждан. Он оставил сенату удовольствие избирать проконсулов в спокойные, внутренние сенатские провинции, но беспокойные, недавно завоёванные территории, на границах которых приходилось держать вооружённые легионы, управлялись его железной рукой. День за днём он усиливал свою хватку, маскируя диктатуру обманчиво гибкими структурами.
Сенаторы, уставшие от конфликтов, наблюдали за этой трансформацией со всё более покорным изумлением. Лишь кто-то с возмущением написал, что при безболезненной утрате власти великими родами Сципионов, Корнелиев, Фабиев, Гракхов – людей, творивших историю республики, – сенат пожирает сам себя. Время от времени сенаторы превращались в некое подобие монархического государственного совета, пытались отвоевать былой авторитет при помощи обструкционизма и бойкотов.
То и дело обнаруживался какой-нибудь заговор, неизменна неудачный, и каждый раз он приводил к безжалостному судебному разбирательству. Потому что с этим сенатом – который уже когда-то объявил врагом Юлия Цезаря и, в конце концов, убил его – гений Августа сумел сохранять равновесие на лезвии ножа. С тончайшим, невообразимым искусством, двигаясь миллиметровыми шажками, он создал новый римский строй и установил свою личную власть практически выше всех законов.
Август не любил прямых столкновений с противниками или шумных публичных дискуссий – представьте себе, мог ли он любить войну. По сути дела, он никогда физически не участвовал в сражениях, ни на земле, ни на море, и никогда не был стратегом. И всё же пятьсот тысяч римских граждан взялись за оружие и последовали за его боевыми значками. Под его руководством легионы продвинулись туда, докуда никогда не доходили, – до плодородной Аравии и Эфиопии, а флот плавал до пределов Средиземного моря, которые раньше оставались неизведанными. А из самых отдалённых стран, даже из Индии, приезжали выразить почтение послы. Август действительно умел выбирать, кто будет за него сражаться, и всю жизнь его окружали блестящие полководцы – Валерий Максим, Статилий, Карвизий, Теренций Варрон. Двоих лучших, Агриппу и Тиберия, он цинично женил, одного за другим, по очереди, на своей единственной дочери Юлии. Среди всего этого трагические семейные конфликты стали поистине пустяком.
Его выдающиеся дипломатические способности и приобретённая с опытом склонность к компромиссам уравновешивались – и в определённом смысле защищались – холодной и непосредственной жестокостью, которую он проявлял в критические моменты. Все эти таланты гармонично сочетались, превратив его в величайшего человека столетия. И грозного учителя для своих преемников.
Никакой помпы, никаких наград, никакой роскоши. Когда он возвращался в Рим из своих походов, то скромно въезжал ночью, чтобы не поднимать в городе переполох. Но в сенате при голосовании всегда первым подавал голос и неизменно увлекал за собой остальных. В двадцать первый раз его провозгласили императором, и он пользовался этим титулом с крайней сдержанностью. Когда его увенчали титулом Августа, что означает «достойный почтения и почестей», он едва улыбнулся. С этим новым титулом, который мы привыкли считать собственным именем, он и войдёт в историю, и все его последователи в течение четырёхсот пятидесяти лет будут принимать это звание. Его переизбирали принцепсом в течение сорока лет подряд, и он милостиво принимал этот титул «до того дня, когда пишу». Гаю казалось, что он видит, как в своём маленьком, расписанном фресками тайном кабинете, в нескольких шагах от библиотеки, Август роняет слово за словом для передачи грядущим поколениям.
Прочтя рукопись до конца, Гай замер и зажмурился. Внутри него жило физическое наследие этого человека, который десятилетия назад написал всё это, а теперь лежал прахом в мавзолее. И возможно, думал юноша, судьбе угодно, чтобы он воплотил в жизнь это наследие.
FORMA IMPERII
Старый Игин повелительно произнёс:
– Ты должен ознакомиться с этим, – и выложил на стол какой-то древний свиток, о котором, несомненно, много лет никто не вспоминал, поскольку от сотрясения с папируса поднялись облака пыли.
Библиотекарь снял шнурок, своими умелыми старческими руками расправил первую часть, и Гай увидел вместо одной рукописи серию волнистых линий, бегущих по всему пространству листа. У бокового края был приклеен другой лист, и по мере того, как Игин постепенно разворачивал и разглаживал свиток, становилось видно, что волнистые линии перебегают на остальные приклеенные листы. Там и сям были отмечены чёрные кружки с написанными внутри названиями.
Игин ткнул пальцем и проговорил:
– Линии – это реки и дороги; кружки – страны и города. Не знал? Это начертил Агриппа, отец твоей матери.
И юноша вдруг вспомнил: была такая семейная легенда о поразительном проекте Марка Агриппы, великого флотоводца, задуманном шестьдесят лет назад. Географическая карта всей империи – Forma Imperii.
До него никому на изведанных землях Запада не приходило в голову воспроизвести на чертеже – с пропорциональным указанием всех расстояний, рассчитанных картографами и инженерами, – империю, протяжённость и форму всех подвластных Риму территорий.
– Он был самым верным товарищем Августа... – сказал Игин с намеренной резкостью, разглаживая сгиб папируса.
Великий труд занял двадцать лет. Потом оригинал был ревниво помещён в имперскую библиотеку, и никто его больше не видел.
И с этого документа тоже была снята копия и замурована в мрамор в сердце Рима. Тысячи копий на папирусе или пергаменте в практичной походной упаковке, свёрнутые внутри футляра, были розданы военным командирам и гражданским чиновникам.
Меньше чем за два века империя растянулась на столь отдалённые земли, что лишь очень немногие могли представить себе её очертания. Но на этой карте Агриппа изобразил империю как раскинувшееся на земле ужасное гигантское существо, дышащее и живое, с сотнями толстых вен, тянущихся от одной головы к другой, с проложенными на пятьдесят тысяч римских миль мощёными дорогами. Через каждые пять миль стояла промежуточная станция для смены лошадей, снабжения продуктами и питьём. На каждом месте привала – на расстоянии среднего перехода пешего легиона, в зависимости от трудности пути через пятнадцать или двадцать миль – располагалась станция, целый лагерь с госпиталем и постоялым двором, с помещениями для ночлега и сараем для повозок и скота. На карте были обозначены каждая станция, каждый постоялый двор. Через равные промежутки вдоль дорог были построены башни для зрительной сигнализации.
Агриппа разделил империю на двадцать четыре региона – дороги шли от Рима вдоль Тирренского моря к Нарбонской Галлии и Тарраконекой (Ближней) Испании и Испании Бетике (Дальней), с городами Нарбон, Тарракон и Августа Эмерита, до крайнего запада. Или же через Альпы в Галлию, Галлию Белгику, Лугдуненсис, Аквитанию – места, видевшие походы Юлия Цезаря, – и к далёким городам на широчайших северных реках – Сегусию, Лугдуну и Августе Треверорум, где нынче располагаются Лион и Трир. А через другой перевал дороги спускались в сердце Реции, в Норик и Паннонию, до самой большой крепости против северо-восточных варваров – Карнунтума с собственным портом на Дунае. И ещё в Адриатику, Далмацию, Коринф, Афины, Македонию, к Эгейскому морю, Босфору, Эвксинскому Понту, в Вифинию, Киликию, царство Пергамон, которое было названо провинцией Азия, в Лидию, Карию, Ионию, провинцию Сирия, бывшую раньше богатейшим царством Селевкидов, в Иудею. Наконец, в Александрию, в Египет, на острова Сицилия, Сардиния и Корсика, на побережье Африки, от Кирен до Карфагена, и дальше в Мавританию до Атлантического побережья.
По этим дорогам проезжали проконсулы, легаты и префекты, двигались торговые караваны, маршировали легионы, пробегали прямо к великим равнинам востока и севера скорые волны лёгкой конницы и мощные валы тяжёлой, закованные в панцири всадники-катафракты; здесь тянули мощные осадные машины – мускулы, сносящие города. Это была империя, и Август был прав: власть над нею стоила смерти любого.
Однажды Гай, который по молодости не мог безмятежно спать ночью и этим утром встал с постели совершенно уставшим, задремал днём, положив голову на руки, за столом, на котором была расстелена знаменитая карта.
Он был разбужен тычком в правое плечо двух тонких, но твёрдых пальцев. Это был старик, полуслепой библиотекарь. С ироническим весельем в красных глазах под морщинистыми веками он спросил:
– Тяжёлое учение, верно?
Выпрямив спину, Гай ответил, что да, действительно так.
С надменным презрением Игин проговорил:
– Подумай: ты так устал читать эту карту, а божественный Август в течение жизни хранил всю её у себя в голове. И он говорил мне, что для него думать о дорогах и городах на карте империи – всё равно что представлять портики и комнаты своего дома.
Он рассмеялся.
– Если бы передвинули вот такую бронзовую статуэтку, это не укрылось бы от него.
Гай с глупой покорностью тоже рассмеялся, но, смеясь, понимал, что играет со смертью. Смерть обступила его, лицемерная, осторожная и невидимая, как крокодилы в Ниле, которые, выставив глаза у кромки воды, следят за пришедшими на водопой неосторожными газелями. Он посмотрел на поражённые катарактой глаза библиотекаря и принялся за чтение, обхватив руками подбородок.
Он читал несколько часов, возвращался назад и задумывался, сам не понимая, зачем читает. В этом не было никакой логики. Но потребность этих исследований поднималась из глубины души, возможно, под действием психических импульсов или под действием воспоминаний, оставленных в его плоти предшественником. Его «я» тянулось к этому погребённому миру – «нет-нет, не погребённому, а заключённому, как семя в землю, как золотая монета в кованый сундук». В листах папируса, в шуршащих пергаментах величайшие мудрецы прошлого продолжали жить, бессмертные, в то время как их бренные мозги превратились в прах.
А ему, в столь раннем возрасте видевшему смерть своего отца и без иллюзий пережившему муки матери и братьев, обладание этими древними словами – тоже рождёнными в молчании, одиночестве и страданиях – дарило нечто вроде ясной неуязвимости. Великий Разговор по ту сторону жизни, смерти, тысячелетий, расстояний поглощал и его. И никто в зловещем доме Ливии не представлял, сколь неодолимым, недостижимым, триумфальным был его побег.
Надзиратели описали Ливии его тупость и упрямство. А он думал о том, что Август правил пятьдесят лет, разрушив десятки заговоров, и царственно умер в своей постели. Теперь казалось, что император рядом и с какой-то таинственной настойчивостью разъясняет ему безжалостность и высокое искусство своей власти. Гай закрыл глаза и задумался.
«Вам не удастся убить меня».
ГРЕЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Греческая библиотека располагалась в портике, выходившем в крохотный внутренний садик. Здешние служители вскоре стали Гаю друзьями. Они вытаскивали из шкафов и самые древние, и самые опасные свитки и тетради с недавними дискуссиями. Главным библиотекарем был аттический грек, чрезвычайно проницательный и обладавший необыкновенной зрительной памятью. Он ласкал на полках кожаные футляры со свитками, как живые существа, как морды прекрасных охотничьих собак.
Если он разворачивал свиток с поэзией, какое чудо было его слушать! Он любил читать с выражением, громко, и цитировал десятки стихов по памяти, сжимая в руках свиток того или иного поэта. Он декламировал, как трагический актёр, и слог за слогом пробуждал звуки каждого слова, с неземным изяществом расставляя ударения и паузы в сложных стихотворных размерах. Литература была для него миром звуков, и он так волновался, передавая их, что иногда казалось, будто забывает смысл слов.
Гай сидел с библиотекарем в саду и под низким солнцем римской зимы, закрыв глаза, слушал его чтение. И оба, раб-грек и внук императора, мысленно уносились куда-то вдаль. Гай иногда поднимал веки, словно просыпаясь, и с удовлетворением видел, как его неотвязный эскорт дожидается его в смертельной скуке.
Однажды грек-библиотекарь взял в руки сочинение Аполлодора Пергамского, по которому учился красноречию Август.
– Смотри, – сказал он. – Философия, математика, медицина, музыка – все говорят лишь по-гречески.
Это действительно было так: по всей империи распространялся культурный феномен двуязычия, из-за чего повсюду в разговоре с лёгкостью переходили с латыни на греческий.
– Если ты хочешь сказать нечто важное и возвышенное, то должен вложить это в греческие слова.
Однажды меланхоличным утром Гаю попали в руки сочинения Геродота, великого путешественника и историографа. Юноша поверхностно пробежал по строчкам и вдруг ясно увидел, словно написанное другими чернилами, всего одно слово «Саис» – название священного города на Ниле. Он положил рукопись на стол, разгладил её и прочёл, что за пять веков до него этот человек побывал в Египте, был принят в сансском храме и на озере, наполненном водами Нила, присутствовал при ритуале священных кораблей – молитве Великой Матери Исиде, богине с именем, подобным дуновению ветра. Геродот назвал этот ритуал «Ночью пылающих лампад» и заключил: «Египтяне называют всё это таинством. И хотя я узнал многое об этой церемонии, у меня нет желания писать о ней, дабы не раскрывать тайны».
СТАРШИЙ БРАТ
Всё это время никто не упоминал при нём о его матери или братьях. Гай не имел представления, где укрылся Друз со своим дневником, и мысленно спрашивал себя по ночам, ворочаясь в постели в своей убогой комнате: «Если он на свободе, то продолжает ли вести свои записи?» Но сумел заставить себя ничего о них не говорить и не спрашивать. Он также ничего не знал о своём жилище на Ватиканском холме и вообще: обо всём, оставленном позади. Почти целый год он ни к кому не обращался первым, а лишь отвечал, учтиво и немного рассеянно, если обращались к нему.
Гай ощущал беспросветное бессилие. Он гулял в саду с определённой методичностью, описывая крути внутри ограниченного стенами пространства. Из дома Ливии Рим был почти совсем не виден. Гай сознательно никогда не просил разрешения выйти за пределы дворца, а ему никто не предлагал, и было ясно, что никто ему этого не разрешит.
Все эти месяцы, вспоминая роковую неосмотрительность молодой жены своего брата Нерона, он не приближался ни к одной из праздно прогуливавшихся послушных молодых рабынь, что появлялись на дорожках. Он подозревал, что им велено заинтересовать его. И действительно, в течение пятидесяти лет Ливия вводила в комнаты Августа юных испуганных девственниц, к которым он испытывал болезненное влечение. Она привозила жертв из дальних стран, и они, не знавшие ни слова по-латыни, были обречены на другой же день неизвестно куда исчезнуть.
Но Гай день за днём реагировал на все коварные встречи с наивным безразличием. Он замечал язвительные улыбки за спиной, улавливал насмешливые реплики и испытывал облегчение от этого: ведь если в общем мнении он представал безобидным дурачком, ему не угрожала смерть. Ему было семнадцать с половиной лет, а жизнь навязывала ему стариковские мысли.
Гай обнаружил, что ничто так не сбивает с толку шпионов Ливии, как неожиданный в своей глупости ответ. Он нашёл, что очень полезно сопровождать такие ответы удовлетворённой улыбкой, словно его ум произвёл афоризм.
«Ещё придёт день, когда вы увидите мою улыбку», – думал он, отмечая направленные на себя взгляды, когда с тщательной осторожностью обрывал с розового куста увядшие лепестки.
А однажды утром, вроде бы случайно, встретил на аллее того офицера, что доставил его сюда после ареста матери. Офицер приблизился и, отдав воинский салют, быстро проговорил:
– Все живы пока.
Потом оглянулся и шёпотом добавил:
– Друз тут неподалёку.
Гай на мгновение закрыл глаза, а когда открыл, офицер уже отошёл, и юноша продолжил свою неторопливую прогулку, чтобы унять охватившие его эмоции. Если Друз «неподалёку», это означает, что его поймали. А его страшный дневник, который он забрал в последнюю ночь из шкафчика в библиотеке, – он где?
Офицер из жалости умолчал, что Друз, которому едва перевалило за двадцать, оказался совсем рядом лишь потому, что был заточен в подземельях дома Тиберия; эта цепь страшных темниц войдёт в историю как Палатинские подвалы.
Ночная тишина в доме Ливии пугала. Сон Гая был прерывистым и беспокойным, от дуновения ветра за ставнями он просыпался, и теперь направлять какую-либо мысль было всё равно что безнадёжно разматывать один и тот же клубок. Возникал образ дрожащей в подушках матери, и смеющегося над каким-то пустяком Нерона, и пишущего с нахмуренным лбом Друза. Гай больше не засыпал, а лежал в темноте, пока меж занавесок не просочится ленивый зимний рассвет. Он сказал себе, что, возможно, дряхлая Ливия, Новерка, точно так же ворочается ночью от беспокойных мыслей. И действительно, в Риме говорили, что она страшно страдает от бессонницы.
Ливия неожиданно появилась в глубине сада и пересекла его, опираясь на двух покорных рабынь, семеня мелкими шажками. За спиной у Гая вольноотпущенники бормотали, что ей уже, наверное, восемьдесят восемь или восемьдесят девять лет, никто не знает точно.
– Больше, – проговорил чей-то недобрый голос.
«Как такой человек, как Август, – подумал Гай, – мог разделить всю свою жизнь с подобной женщиной, что стоит здесь, как мумия, старая и дряхлая, кутаясь в белую шерсть даже летом? Какова же была она семьдесят лет назад? Что он в ней нашёл?»
«Мужчине, – когда-то говорил Германик, – нужна женщина, рядом с которой веришь, что можно спать спокойно».
За всю свою жизнь Ливия, в высшей степени умная и холодная женщина, пережив в определённом возрасте сильную любовь, превратилась в самую страстную и верную служительницу власти Августа. От него Ливия бесстрастно принимала всё: постоянные и известные всему городу измены, интрижки с жёнами друзей, которые были и её подругами, жизнь, расписанную по часам, распорядок дня, какой он требовал, его отношение к ней самой как к лучшему союзнику и уж ни в коем случае не как к женщине. Она освободила его от лжи и стыдливости в их отношениях. Спорила, советовала, подсказывала, настаивала с уверенностью бесполого существа, что уже ограждало её от сравнений, отвращения и разрыва. Она наблюдала и следила, как султанша, за качеством и опасностью женщин, входивших в комнаты этого высокого интеллектуала, непредсказуемого и многим непонятного. Втайне презирала его мужские слабости и настолько понимала его душевные переживания, что могла направлять их, контролировать и отравлять без его ведома. Она никогда ничего не просила, так что казалось, что у неё нет личных желаний, разве что когда шёпотом подталкивала императора к какому-нибудь безжалостному убийству. И всё это оттого, что без него, как написал Друз, она была бы ничем.
За спиной Гая кто-то шептал, что Тиберий, обожаемый сын Августа и глубинная причина его преступлений, «уже много лет не видится с матерью». Гая удивило, что об этом без стеснения говорят при нём. Ему было всё равно. Но он делал вид, что не слышит.
По сути, после настороженности и подозрительности первых дней все успокоились, постепенно приходя к мысли, что сын Германика не обладает ни особым умом, ни волей, ни строптивостью, более того, он глуп, и им легко манипулировать, то есть это идеальный преемник власти.
Ливия тем временем остановилась, медленно села и, увидев его, велела подойти. А когда он подошёл на расстояние слышимости её слабого голоса, сказала:
– Этот маленький садик очень нравился божественному Августу, он приходил сюда отдохнуть от забот об империи.
Монотонным голосом она рассказала, что Август правил столько лет, потому что долго обдумывал каждый свой поступок.
– Германик же умер молодым.
В её устах это звучало жутко, и Гай понял, что здесь проскользнула угроза. Но Ливия с улыбкой добавила, что Германик старался подражать высокому искусству власти, каким обладал Август, и, возможно, понимал, что это единственный способ сохранить её, а в конце концов и выжить.
– У него не хватало терпения, – заключила она, – а это опасно, потому он и умер в столь молодом возрасте.
Гай никак не отреагировал. Он уже в совершенстве владел мышцами лица, полностью контролировал непроизвольные движения рук, положение ног. Германик когда-то говорил, что мужчина говорит не словами и иногда даже не глазами: он, как лошади, как охотничьи собаки, говорит подрагиванием и напряжением тела. «Если опасаешься, что человек лжёт, посмотри, как напрягаются его пальцы, как он шевелит ногами в обуви».
Гай усвоил это и теперь слушал, расслабленный и неподвижный, ровно глядя Ливии в глаза. А когда она закончила говорить о его отце, сказал, словно смущаясь, что не знает, что ответить:
– Мне об этом не рассказывали. Я был ещё маленький в то время...
Он увидел едва заметное раздражение: старуха сожалела, что так много говорила с мальчишкой, который не способен ничего понять. После этого она до самой смерти не сказала ему больше ни слова.
Но на следующий день – по одному случайно услышанному упоминанию, обрывку фразы – Гай понял, что на острове Понтия умер его брат Нерон. Прилив тревоги был таков, что, повинуясь инстинкту самосохранения, он продолжил шагать, говоря себе, что просто что-то не так понял, что это неправда. Но через несколько шагов, проходя мимо других людей, снова услышал, как и они без всякого сочувствия повторяют те же слова. Он не стал спрашивать и не обернулся. Никто не сказал ему ни слова, никто не дал знать, как и почему это произошло. Гай вернулся к себе в комнату и закрылся там.








