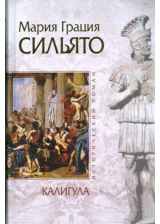
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
ПРИТВОРСТВО
Но вскоре египтянин появился вновь. Он подходил к портику лёгкой походкой, улыбаясь издали, и приносил Гаю то чашу с ароматными фруктами в вине, то напиток из благоухающих трав далёких земель. Раб сопровождал его в термы для имперских чиновников в часы, когда, согласно строгим бюрократическим правилам, туда никто не спускался. Но не прошло и месяца с тех пор, как Гай, найдя этого единственного, невинного друга, начал непринуждённо улыбаться, когда, сидя в портике и читая, он вдруг увидел двух чиновников, которые приблизились и, даже не замедлив шаг, грубо объявили:
– Твой брат Друз умер в темнице.
И не стали ждать его ответа. А он с отхлынувшей от головы кровью, как перед обмороком, окаменело смотрел им вслед, слыша их мерные удаляющиеся шаги. И тут заметил, что он не один: из-за двери библиотеки кто-то подсматривал. Как и в доме Ливии, жестокая сцена была подготовлена заранее, чтобы он выдал свои тайные чувства. И мгновенно его ум прояснился, вернулось самообладание. Гай положил книгу и стал смотреть на море, словно размышляя о только что услышанном известии, потом покачал головой, как будто ему помешали, и снова спокойно вернулся к кодексу. Он провёл пальцем по странице, словно ища место, где его прервали, потом остановился на какой-то строке и всем своим видом изобразил, что продолжает читать.
Осведомителю Тиберия пришлось в изумлении доложить, что юноша отнёсся к смерти брата чуть ли не спокойнее, чем если бы умерла собака.
– Он или так туп, что до него не доходит, или для него это действительно ничего не значит.
Гай долго оставался там один, не двигаясь, бессмысленно переворачивая страницы, на которых не видел букв. В его уме, как вбитый гвоздь, засела мысль, что его долгое притворство бесполезно. Годы выигранной жизни зависели только от зловещей осторожности и жестокой неразборчивости в средствах Тиберия. Будущее начало представляться Гаю в масштабе дней и часов. Он удивился при мысли, что, возможно, эта ночь на море для него последняя. Череда горьких разлук заставляла заглушать порывы молодого тела. Он встал и мимо молчаливых придворных направился к себе. Все замолкали при его появлении. Гай закрылся у себя в комнате и уединился в темноте.
На следующее утро при свете солнца ему показалось, будто всё, что он видит, уже не то, что было прошлым вечером. Он посмотрел на Тиберия, который шёл вдали к залу аудиенций, не оглядываясь на следовавшую позади свиту. Узнал Кокцея Нерву, знаменитого юриста, – по слухам, он никогда не ставил своей подписи на несправедливый закон или приговор. И подумал, что, несмотря на придворных, готов броситься на Тиберия сзади и вонзить в него кинжал, как учил трибун Силий, и у него хватит времени убить его. «Подло оставлять его жить». Гая так захватил этот план, что сжались мускулы, будто он уже по самую рукоять вонзает клинок в это ожиревшее, тяжёлое тело, в основание шеи, где бьётся жизнь.
И среди этих мыслей к нему подошёл молодой Геликон и прошептал:
– Убийство Друза потрясло весь Рим. Народ бушует перед курией, бросает камни...
Встревоженный Тиберий, чтобы оправдать казнь, написал жуткое письмо, обвиняющее убитого, и велел прочитать его перед сенаторами.
– Тем не менее Серторию Макрону пришлось вывести на улицы преторианцев. Они убили много народу, – весь дрожа, рассказывал Геликон. – Трупы валялись повсюду, их крюками волокли по улицам, и толпа издали в страхе смотрела, как их сбрасывают в реку.
– Откуда ты знаешь? – шёпотом спросил Гай, и тут же в нём проснулась подозрительность, он сдержал тревогу и решил больше ни о чём не спрашивать.
Однако Геликон со страстной верой ответил:
– От Каллиста.
Гай посмотрел на него, не понимая: это имя ничего ему не говорило.
– Он грек, но из Александрии, – сказал Геликон.
На самом деле его принесли в дар вилле Юпитера – как дорогую охотничью собаку или коня, достойного состязаться на ипподроме. Это был тридцати летний александрийский раб, но по рождению грек, и его звали Каллист. Он говорил по-гречески и на латыни, а также на простонародном египетском, арамейском и парфянском, обладал утончёнными манерами и умел себя вести в присутствии власть имущих, разбирался в искусстве, живописи и музыке. Как он попал в рабство при таком блестящем воспитании и происхождении, за какие военные проступки или бунт, не смогли выяснить даже осведомители Сеяна. Каллист описывал опустошённые и выжженные страны в верхних долинах Нила, у острова Филы, людей, бежавших за первые пороги, в Мероэ, и резню, свидетелей которой, похоже, не осталось. Из всех записанных им имён ни о ком не было найдено никаких сведений.
Но представители фамилии Цезарей продолжали говорить о нём с крайним энтузиазмом как о юноше, достойном лучшего применения, – даже в самой императорской канцелярии. Тиберий, не принимавший к себе на службу никого, не оценив лично, вызвал его, велел знающему человеку допросить, выслушал ответы и не вымолвил ни единого слова. Но в своей жизни он ещё не посвящал столько времени ни одному рабу. Инстинкт подсказывал ему, что это отравленный дар. Он помнил древнего поэта: «Она мала и вся сверкает – гадюка, выползающая из яйца».
Император колебался, не отослать ли этого раба на какую-нибудь загородную виллу или подарить какому-нибудь патрицию, но инстинкт ещё раз подсказал ему, что не очень умно оставлять его без проверки. Очень хотелось немедленно отдать приказ убить его. Тиберий чувствовал, что ум этого стоящего перед ним, императором, молодого человека продолжает работать живо и холодно, без страха. Его безоружная самоуверенность вызывала чуть ли не восхищение. И Тиберий решил оставить ему жизнь, поручил мелкие, унизительные обязанности, чтобы проявилась его истинная сущность.
Образованнейшего раба швырнули в закоулки виллы Юпитера. Но поскольку, как говорил Залевк, боги играют людскими судьбами, его имя прозвучало в тот тревожный день, когда Гай пытался приказать себе (и так грозно, что самому казалось, будто кричит) ничего не выяснять, а уйти и запереться у себя в комнате.
– Каллист говорит, – прошептал Геликон, – что этой ночью Серторий Макрон приехал сюда для консультаций. Он попросил сообщить всё тебе. И просит тебя вспомнить о нём в день, когда ты будешь в силе.
Друз томился в тюрьме два года и никогда не оставался один: за ним следили, постоянно терзали в подземельях, чтобы выпытать сведения о его друзьях, его планах, а особенно о том дневнике. Дневник в конце концов нашли или вырвали у Друза его местонахождение, и он оказался в руках Тиберия.
– Он здесь, на вилле, в какой-то из комнат.
Но этот дневник больше никогда не увидел свет.
В этот момент с верхних этажей по лестнице не спеша спустился могущественный префект преторианских когорт Серторий Макрон, человек, который за полдня сокрушил Сеяна и за несколько часов жестоко подавил восстание римлян. Он был высок, силён и вульгарен, с коротко остриженными волосами на военный манер. Августианская стража по мере того, как он спускался, добросовестно вытягивалась, челюсти сжимались меж нащёчников низко надвинутых на лоб шлемов, взгляды замирали на горизонте.
Не глядя по сторонам, он топал тяжёлыми сапогами по широким мраморным ступеням. Но, наверное, увидел Гая Цезаря издалека, поскольку, приблизившись, намеренно замедлил шаги, остановил на нём взгляд и неожиданно отдал долгий подчёркнутый салют. Вокруг никого не было, и никто этого не увидел.
Через несколько дней по коридорам, залам и бесконечным лестницам виллы Юпитера чиновники и рабы рассказывали друг другу одними губами, что Тиберий, встревоженный, что не встречает своего друга Кокцея Нерву, знаменитого юриста, послал за ним. К нему постучали, вскоре вспомнив, что за несколько дней до того Нерва сказал императору: «Я устал жить». Холодная и страшная фраза, но тем тёплым благоухающим ранним утром на великолепной экседре виллы Юпитера никто не понял, что она значит и почему её произнёс совершенно здоровый человек, имевший счастье пользоваться наибольшим благоволением императора.
Дверь высадили. И нашли учёнейшего неподкупного юриста в постели. Он спокойно лежал на спине. Но руки с перерезанными венами бессильно свисали по обе стороны, и по мраморному полу растеклась огромная лужа крови. На столе осталась короткая записка: «Оставляю эту жизнь, потому что она стала мне невыносима».
МАТЬ
В эти дни Гаю исполнилось двадцать, кто об этом не вспомнил. Он подумал, что автобиография Августа начиналась как назначение времени: «В возрасте девятнадцати лет...» Этой ночью в тишине острова юноша себя в оковах.
То, что было терпимо для мальчика, стало невыносимо для мужчины. Его ум, голос, даже мускулы стремились вырваться за пределы осмотрительности, как бык, бодающий загородку. Мягкая наглость чиновников и вольноотпущенников вызывала мысли об убийстве. И всё труднее было прятаться за улыбкой бесчувственных губ и прищуренных глаз.
Спустя несколько недель, в октябре, среди всех обитателей Капри до последнего императорского лодочника мгновенно распространилось известие, что сосланная на Пандатарию Агриппина умерла. Но Гаю никто не сказал. Он лишь почувствовал тревожное возбуждение в приглушённых голосах, заметил, что разговоры при нём прерываются и люди стараются улизнуть прочь.
Позже ему удалось уловить две фразы: «...Ей было всего сорок три» и «Кто бы мог подумать, что умрёт». Он тут же повернулся и, прежде чем ему сообщили прямо, постарался уйти подальше в страхе потерять контроль над собой. Шагая, Гай ощущал себя зажатым в раскалённых железных пальцах. От чувства мятежной злобы он ничего не видел перед собой. Единственной осознанной мыслью было – сделать лицо каменным, подавить эту страшную жажду убийства, спрятаться и дождаться ночи.
Когда умер Друз, ночью он смог выплакаться. А теперь скрещённые руки вцепились в плечи, так что пальцы оставляли синяки. Ум порождал образы врагов, громко и тщетно кричащих под пытками. Гай удалился в библиотеку и забился в угол, где не хватало света для чтения. Не замечая этого, он протянул руку, взял какой-то свиток, вернулся назад и, кое-как добравшись до портика, упал на мраморную скамью.
Во рту пересохло. Гай попытался сказать себе, что остался один на всей земле и ему больше незачем волноваться о ком-либо. Больше никто не страдает, в подземельях и на островах никого нет. Нужно лишь думать о мести. Пока он сидел, его руки начали трястись; кое-как совладав с пальцами, Гай развязал шнурки свитка и развернул первую главу. Но глаза ничего не видели. Неизвестно, что это был за свиток.
С нижних этажей огромной виллы появился этот родившийся в Александрии раб-грек по имени Каллист. На нём была одежда раба для чёрных работ, и он нёс какую-то вазу. С занятыми ношей руками он подошёл к Гаю Цезарю, замедлил шаги, остановился, поставил свою ношу, словно было неловко нести её, потом снова наклонился за ней и металлическим голосом быстро проговорил по-гречески:
– Я знаю, как убили твою мать.
И ушёл – пересёк портик и скрылся за дверью в глубине, таща эту ненужную вазу.
Не вымолвив ни слова, Гай посмотрел вслед рабу и, чувствуя, что кто-то за ним следит, опустил глаза и сделал вид, что читает.
Он увидел на табличке с названием лишь одно слово: «Каллисфен». Философ или натуралист, отправившийся на Восток с Александром Македонским. Каллисфен. Гай ощутил приступ тошноты и положил свиток. Больше никогда в жизни он не сможет взять в руки трудов этого автора. Он закрыл глаза. Хотелось лишь глоток воды. Гай не открывал глаз. Больше не было ни дня, ни ночи, ни света, ни мрака, ни шума, ни тишины.
Его не искали. Потом появился молодой Геликон и прошептал:
– Ты весь дрожишь от холода.
И накрыл его лёгким шерстяным плащом.
Разлепив веки, Гай сказал:
– Нужно разыскать этого Каллиста.
И стал ждать.
Геликон появился снова.
– Каллист говорит, что падение Сеяна на какое-то время I породило надежду и у твоей матери... Но после смерти Друза... – пробормотал он.
«Знаю, тебе разбили сердце, – подумал Гай, глядя в пол. – С какой же лютостью тебе кричали, что твои два сына мертвы, если я сам здесь узнал об этом таким вот образом?»
Геликон прошептал:
– Говорят, что она сама уморила себя... Отказывалась от пищи.
«Я знал, что ты хочешь умереть», – думал Гай. Высшее римское мужество – сказать врагам или судьбе: «Ты меня не возьмёшь. Решаю я». Как тот робкий писатель, Кремуций Корд, которого через неделю одиночества нашли мёртвым в тишине дома.
Геликон оглянулся и прошептал:
– Слышали, как Тиберий кричал: «Она не должна была умереть сейчас, сразу после Друза».
А потом добавил, с трудом выговаривая слова:
– Её пытались кормить насильно. И центурион стражи поранил ей лицо.
Гай поднял голову и, широко раскрыв ясные глаза, сказал:
– Постарайся разузнать его имя.
Встретив его взгляд, Геликон испугался и поспешно проговорил:
– Каллист просил сказать тебе, что этот человек не скроется от тебя. Тиберий велел оставить его в охране Пандатарии, чтобы никто не мог рассказать об этой истории.
Гай встал и, направившись по портику, сказал Геликону:
– Тебе лучше уйти.
С запада, с моря, дул холодный ветер. Гай, ёжась, ходил взад-вперёд под этим ветром и думал, что ему абсолютно необходимо выжить.
«Если моя жизнь закончится, никто не отомстит за всё это». Ему вспомнились слова Друза: «Через века никто не узнает, что происходило на самом деле».
Он дошёл до конца портика, повернулся и пошёл назад. На его лице замерла бессмысленная улыбка. Проходя мимо придворных, Гай заметил, что они изумлённо смотрят на него. Он удалился к себе, позвал раба и велел подать ужин.
«Non damnatione matris, non exitio fratrumrupta voce», – напишет Тацит. «Ни единого стона на приговор матери, на казнь братьев».
Несколько месяцев Тиберий не попадался ему на глаза, разве что мельком, вдали. Ежедневно он проходил по криптопортику в термы. Но казалось, император перехватывал мысли Гая: его эскорт стал плотнее и держался ближе к нему, непроницаемой стеной. Гай сидел в глубине галереи и ждал мимолётного момента, этих нескольких отдалённых шагов. Тиберий всегда шагал чуть впереди остальных, ничего не говоря и не оборачиваясь. Высокий, согнутый, с тяжёлыми руками. Одинокий. Так какие же силы, каких демонов возбуждает власть? Что испытывает обладающий ею?
Каждое утро позади него спешил на аудиенцию маленький, с редкими седыми волосами астролог Фрасилл, которого Тиберий таскал за собой ещё с дней своего изгнания на Родосе. Всегда, даже летом, он кутался в грязно-серый шерстяной паллий, широкий греческий плащ. «От холода, что пробирает его ночью, когда он советуется со звёздами», – иронично заметил кто-то. Но Фрасилла боялись, а он демонстративно никого не видел и жил в священном одиночестве. Этот человек наверняка знал все имперские тайны и узнавал их раньше всех. Вопреки всякой логике он оказывал большое влияние на решения императора некими иррациональными психическими путями, но такими таинственными, что никто не мог назвать ни одного внушённого им решения. Говорили, что в своём недосягаемом кабинете, полном древних папирусов и небесных карт с созвездиями, он проводил часы за сложными схемами, чертежами и вычислениями.
Несколько лет назад, когда его власть ещё не укрепилась, кто-то с улыбкой спросил астролога, как звёзды могут влиять на поступки людей. И он ответил:
– Ты глупец, если считаешь, что на тебя, такого ничтожного, не действуют взаимосвязи между тысячами таинственных небесных тел, движущихся над головой, когда проход лишь одного тела, луны, движет приливами и отливами глубочайшего моря отсюда и до Геркулесовых столбов.
Через час Тиберий выходил из терм, снова поднимался наверх и шёл полежать в экседре – самом недоступном месте на всей вилле, нависающем на головокружительной высоте над морем, – и там, чувствуя себя защищённым со спины пропастью, позволял себе заснуть.
И всё же рассказывали, что одному бедному рыбаку с необузданным партенопейским[35]35
Партенопей – древнее название Неаполя.
[Закрыть] темпераментом удалось вскарабкаться по отвесной скале незамеченным и спрыгнуть на террасу, чтобы с гордостью предложить императору великолепного златоброва, каких редко вылавливали в здешнем море. Тиберий велел немедленно умертвить рыбака, чтобы тот никому не рассказал о найденном пути.
Много лет спустя Гай признался, что поддался порыву отомстить за родных, когда первый раз увидел пустынную и безнадзорную служебную лестницу. Невероятным образом избежав стражи, с ножом в руке он подошёл вплотную к Тиберию – и бессмысленно замер с опущенным оружием перед крепко спящим стариком.
Он спустился по этой странно пустой лестнице и со стыдом и облегчением выбросил нож в окно, в пропасть. А на последней ступени неожиданно встретился с Серторием Макроном, который молча отдал ему салют и ничего не спросил.
Через два дня пришёл Геликон и прошептал:
– Рассказывают, что одна важная римская матрона покончила с собой. Каллист говорит, что ты её знаешь: её звали Планцина.
Со своим иностранным акцентом он с трудом выговорил это имя, но для ушей Гая оно прозвучало как грохот водопада: Планцина была женой Кальпурния Пизона, близкой подругой Новерки, эта женщина в Антиохии скрывала у себя дома сирийскую отравительницу.
Гай помолчал, потом спросил:
– Почему она покончила с собой?
Произнося эти слова, он испытал неописуемое чувство.
Геликон простодушно огляделся.
– Пришло какое-то письмо, сюда, императору. Никто не мог его прочесть, но в нём было написано нечто ужасное. Говорят, что император в одиночестве кричал за закрытой дверью.
Ничего не сказав на это, Гай посоветовал Геликону уйти, а сам отправился в конец портика и посмотрел на море, в сторону невидимого острова. Но вместо острова мысленно увидел маленький столик из красного дерева, слоновой кости и бронзы, руки Антонии с тяжёлыми драгоценностями, лист папируса с зашифрованными словами и тихо проговорил, словно она была рядом и могла его услышать:
– За нас отомстила ты.
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Прошло ещё несколько дней, и Тиберий вызвал его к себе. Вызов к Тиберию всегда означал мгновение невыносимой тревоги. Гая отвели на окружённую колоннами экседру, куда он поднимался в день своего прибытия. Он бессознательно шагал, холодно ощущая готовность к смерти и почти надеясь, что она последует сразу и без эмоций. Но тут сопровождавший его придворный улыбнулся ему, и эта улыбка не имела ничего общего с мыслью о смерти.
Тиберий сверху следил за их приближением. Гай искал его взгляд: под одутловатыми веками глаз было не рассмотреть. И император получил почти то же впечатление, что и в первую встречу. Молодой человек, переживший убийство всех своих родных, был непроницаем – то ли туп и наивен, то ли силён и крайне хитёр.
Тиберий старел и потому нуждался в новых стратегиях. «Эти шестьсот волков, собравшиеся в курии», сенаторы, прекрасно видели, что сильный вожак тяжело дышит.
«Знаю, они готовы вцепиться мне в горло», – думал Тиберий, ворочаясь в своей одинокой постели.
Но из этой досады вдруг возникла выдающаяся идея, единственная способная умиротворить всех популяров и изрядную часть оптиматов, создав послушное и довольное большинство, – выдать единственную дочь самого влиятельного сенатора из оптиматов, Юния Силана, за единственного оставшегося сына отравленного Германика.
Приблизившись к императору, Гай склонился, чтобы подобрать полу императорской порфиры, и молча коснулся её губами.
И Тиберий про себя отметил утончённый ритм его жестов.
А вслух проговорил:
– У сенатора Юния Силана есть дочка. Ты на ней женишься.
Сказав это, он ощутил облегчение, что сумел бросить в эту волчью стаю жирный кусок баранины.
Гай окаменел от неожиданности. Он сразу подумал, что тому, кого собираются убить, не устраивают пышную политическую женитьбу. Вся его телесная жизнь снова воспламенилась. А Тиберий тем временем наблюдал за ним покрасневшими глазами из-под полуопущенных век, изучая его реакцию. Это был старый приём – огорошить собеседника первой же фразой.
И Гай, пытаясь понять, что кроется за этим планом, спросил обезоруживающим, простоватым тоном:
– Как её зовут?
При этом инфантильном вопросе на лице Тиберия отразилось разочарование. С презрительным безразличием он ответил:
– Не знаю, – но тут же снова впал в свою патологическую подозрительность: он ожидал, что юноша скажет что-то ещё, и его молчание казалось угрожающим.
Мысли Гая следовали в лихорадочном беспорядке. Тиберий никогда ни к кому не испытывал сочувствия, и уж тем более к сыну Германика, тем не менее даровал ему этот очень важный и таинственный брак. Гай заметил – мельком бросив взгляд, – что позади Тиберия, как свидетель, стоит этот загадочный Серторий Макрон. И вдруг догадался, что жестокая борьба между сенаторами и его блестящий брак стратегически связаны между собой. Тиберий как-то раз сказал, что выступать в законодательной курии перед собранием сенаторов хуже, чем гулять ночью по Тевтобургскому лесу, и действительно много лет не появлялся там. А теперь, после стольких убийств, он, Гай Цезарь, вдруг стал необходим императору, и его жизнь стала неприкосновенной.
Задыхаясь от торжества и на минуту забыв про самоконтроль, Гай поблагодарил императора за отеческую заботу и заявил, что с радостью повинуется. Тиберий, сжав губы, ничего не ответил. Он успокоился.








