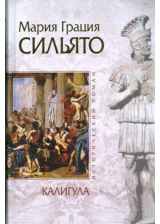
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)
Калигула




ПРОЛОГ

24 января
Молодой император вышел из зала Исиды и вошёл в криптопортик – крытую галерею.
Пустое торжественное помещение мягко освещалось бронзовыми канделябрами. С удивлением, внезапно переросшим в тревогу, император обнаружил, что остался один. Он поискал взглядом Каллиста – александрийского грека, который всего мгновение назад услужливо семенил рядом, – но, обернувшись, увидел в глубине галереи вместо Каллиста мощную фигуру верного Кассия Хереи, командира преторианских когорт, следовавшего за ним.
Успокоившись, император снова двинулся вперёд. Его мучило сожаление, что пришлось велеть Милонии[1]1
Автор называет жену Калигулы Милонией, хотя в литературе она чаще фигурирует как Цезония. Её имя было Милония Цезония. – Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть] остаться, и он ещё не знал, что эта мысль окажется его последним воспоминанием о нормальной жизни. Он снова бросил взгляд через плечо. Но Херея по-прежнему был один. «Куда же делись остальные?» – опять забеспокоился император.
Херея быстро приближался. Император заметил торопливость в шагах воина, и вдруг его озарило: столько удачно раскрытых заговоров, а смерть гнездится дома. Не успеешь обернуться, как удар в спину, леденящая боль, потеря равновесия, прекращение дыхания. В голове молнией сверкнуло воспоминание. «Клинок в лёгкие – и всё: удар, холод, никакой боли...» – говорил отец много лет назад, в Сирии.
Да, так оно и есть. Император обернулся – там стоял Херея. И с высоты своего огромного роста поднимал руку с ножом, чтобы нанести безжалостный удар. Император знал, что Херея обладает чудовищной физической силой, и именно благодаря этому качеству поставил его во главе преторианских когорт. Херея с размаху опустил руку, и молодой император быстро отклонился. Но, к своему удивлению, не сумел издать ни звука. Херея снова занёс руку для удара, император отскочил назад и попытался закричать: «Что ты делаешь?» – но даже не понял, удалось ли ему это. Мелькнула мысль, что Херея – неповоротливая громадина, а сам он молод и проворен и нужно лишь выбежать из криптопортика в атрий.
Император сделал ещё одну попытку закричать, но тщетно – он ожидал предательства со стороны кого угодно, но только не Хереи. Он с силой оттолкнул противника к стене, так что второй удар пришёлся в пустоту. Нож разрезал воздух. Император бросился к выходу, и из атрия наконец-то навстречу ему выскочил офицер. Но нет, он бежал не на помощь. Офицер был вооружён и обнажил клинок. А на императоре не было доспехов, и он растерянно смотрел на двоих нападающих, которые были уже совсем рядом. И снова в голове вспыхнуло воспоминание. «Не доверяй тому, кого видишь каждый день, – говорил перед смертью отец. – Сам не знаешь, как часто, желая добра, сеешь ненависть к себе».
Двое сближались, а он был между ними. Они двигались осторожно, а возможно, с жуткой уверенностью, что он попался, – так действуют охотники, обложив медведя в Тевтобургском лесу. Холод, пронзивший спину, взорвался и обжёг лёгкие, к горлу подступила кровь. Херея знал, куда бить, он только этим и занимался в своей жизни. Чувствуя кровь во рту, жжение и боль, молодой император хватал ртом воздух. Он понимал: кровь, перекрывшая дыхание, несёт смерть.
Второй нападающий, безжалостный Юлий Лупа[2]2
Светоний пишет, что вторым из убийц был Корнелий Сабин.
[Закрыть], сжимал в руке оружие и скалился. Император взглянул в его лицо: так, должно быть, затравленный медведь или кабан смотрит в лицо пришедшего добить жертву охотника. Что за улыбка! В широком рту видны все кривые зубы, а глаза говорят: «Тебе конец».
Вкус горячей крови становился сильнее, и император попытался отодвинуть заслоняющего проход Лупа. Свет впереди, и никого, ни звука. Ему удалось продвинуться к атрию, но нож Юлия Лупа вошёл горизонтально, предательски, не как на войне, а как в драке, глубоко в живот. Император покачнулся и теперь ощутил жжение... Сзади Херея – Херея, с которым он каждый день шутил, – со зверской силой нанёс ещё один удар, отчего колени жертвы подогнулись, и Гай Цезарь, третий император Рима, повалился на пол, харкая кровью.
Он упал ничком на чудесные узорчатые плиты. О мрамор ударилось кольцо с печаткой в виде глаза бога Гора, принадлежавшее раньше какому-то древнему фараону. Император уже ничего не видел, но таинственный механизм памяти воскресил совет отца: «Последняя защита – притвориться мёртвым». Он замер, но продолжал по-настоящему умирать. Его больше не трогали.
Внезапно кровь переполнила рот и горло и хлынула на пол. Император задохнулся, он больше ничего не слышал. Рот снова медленно заполнялся кровью, и, вместо того чтобы вдохнуть, умирающий вдруг закашлялся, извергая на пол поток горячей массы.
Пока сила его ума уходила, на поверхность, угасая, выплыла единственная мысль: «Многое я ещё не успел сделать...»
Убийцы неумолимо смотрели на него. Херея деловито произнёс:
– Он готов. Пошли отсюда.
До сих пор никто так и не появился.
– Я люблю тебя! – вдруг раздался крик Милонии, и её голос громко разнёсся по атрию.
Женщина стремительно подбежала и упала на колени возле неподвижного тела. Она обняла его и, увидев кровь, схватилась за голову.
– Я всегда тебя любила, даже когда ты меня не видел, слышишь?.. Я уйду с тобой.
Она гладила его по голове, стараясь заглянуть в лицо. И всё, что ещё оставалось от него в теле, лежащем на полу, каким-то образом ощутило это.
Херея замер, растерянно глядя на это зрелище, потом велел Лупу быстро зарезать женщину, в которой видел лишь жену убитого императора. Она получила удар в спину, но словно и не заметила, а продолжала говорить и ласкать своего любимого, так что руки её покрылись кровью.
– Я люблю тебя и буду любить даже через шесть тысяч лет...
И что-то в нём услышало её. Впервые эти слова были произнесены на священном корабле, стоявшем на якоре посреди небольшого лесного озера. Херея заорал, что она спятила, и велел:
– Да заткни же её!
Юлий Луп нагнулся над женщиной, схватил левой рукой спутанные волосы и, со всей силы потянув, запрокинул ей голову и обнажил горло. И когда из глубины последнего вздоха она снова простонала: «Я люблю тебя», он хладнокровно, по самую рукоять, вонзил сику – короткий кинжал убийцы – под левое ухо, а потом молниеносно провёл острым, как бритва, клинком до правого. Голос перешёл в бульканье, хлынула кровь. Кинжал ткнулся в кость нижней челюсти под ухом, и Луп лёгким, почти изящным движением вытащил окровавленный клинок, одновременно сильной левой рукой швырнув труп на пол.
Убийцы смотрели на последнее подрагивание рук, полуоткрытые губы, закатившиеся глаза, на кровь, растекавшуюся огромной лужей по блестящему мрамору.
– Пошли, пошли, – поторопил Херея. – Идёт народ, пошли.
Они убежали. На пол уже вытекло столько крови, что дергающиеся в агонии руки императора погрузились в лужу. Пока он лежал так, ничком, перед его расширенными зрачками на мгновение возник последний зримый образ: к нему в неистовом беге приближалось множество людей, и он узнал тяжёлые доспехи своих солдат, неподкупную германскую стражу.
«Вы опоздали», – подумалось ему.
Впервые за двадцать девять лет жизни он понял, что больше ничего не боится. И телесные чувства покинули его.
I
CASTRA STATIVA
НА БЕРЕГАХ РЕЙНА

РЕКА
Castra stativa[3]3
Постоянный лагерь (лат.).
[Закрыть], эти оплоты римских легионов на дальнем пределе империи, на самом севере изведанного мира, представляли собой суровые городки, построенные специально для войны. Военные инженеры обнесли каждый такой городок-крепость – каструм – крепкой стеной, установили на эскарпах баллисты и катапульты, а снаружи вырыли ров и возвели сторожевые башни.
В хмурый зимний день в годы правления Тиберия мальчик по имени Гай Цезарь карабкался по длинной деревянной лестнице на квадратную башню, возвышавшуюся над западным углом крепости. За рвом со спокойной мощью огромная река несла стального цвета воды, а за ней, на дальнем берегу, раскинулись бескрайние леса.
«Величественное зрелище», – говаривал отец мальчика. А им был молодой, но грозный дукс Германии. Он командовал самым мощным сосредоточением войск, охранявших границы империи от Британии до Евфрата, этой неодолимой машиной для завоеваний, насчитывавшей восемь испытанных в боях легионов. Но в грандиозном претории[4]4
Преторий – палатка полководца в военном лагере, а также площадка вокруг неё.
[Закрыть] в центре каструма, который, согласно имперской философии, зримо олицетворял мощь Рима, молодой дукс держался замкнуто, составляя удивительный контраст с прекрасной женой и непоседливым сынишкой.
Сейчас этот малыш, свободу которого, как тюрьма, ограничивал парапет башни, выглядел разочарованным. На юге сквозь низкие тучи пробивались слабые отблески солнца, а вдали вырисовывалась Августа Треверорум – столица Галлии Белгики, основанный Римом город, которому спустя века дадут название Трир. Но возможно, там и не было никакого города; из-за отдалённого расположения военного лагеря эти смутные дымки можно было принять всего лишь за место привала на бесконечной военной дороге. А на севере, за рекой, не существовало ничего, кроме бескрайних лесов.
– Смотри, – с одышкой проговорил пожилой декурион, младший командир, следовавший за мальчиком, по мере сил выполняя строжайший приказ не отходить от него ни на шаг. – Ты можешь бродить по этим лесам много дней и не наткнёшься ни на один город. Там нет ни форумов, ни храмов, ни терм, ни мощёных дорог, разве что лесные деревни. И местные люди нас боятся, потому что мы в отличие от них умеем строить крепости вроде этой.
Мальчик спросил, насколько велики земли за рекой, и декурион, скромный командир десятка солдат, проведший всю жизнь на краю империи, ответил, словно цитируя закон, что этого не знает никто.
Эти бескрайние равнины месяцами покрыты снегом, а при потеплении утопают в грязи; летом ночи здесь короче, чем в Риме, а зимой, наоборот, солнце с трудом поднимается над горизонтом и заходит в тучи. Лошади вязнут в болотах, попадают в лесные завалы...
Мальчик смотрел с башни. До самого горизонта двигалась лишь плотная и мощная масса реки, которую латинские географы называли Рейном.
– Эти воды бегут на запад на сотни миль, – говорил декурион, – и нам тоже скакать не знаю сколько недель, прежде чем увидим устье. Известно лишь, что по пути встретятся, одна за другой, более пятидесяти крепостей, охраняющих границу. И под конец ты увидишь, как река впадает в вечно бушующее под ледяными ветрами море.
Но на том, дальнем, берегу легионы никогда не устанавливали своё господство. И в заключение декурион высказал мудрость этой войны:
– Боги провели по этой реке черту. Это limes Germanicus – Германский рубеж.
Он задумчиво оперся о парапет.
– В этой реке скрывается дух некоего бога. Но это бог неистового народа, живущего на том берегу. Никогда мы не сталкивались с более грозными бойцами. Они действительно не похожи на греков или сирийцев, которые после первой же атаки открывают ворота и рассыпают перед тобой цветы.
Мальчик посмотрел на ледяную мощь этих вод и, обернувшись, спросил:
– А откуда они текут?
– Чтобы подняться к их истокам, – проговорил декурион, растревоженный воспоминанием, – нужно скакать столько же недель, и путь туда ещё тяжелее, чем к устью. Река рождается в высочайших, вечно заснеженных горах внутренней Реции. На их вершины не рискуют подниматься даже медведи, и видны только орлы в йебе, олени на утёсах, да слышен непрерывный писк сурков, копошащихся в заледеневшей земле.
– Ты сказал, что река рождается. Как это? – спросил мальчик.
Декурион рассказал, что много лет назад легионы стали воевать в этих горах с народами, называвшими себя реты и винделики.
– Там, где рождается река, никогда не тают снега, эти скалы сделаны изо льда. Но из-под него бегут струйки лазурной воды и стекаются в ручеёк. Потом, внизу, в него впадают талые воды, и ручей становится всё больше и больше. Это и есть рождение бога Рейна.
– Ты его видел?
– Видел и перепрыгнул одним махом.
Там, наверху, бог Рейн был тонким, как юноша, но по мере того, как бежал меж камней, его голос становился всё сильнее и ручей превращался в поток, клокочущий в лесах и оврагах. И скоро его уже было не перейти вброд: возмужав, бог превратился в реку. Постепенно бог Рейн пробил в горах ущелье. А непредусмотрительные люди прорубили в этих скалах, совсем рядом с рекой, узкий проход – единственный, что ведёт из внутренней Реции на юг Альп.
Река текла вниз по руслу, но путники знали, что во время дождя или оттепели она может вдруг выйти из берегов и затопить дорогу.
И в самом деле, однажды после сильных дождей конный отряд выстроился в колонну для подъёма, и тут всадники увидели, как Рейн, пенясь, всё выше и выше хлещет по скалам. Потом кто-то крикнул, что вода выходит из берегов, поглощая дорогу позади всадников. Они бросились вперёд, к проходу, но Рейн раздулся ещё больше, поглотил землю под копытами их коней и засосал в себя арьергард.
– И мы, забравшиеся выше, видели, как внизу в поднявшейся по грудь воде люди и кони, не в силах удержаться на ногах, кувыркаются, поглощённые водоворотами. Мы спаслись лишь трое; два дня и две ночи мы продержались, уцепившись за скалы наверху.
Потом река утихомирилась, и утонувших людей и коней, истерзанных камнями, вынесло в долину.
После этого рассказа мальчик в молчании проследовал за своим телохранителем в преторий. Наступили дни спокойного безделья, когда люди чинили оружие, ухаживали за лошадьми, тренировались. Неискоренимое германское восстание, казалось, было подавлено. Неукротимый Арминий после разгрома вымазал себе лицо кровью из своих же ран, чтобы преследователи не опознали его. Многие соплеменники его бросили, другие предали, а его молодая жена попала в руки римлян. Она была беременна, но не предалась слезам, а хранила молчание и стояла, гордо выпрямившись, сцепив руки, ни о чём не прося и не отвечая на обращения. У неё было красивое имя – Туснельда. Дезертиры говорили, что Арминий сходил с ума от тревоги, зная, что жена попала в плен к римлянам. И могущественнейший дукс Германии тоже чувствовал неловкость.
– Не знаю, что бы я стал делать, если бы со мной случилось подобное, – признавался он друзьям.
Но безжалостный император Тиберий велел отправить жену Арминия подальше от мужа, чтобы у того не осталось никакой надежды освободить её. Германии неосторожно посетовал близким друзьям, что его воротит от всего этого. Он не знал, что его слова дошли до ушей Тиберия.
Судьбе было угодно, чтобы декурион и мальчик подошли к преторию как раз в тот момент, когда усталый чрезвычайный посланец из далёкого-далёкого Рима слезал с покрытого грязью по самую грудь коня, оставив позади такой же усталый и весь в грязи эскорт.
Всадник в тяжёлом, набухшем от воды вощёном плаще – лацерне – соскочил на землю и, окоченевшими руками передав поводья конюху, потребовал немедленно отвести его к дуксу Германику. Нежданного посланника, не успевшего даже смыть грязь, быстро провели к командующему, и мальчик мельком увидел с порога, как отец взглянул на прибывшего и тихо о чём-то спросил, а тот, повернувшись спиной к входу, так же тихо ответил. Но тут стражник решительно закрыл дверь.
Мальчику показалось, что посланник оставался в комнате отца очень долго. Когда он вышел, то всё ещё был в промокшем плаще, но казалось, что никому до этого нет дела. Выходя, он шепнул стоявшему у двери офицеру стражи:
– Помнишь Семпрония Гракха, сосланного на остров Керкину в Африканском море?
– Ещё бы, – кивнул тот.
И посланник объявил:
– Его тоже зарезали.
Малыш уловил слово «зарезали», и хотя в каструме близкая или далёкая смерть была частью неумолимой повседневности, он увидел, как яростно отреагировал офицер:
– Это уже невыносимо! Не щадят никого. Как он умер?
– Как скотина, – огрызнулся посланник, потом огляделся и со злобой вполголоса проговорил: – И невинную Юлию там, в Регии, тоже довели до смерти, как нищенку.
С плаща на землю капала вода.
Офицер тоже огляделся и, сопровождая посланника к выходу, с возмущением спросил:
– А что говорят в Риме?
– Ничего, – отрезал посланник и ушёл; его тошнило при воспоминании о всеобщем малодушии.
Мальчик понял, что на той заброшенной скале в Африканском море, а также в том далёком городе, видимо, происходят дела посерьёзнее, чем какое-то нападение на границу банд германцев – ангривариев или херусков.
Офицер вернулся назад, но оставил дверь командующего приоткрытой – возможно, из-за пагубного пристрастия, которое столь часто упоминают древние авторы. Благодаря этому малыш заметил, как его молодая и прекрасная мать выбежала из внутренней комнаты, схватила за спиной у дукса Германика послание и в нетерпении прочла несколько строк, прежде чем муж успел остановить её.
И тут впервые мальчик увидел, как его мать плачет, и замер: она крепко прижала к лицу руки и, едва не задыхаясь, пыталась сдержать рыдания. Офицер стражи, вопреки всяким уставам, тоже застыл, приникнув к щели. Женщина плакала тихо, а когда снова подняла своё прекрасное лицо, на нём не было боли, только злоба, отчаяние и ненависть.
– Она убила её, проклятая старуха, Новерка[5]5
Мачеха (лат..).
[Закрыть], – всхлипывала она. – Я, я... клянусь.
Германии быстро совладал с гневом. У него был единственный способ утихомирить жену: ничего не говоря, он крепко обнимал её. Она сопротивлялась, вся дрожа, но потом понемногу уступала и поддавалась, и всё кончалось любовными объятиями. И на этот раз он прижал её к себе, но она поддалась не сразу. Малыш услышал тихий голос отца, который шептал ей на ухо, словно целуя:
– Наберись терпения, держись. У тебя будет время...
Она понемногу успокаивалась.
– Осуши слёзы, – сказал Германик и пальцем вытер слезу у неё на щеке. – Никто не должен говорить, будто ты плакала.
Жена ответила осипшим голосом:
– Мне было запрещено видеться с ней семнадцать лет. И она умерла в одиночестве.
Она освободилась от объятий и привела в порядок волосы. Тут малыш вошёл и тревожно спросил, что случилось. Но отец ответил, что ничего и что его ждёт Залевк, греческий наставник, образованнейший и терпеливый раб, который, пытаясь учить ребёнка, весь день ходил за подопечным. Несмотря на мягкость дукса Германика, никто во всём войске не мог спорить с ним, когда он отдавал приказ. Малыш беспрекословно повиновался, и стражник закрыл дверь.
Но ребёнок обманул беднягу Залевка и в тревоге и растерянности пошёл один на площадь. Увидев остановившегося в кругу военных посланника, мальчик приблизился и успел расслышать чей-то голос:
– Одно убийство за другим...
Заметив сына дукса, они замолкли, и он продолжил путь, скрывая свои чувства, но эти слова запали ему в душу. Ища утешения, он выбрал уединённую дорожку к конюшням, где стояли его любимые лошади. Его быстрый Инцитат[6]6
Резвый, быстроногий (лат.).
[Закрыть], резвая лошадка галльской породы со шкурой цвета мёда и лёгкой статью, издалека узнал мальчика, заржал и зафыркал в нетерпении, чтобы его выпустили. Но конюхи задержали коня у закрытых дверей, потому что снова собирался дождь, и малыш только обнял его, прижавшись лбом к гриве. Существовала какая-то ужасная тайна, и все сговорились молчать. Видимо, коню каким-то образом передалось это непонятное беспокойство, потому что по его лоснящейся шкуре пробежала дрожь.
Как и ожидалось, пошёл дождь, потом возникла небольшая суета при проводах посланника. Дороги меж бараками опустели: то ли из-за дождя, то ли из-за чего-то ещё, кто знает, но все люди собрались внутри. Малыш сделал вывод, что грядёт какая-то опасность, как в тот раз, когда подкрались херуски и в темноте напали на часовых.
Он направился к южному углу каструма, откуда доносились мерные удары кузнечного молота по раскалённым клинкам. Мальчик вошёл в жаркую от огня кузницу, навострив уши, и потому успел услышать – это стало для него потрясением, – что Юлия, умершая «как нищенка» в отдалённом Регии, отчего его мать и пришла в столь непонятное отчаяние, «в действительности-то заслуживала императорских почестей».
Злобным голосом говорил военный трибун Гай Силий, командовавший в эти дни одним легионом. Сидя рядом с кузнецом-оружейником, он уставился на свой обоюдоострый великолепный парадный меч.
– Один лишь сенатор из шестисот встал и сказал, что единственную дочь Августа лишениями довели до смерти от медленного истощения, в изгнании, ославленную, презираемую всеми. Остальные пятьсот девяносто девять промолчали.
Произнеся эти слова, трибун увидел маленького сына Германика, но не приглушил голоса.
– Императорских почестей, – повторил он намеренно, чтобы было понятнее.
Кузнец поворачивал над огнём клинок, аккуратно постукивал по нему молотком, погружал в холодную воду, снова нагревал – и не произносил ни слова.
– Однако и здесь все молчат, потому что и здесь повинуются Тиберию.
Сквозь удары молота пробился голос ребёнка:
– В чём повинуются?
– Иди сюда, – решительно подозвал его Силий. – Пора тебе узнать, – сказал он, словно малыш, не зная чего-то, подвергался несправедливости.
Мальчик затаил дыхание в ожидании, и даже оружейник замедлил свои движения. Силий сказал:
– Знаешь, кто была эта Юлия, умершая таким образом? Мать твоей матери.
Мальчик замер. Никогда при нём не говорили о старших родственниках, и у него сложилось впечатление, что все они умерли неизвестно когда. Трибун разрушил это предположение, чтобы история стала понятнее, и заключил, твёрдо и чётко выговаривая слова:
– И знаешь, почему она заслуживала императорских почестей? Потому что была единственной дочерью божественного Августа. А вместо этого её на столько лет отправили в ссылку. И в конце концов Тиберий уморил её.
Мальчик быстро соображал. Он со страхом снова услышал голос матери: «Семнадцать лет...» Встревоженный до дрожи в коленях, он бросился на скамью рядом с трибуном и прошептал:
– Я видел, как моя мать плакала... Только никому не говори, – попросил он, схватив Силия за руку.
Трибун Силий сердито покачал головой.
– У твоей матери Агриппины немало причин плакать. Ты знаешь, что у неё были три брата?
Малыш вскочил на ноги.
– Это неправда, мне никогда об этом не говорили, у неё нет... Но ты сказал «были»? Как это – «были»?
Тут вмешался молчавший до сих пор оружейник, перестав поворачивать клинок над огнём:
– Трое братьев твоей матери были единственными наследниками Августа, надеждой империи. Они, а не Тиберий.
Кузнецы и прочие рабочие в глубине кузницы, услышав это, насторожились.
Малыш всхлипнул.
– Не смейтесь надо мной...
Он ощутил за всем этим какую-то угрозу, да и действительно прошло слишком мало времени, чтобы переварить эту историю, к тому же поведанную столь суровым образом. По здравом соображении отец просил хранить о ней молчание, поэтому Силий, опомнившись, отвёл мальчика вглубь кузницы и, чтобы отвлечь, показал ему изящный кинжал – короткую сику для неожиданного нападения из засады.
– Смотри, держать надо вот так...
Он протянул мальчику кинжал, предложил сжать рукоять, и тот осознанно вцепился в оружие, неожиданно почувствовав безопасность. Трибун разжал его пальцы, взял кинжал и, подозвав солдата, изобразил нападение.
– А потом двигайся так, ему за спину, видишь? Быстро положи левую руку на рот и держи, а правой вонзи клинок вот сюда, в шею, где бьётся вена.
Солдат, притворившись раненным, повалился на пол, смешно брыкаясь, и малыш рассмеялся, забыв про слёзы. Потом солдат прикинулся мёртвым, и трибун объяснил:
– Если хочешь убедиться, что враг действительно умер, приложи палец сюда, – и заставил мальчика нажать на яремную вену упавшего. – Чувствуешь, как бьётся? Когда перестанет – значит, жизнь ушла. А теперь я покажу тебе другой верный удар, и опять со спины.
Солдат встал.
– Обхвати его сзади левой рукой, и он, чтобы освободиться, разведёт руки, а ты – только быстро! – воткни клинок поглубже под мышку, вот так.
Мальчишка зачарованно смотрел. Трибун Гай Силий снова посерьёзнел и резко проговорил:
– Ты видел, как пользуются сикой. Этого вполне достаточно, чтобы понять, как смерть троих братьев твоей матери принесла власть Тиберию.
Ребёнок смотрел на него не отрываясь. Его слёзы совсем высохли, и вместе с этим закончилось его детство. Трибун предостерёг его:
– Об этом тоже не рассказывай.
Мальчик промолчал. Ему подумалось, что больше не нужно никого спрашивать, почему плакала его мать.








