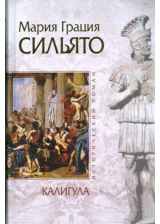
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ЮНИЯ КЛАВДИЛЛА
И вот двадцатилетний Гай Цезарь после многих месяцев пребывания на Капри сел на корабль и высадился на материке. В Анции, на прибрежной вилле, которую потом назовут Нероновой – в действительности императорская семья владела на побережье и островах Тирренского моря целым рядом величественных резиденций: в Анции, Астуре, Спелунке, Байе, на острове Понтия, в Мизенах, Павсилипоне, на Капри, – был о устроено великое торжество, и на следующий день Гай женился на юной Юнии Клавдилле, дочери видного сенатора Юния Силана. И сенатор, едва увидев этого юношу, вспомнил, как ребёнком в день триумфа Германика тот всех удивил своим изящным греческим.
– Так угодно судьбе, – сказал он с отеческим видом.
Эта неожиданная свадьба вызвала горячий энтузиазм в народе; из Рима приехал кортеж сенаторов и матрон, люди стояли вдоль дороги, по которой проходила свадебная процессия, и все говорили, что невеста – прелестная юная девственница, а жених – прекрасный молодой человек, в котором узнается очарование молодого Германика. Тиберий, оставшийся в уединении виллы Юпитера, втайне испытывал удовольствие от своей прозорливости. После стольких лет Гай увиделся с сёстрами, которых было уже не узнать, они стали женщинами и пришли со своими ненавистными старыми мужьями. Сёстры тоже – за исключением любимой Друзиллы, которая бросилась ему в объятия, – смотрели на брата, не узнавая, и из страха перед неосторожными расспросами позволили себе лишь формальные приветствия. А поскольку некоторым предусмотрительным оптиматам народное возбуждение показалось чрезмерным, Гай успокоил их страхи и подозрения застенчивым глуповатым молчанием, милыми улыбками и инфантильными ответами.
Насколько было видно, его брак в действительности родился из более сложных замыслов: в то время как Тиберий думал получить власть над сенаторами, сенатор Юний Силан думал о косвенном достижении императорской власти. И потому оба с мучительным нетерпением хотели как можно скорее увидеть рождение наследника. Новобрачным отвели маленькую, но роскошную виллу в местечке, ныне называющемся Торре-Астура, в нескольких милях от Анция.
«Закрыть их там наедине, чтобы ничто не отвлекало», – думал Тиберий, а Силан, обеспечив виллу всевозможными удобствами, распорядился разыскать в эти деликатные дни опытную наставницу для девочки-невесты, её бывшую кормилицу.
Юная супруга была довольно глупа, хотя очень красива и изящна. Наставница закидала её советами. И когда за молодожёнами с подобающей торжественностью закрыли двери, многие отпускали шуточки насчёт первой ночи этой неопытной, испуганной четырнадцатилетней девочки со смущённым юношей, не видевшим ничего, кроме книг.
Но за закрытыми дверями молодой мужчина, подойдя к неопытной девочке-подростку, отвёл её к застеленной наставницей роскошной постели с единственной и страшной мыслью: ему суждено жить или умереть в зависимости от того, что произойдёт в ближайшие ночи. Его выживание покоилось на безудержно амбициозных династических мечтах его тестя. От него и от этого тела, которое он находил банально привлекательным, весь Рим ждал наследника империи. И ждал вскоре, пока старый император не умер.
А поскольку между ним и этой девочкой не было ни мгновения любви, Гай призывал всю свою фантазию, чтобы преодолеть её неловкость и стыдливость, и под доносящийся из-за окон шёпот моря вспоминал искусство утончённых молодых рабынь в доме Антонии.
На следующее утро, по-хозяйски войдя в брачную спальню, кормилица увидела на постели счастливый беспорядок, ленивую улыбку Гая и новый взгляд своей маленькой Клавдиллы. Она улыбнулась, велела принять необходимые меры, и в спальню явились верные, старательные и опытные рабыни. Все улыбались – стражники-августианцы на молу, моряки, что вели лодки вдоль берега, а весьма опытная кормилица уже мечтала о жизни в Палатинском дворце, если наследник поторопится родиться, и считала недели и лунные циклы. А её, в свою очередь, изводил торопливый сенатор Силан, и она становилась всё более нетерпеливой и склочной. Между тем Гай, терпя её заговорщицкие улыбки, посвятил всего себя молодой супруге и устраивал для неё всевозможные развлечения. Клавдилла смеялась, и виллу наполнял её смех.
Они отдыхали в своём ежедневном обиталище – в триклинии на морской скале, превращённой в островок, который соединялся с виллой на суше лёгким мостиком. Глаза уже утратили недавнюю стыдливость, а хрупкое тело супруги – в первый день вспыльчивой до грубости, но теперь улыбавшейся с победоносным бесстыдством – было заключено в объятия мужа. Кормилица доброжелательно спросила, что им угодно на обед. Тут смех Клавдиллы умолк; растерянно посмотрев на кормилицу, она прижала руку к маленькой обнажённой груди и прошептала, что её тошнит. Кормилица бросилась подставить Клавдилле ко рту платок, и та тихонько икнула – один раз, но это стоило целой империи.
Кормилица многозначительно посмотрела на Гая, взяла двумя пальцами маленькую грудь Клавдиллы и сжала сосок. Оттуда выступило несколько капель прозрачной жидкости.
– Смотри, – сказала кормилица Гаю, – это ты.
Гай приподнялся на локте, склонился над грудью жены и нежно поцеловал её. Это был его первый, совершенно непринуждённый жест за эти дни. На губах остался кисловато-молочный вкус.
– Поздравляю тебя, – торжественно проговорила кормилица, – и поздравляю весь Рим.
Она не знала, какое облегчение принесут её слова.
Гай поднялся на ноги. Кормилица взглянула на его голое молодое тело. И вдруг он спрыгнул вниз, на берег. Жена томно смотрела на его широкие плечи, узкие бёдра, мускулистые икры, говорящие о долгих верховых поездках в детстве. По щиколотку в воде он повернулся к солнцу, чтобы отдать салют, и нырнул в море.
Кормилица объявила, что молодая жена забеременела, и это вызвало всеобщий энтузиазм. Юний Силан напомнил поздравлявшим его сенаторам, сколь древен, силён и плодовит его римский род. Тиберий в кругу своих немногих друзей с иронией заметил, что женившийся, пусть и не по своей воле, юноша рождён в семье, где Юлия и Агриппина в течение десяти лет – как все помнили – производили по ребёнку каждые двенадцать или тринадцать месяцев.
Но, отдавшись ему на этой вилле, столь изысканной, что казалась нереальной, бедная девочка не знала, что ей осталось жить лишь несколько месяцев.
– Младенец попытался родиться раньше времени, – объявил приговор врач.
А она, потрясённая, не в силах понять, что происходит, в промежутках между всё слабеющими и почти лишёнными дыхания криками умоляла всех о помощи – бессильных врачей, опытных повитух с окровавленными руками, жрецов, брызгавших на неё магической бурдой и бормотавших написанные этрусками шесть веков назад заклинания. Последним воспоминанием о ней стали полные ужаса глаза и рука, покрытая холодным потом, которую Гай постоянно сжимал, пока её тело вдруг не обмякло на очередном крике, и он убежал в ночь, на мол, в то время как часть его, его первый сын, умирал, задыхаясь внутри матери.
– Больше не слышу его сердца... – в отчаянии прошептал врач, приложив свой инструмент к её раздутому животу и слушая биение этой другой, маленькой, эгоистичной жизни, пытавшейся вырваться на свободу.
Она умерла, когда ночь медленно скользнула с неба в море на западе; и её душа, маленькая, глупая, невинная, в этот же момент погрузилась во мрак. Какие боги встретят её и возьмут за руку, чтобы перевести через страшную подземную реку на другой берег?
Гай покачал головой: не было никаких рек, никаких богов, ожидающих во мраке. А девочка из-за этих безжалостных замыслов, продиктованных властью, не дожила до пятнадцати лет. Ему стало тошно.
Её отец, Юний Силан, не плакал – не потому что был старым и сильным римским сенатором, а потому что был взбешён потерей мерещившейся власти. Он поставил всё на этот брак и наследника, который от него родится, и увлёк этим планом большинство сенаторов. А теперь больше не был опекуном Гая и смотрел на него со злобой.
Врачи, после смерти вскрывшие живот, сказали, что это был прекрасный мальчуган, который мог бы когда-нибудь стать императором. Все собрались посмотреть на него, умытого и спелёнатого, с приоткрытым ротиком, искавшим и не нашедшим воздуха. На роскошный, напитанный благовониями погребальный костёр его положили рядом с истерзанным телом его ненужной и невинной матери.
– Я думал назвать его Антоний Цезарь Германик, – пробормотал Гай, и слышавшие его удивились такому выбору.
Он спрашивал себя, могли ли зародиться какие-то мысли в этой крохотной головке.
«На кого был бы похож его ум? На импульсивный, полнокровный, саморазрушительный ум великодушного Марка Антония? Или на чистый, уравновешенный, уверенный Германика?»
Старый Тиберий на Капри хранил молчание. Возможно, он был не очень разочарован, так как несколько месяцев с беспокойством и раздражением наблюдал амбициозное рвение и назойливость сенатора Силана.
Сенатор долго смотрел на поистине императорский погребальный костёр, на дым своей власти. Не было ни ветерка, и костёр горел невыносимо долго. Серторий Макрон тоже смотрел, нахмурившись сильнее, чем предполагала его роль, так как этот брак был задуман им и этот мёртвый младенец – ради него пожертвовали матерью, которую, возможно, удалось бы спасти, по запоздалому признанию неосмотрительного врача, – драгоценный потомок Августа, Марка Антония, Германика и самого Юлия Цезаря, оказался бы на последующие десятилетия в его с Силаном руках.
Костёр догорел и погас. Ещё тёплый прах лежавших на нём тщательно собрали и, смешав, поместили в бронзовую урну. А на следующее утро Тиберий вызвал Гая на Капри. Защита рухнула, и его будущее было теперь совершенно непредсказуемым.
ТАЙНЫЕ КОМНАТЫ
В театральной и бесстрастной грандиозности виллы Юпитера Тиберий периодически исчезал на несколько часов или несколько дней в недоступных закоулках. Гонцам, послам, трибунам, префектам и проконсулам на материке приходилось дожидаться знака, что он готов их принять.
В такие времена виллой овладевали слухи и нервное беспокойство. Говорили про тайные галереи с разнузданно порнографическими фресками, про изящные рукописи с откровенно эротическими изобретениями Элефантиды (самой раскрепощённой и обладавшей самой богатой фантазией писательницы тех веков) и такими же откровенными иллюстрациями; про ложе, над которым возвышалась знаменитая картина Аталанты с Мелеагром, стоившая – по преувеличенным слухам – миллион сестерциев; про маленькие залы, где собирались немногие допущенные для коллективных эротических игр с юными рабами; про высеченный в скале вычурный бассейн, достаточно глубокий, чтобы пускать туда мальчиков побарахтаться. «Купается со своими рыбками», – недобро усмехались придворные. А некоторые лицемерно смягчали рассказы, говоря, что так же вели себя и Сократ, и Платон, и Алкивиад, и Александр.
Про Тиберия говорили, что он старый закоренелый педофил, не способный по-другому избавиться от своего извращённого прошлого. Его физическая деградация усиливалась, в своём пороке он предавался исключительно созерцанию и с яростью, переходящей в тревогу, зрительно и умственно стремился к возбудителям, которые бы вновь населили его праздное одиночество. Император приказывал своим юным партнёрам подолгу изображать перед ним самые непристойные и извращённые мифы древности.
– Культура всегда чему-то служит, – прокомментировал кто-то.
Но эти игры всё более тяготили и удручали его, и он не отказывался от них лишь потому, что больше у него не оставалось ничего, чтобы почувствовать себя живым.
Эти мальчики неожиданно появлялись, причудливо выряженные по большей части греческими или сирийскими персонажами, бесконтрольно шатались повсюду, и их поглощали эти комнаты, а потом так же внезапно их грузили на корабли и увозили.
– Грязные извращения Тиберия, – говорили моряки, а поскольку обычно чтение о скандале приносит больше удовлетворения, чем подробные исследования императорской генеалогии, и в то же время оно является мощным оружием ненависти, знаменитые писатели в последующие века не находили ничего лучше, чем на лексиконе Субуры[36]36
Субура – район Древнего Рима, известный своими притонами.
[Закрыть] описывать в своих высокопарных книгах сцены, которых в действительности никогда не видели.
ПЬЯНСТВО ИРОДА
В один из дней, когда Гай сидел в портике, а Геликон перелистывал для него рукописи, совершенно неожиданно мимо в спешке пронёсся префект преторианских когорт Серторий Макрон. С одним из своих стремительных конных отрядов он упорно покрывал десятки и десятки миль и останавливался лишь для смены измождённых лошадей. Прибыв из Рима в Мезены, он взошёл на быструю либурну[37]37
Лёгкое судно с однорядным размещением вёсел, позаимствованное Августом у жителей Либурнии.
[Закрыть] для императорских гонцов, гребцы изо всех сил налегли на вёсла и доставили его на Капри. Долгое время никто больше не появлялся рядом с Гаем.
Лишь позже по тайной лестнице спустился раб Каллист, которого Тиберий когда-то отправил на чёрные работы. Теперь он сменил одежду на опрятную, без пятен. Грек деловито прошёл мимо, словно не видел Гая, но, заметив, что никого рядом нет, вдруг остановился и прошептал, что молодого Ирода, иудейского царевича, которого много лет держали заложником в доме Антонии, бросили в темницу.
– Он напился и публично заявил, что желает себе поскорее увидеть день, когда на место Тиберия взойдёшь ты, Гай Цезарь.
Покачав головой, Каллист ушёл, а Гай молча вернул Геликону кодекс, в который смотрел всё это время. Новость была устрашающей и, наверное, через Сертория Макрона дошла до Тиберия. Так прошла вторая половина дня. Гай сидел, закрыв глаза, чувствуя на веках жар солнца. Геликон с молчаливой старательностью убрал книги на полки.
Гай вспомнил шатёр в глубине сада Антонии, музыку, ароматы, свет в ночной дымке, бесстыдно обнажённые молодые тела, голос Рометалька. Вопреки россказням и обещаниям Полемона и Ирода, с сомнительными фракийскими богами не было заключено никакого договора, и теперь Ирод в оковах оказался в ужасном Туллиануме[38]38
Туллианум – подземная часть государственной тюрьмы в Риме.
[Закрыть].
«Нет на небе никаких богов, которым есть дело до моего будущего».
Это просто дикая выдумка, которая может стать глупой причиной их гибели.
Каллист больше не появлялся. Солнце село, море потемнело, стало свежо. А по той же лестнице спустился префект Макрон. Гай Цезарь вытаращил глаза, увидев, что грозный префект впервые за всё время пребывания здесь отпустил свой эскорт.
Но и на этот раз Макрон, проходя мимо, сменил свою грубую торопливость на подчёркнутое спокойствие. Он посмотрел на Гая и на ходу бросил:
– Когда вернусь, хотелось бы найти время поговорить.
Гай попросил Геликона закрыть библиотеку и удалился в свои комнаты. Видимо, пока заходило солнце, успели произойти события, способные в корне изменить будущее. Несколько дней, притворяясь, что ему ничего не известно об аресте Ирода, Гай ждал, и каждый голос в коридоре, любой шум за дверью, особенно ночью, казался знаком, что за ним пришли. В то же время каждая либурна, заходящая в порт по имперским делам, вызывала надежду, что прибыл префект Макрон. Но ничего не происходило, и Гай начал надеяться, что Тиберий действительно считает его слишком тупым для участия в каком-то заговоре.
На самом деле случилось так, что Фрасилл, молчаливый родосский астролог в старом сером паллии, таинственно – и очень кстати – заявил Тиберию:
– Я прочёл по звёздам, что Гай никогда не станет императором.
– Ты уверен в том, что увидел? – буркнул Тиберий, и Фрасилл с усмешкой ответил репликой, которая войдёт в книги историков:
– Скорее он верхом пересечёт воды залива от порта Путеолы до берегов Байи, чем станет императором...
И таким образом спас Гаю жизнь.
Но Гай ещё не знал и не мог представить, что это пророчество повлияло на спешный приезд Сертория Макрона.
Видимо, ситуация успокоилась и в Риме, поскольку молодой Ирод,хотя и оставался в темнице в оковах, но не был убит. И не началось никаких судебных процессов.
– Тиберий пока оставил его жить; сказал, что не хочет разжигать пожар в Иудее, – шепнул, бродя по библиотеке, Каллист, который после многих лет на чёрных работах стал быстро подниматься по иерархической лестнице без ведома уже больного Тиберия.
Гай глубоко вздохнул.
«Но откуда ему это известно? – спросил он себя. – И зачем он говорит мне это?»
Каллист с улыбкой удалился, как тень.
А на следующий день благодаря тайным посланиям и не столь тайному вмешательству Сертория Макрона Тиберий сделал так, что сенаторы выбрали Гая на высочайшую государственную должность консула. По древнему порядку Римской республики консулов должно быть двое, и их полномочия длились двенадцать месяцев. Но часто практиковали избирать на обе консульские должности одного и того же человека, и не на один срок, а на десятки лет подряд, как в случае с Августом. Эта должность могла оказаться пожизненной.
Гаю Цезарю объявил это один чиновник, осторожно и с подобострастной улыбкой, и не дождался никакого ответа. Гай пытался распутать замыслы Тиберия, породившие такое решение.
«Вокруг меня плетут сети. А я, запертый здесь, ничего не знаю».
Однако он не сомневался, что его избрание успокоило неуправляемых популяров и в то же время помешало занять эту важную должность какому-то опасному врагу. Но главное, оно означало, что к марту он наконец покинет Капри и в славе этой новой должности приедет в Рим, куда столько лет никак не мог вернуться. Повинуясь порыву, Гай спросил у чиновника, нельзя ли ему поблагодарить императора. Всё с той же улыбкой человек ответил, что император устал и просил – не велел! – дать ему отдохнуть.
На самом деле придворные говорили, что Тиберий уже несколько часов неподвижно полулежит в экседре со сброшенным одеялом и каким-то свитком на коленях и смотрит на море. Он страшно устаёт, шептались они, и погрузился в одиночество. Император долго дремал так. Он всё чаще допоздна, порой до вечера, оставался в постели в своих комнатах. В лучшем случае, он кое-как поднимался на закате и неподвижно смотрел на солнце на горизонте, а потом возвращался в постель. Однажды Гай Цезарь, молча отдав ему салют, встретил его слишком долгий взгляд: возможно, император хотел пообщаться, что-то сказать. Но замер. Гай тоже застыл.
На самом деле уставший от жизни Тиберий думал, что этот молодой человек пережил кое-что пострашнее, чем ночная прогулка по Тевтобургскому лесу. В его голове рождались вялые мысли о покое – те же мысли, что в старости толкнули Августа высадиться на острове Планазия, где томился в заключении его молодой внук Агриппа Постум, и, обнявшись, поплакать вместе с ним. Тиберий с беспомощным запоздалым испугом думал, что прожил жизнь, чтобы узнать жестокую бесплодность власти. Он смотрел на Гая, но Гай не смог даже шевельнуть губами. И Тиберий продолжил свой тихий путь, еле переставляя опухшие стопы.
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ АВГУСТА
На Капри, на виллу Юпитера дули разные ветры. Тёмные ветры, налетавшие ночью с моря, отгоняли воду со скал.
Наступила самая жаркая ночь его двадцать четвёртого дня рождения, последняя ночь августа, и сегодня ни один из множества местных ветров не дул на скалы острова. Море было таким гладким и чёрным, что, даже если высунуться из окна, не слышалось никакого плеска на камнях.
Гай проснулся и стал мысленно разговаривать со своей матерью, умершей и оставшейся не похороненной должным образом на том маленьком, ещё меньше Капри, островке, куда никому не разрешалось высаживаться. Его мысли кружили вокруг этой фантазии в дымке, в которой уже растворялась память о её глазах, осанке, голосе. Прошло семь лет с тех пор, как он видел её уходящей с преторианцами в накинутом на плечи лёгком плаще.
Гай открыл глаза. Светало. В комнате смутно вырисовывалась фигура Геликона.
– Ты и этой ночью почти совсем не спал, – мягко констатировал он.
Гай сел и ничего не ответил. Он действительно устал. Геликон достал пузырёк с пахучей жидкостью и, начав осторожными движениями пальцев массировать Гаю затылок, спину, плечи, прошептал:
– Тот жрец из Саиса говорил, что мечты о запахе цветов, расцветших прошлым летом, приносят только боль. Рождаются другие цветы.
Гай встал.
– Хочу спуститься к морю, прямо сейчас, – сказал он.
Геликон испугался.
– Тебе запрещено выходить без разрешения императора...
Гай улыбнулся.
– Полагаю, меня никто не остановит.
– Подожди, – попросил Геликон, но тот уже надел лёгкую льняную тунику и вышел.
По длинной потайной лестнице они спустились к морю, и никто их не остановил. Стражники молча открыли калитку, за которую все эти годы было невозможно выйти. У крохотного причала рассветное море было безмятежно гладким. Раб-нубиец отвёз их на маленькой лодочке к узкому входу в знаменитый грот, где на воду падал необъяснимо голубой свет. Поэты писали, что видели между скал водные божества со струящимися волосами, покрытые светящейся чешуёй, как хвосты у сирен[39]39
Вообще-то в древней мифологии сирены изображались полуженщинами-полуптицами, и только в более поздние века их образ смешался с русалками.
[Закрыть].
Они свернулись на дне лодки, поскольку вода ещё стояла высоко и вход в пещеру открывался тонкой щёлкой над её поверхностью. Умелый взмах вёсел – и лодка скользнула под свод и проникла в пещеру, оставив солнечный блеск позади. Глаза наполнил голубой сумрак; молчаливый нубиец поднял вёсла, и с них закапала серебристая вода. Лодка подошла вплотную к рифу.
Гай и молодой Геликон одним прыжком соскочили на риф, разделись, и их голые тела скользнули в светящуюся воду; мокрая кожа тоже стала отсвечивать голубым. Они плавали в этом свете, и вода струилась по их телам, когда они вылезали на скалы; потом они снова ныряли в воду, отдаваясь ей, смотрели друг на друга и шутили, постепенно наполняясь чувственностью. Наконец вылезли на риф и, растянувшись, стали смотреть на отлив, медленно гнавший воду прочь, но оставлявший на коже серебристые отблески.
Когда они снова поднялись наверх и подошли к портику библиотеки, Гай увидел, что Серторий Макрон, всемогущий префект, вернулся из Рима и один, без эскорта, бессмысленно сидит в тени на скамье.
«Меня ждёт», – подумал Гай и задался вопросом, кто подсказал Макрону ждать именно здесь.
Он подошёл к префекту, сел рядом и с улыбкой сказал:
– Ночь была очень жаркой.
– Я родился вдали от моря, в горах, где снег лежит месяцами, – проговорил Серторий Макрон. – Знаешь где?
Гай вопросительно посмотрел на него.
– В самой мощной крепости от Скифии до Альп – в Альбе Фуценции, в сердце Апеннин. Я вырос среди солдат четвёртого легиона и легиона Марса, среди оружия. Ты родился на Рейне и знаешь величие каструма. Альба Фуценция – это высоко вознёсшаяся неприступная крепость, окружённая длинной стеной в четыре мили.
Гай смотрел на него, а тот продолжал:
– Ты видел на Рейне и в Азии врагов Рима. А я видел в подземельях Альбы Фуценции, как Рим карает своих врагов.
Гай улыбнулся ему. Макрон огляделся и заметил, что гениальный ум Тиберия сделал виллу Юпитера идеальным местом для правления.
– Сверху, с этой надёжной скалы, удобно наблюдать за Римом и властвовать над империей.
Выразив согласие, Гай вдруг заметил, как за изгибом портика мелькнула худощавая фигура Каллиста.
Макрон сказал, что Тиберий основал безопасность власти на преторианских когортах, расквартированных в сердце Рима, рядом с исторической дорогой, ведущей на юг.
– Это мудро.
Продолжая говорить, префект спрашивал себя, проникает ли этот молодой человек в смысл разговора, так как время от времени он кивал словно бы с детской робостью, но порой, наоборот, казалось, что он унаследовал от своего деда Августа способность слушать и коварно скрывать свои мысли.
– Преторианцы никогда не поддерживали интриги сенаторов, – говорил Макрон. – И теперь, после всей этой борьбы, заговоров и гражданских войн, подчиняются только своим командирам.
Таким грубым, но явным образом он подчеркнул свою власть и облегчённо вздохнул.
Гай молчал. Но, как взлёт сокола, в памяти возник тот дождливый день в каструме на Рейне, когда трибуны восьми легионов кричали его отцу Германику, что откроют перед ним Рим силой оружия, а отец молчал.
– Ты проводишь меня в библиотеку? Там, внутри, прохладно, – дружелюбно попросил он Макрона.
Впервые Макрон вошёл туда и прищурился в полумраке.
– Смотри, – сказал Гай, проведя пальцем по полке. – Это всё труды по астрологии.
Макрон не выразил ни удивления, ни невежественного почтения. Гай взял маленький кодекс и с театральной невинностью объяснил:
– Обрати внимание: это изобрёл Юлий Цезарь. Он говорил, что свёрнутые свитками рукописи неудобны на войне.
Он сел на единственную подставку и заметил, что в библиотеке никого нет. Макрон тоже это заметил и с плохо сдерживаемым нетерпением сказал, что знает другую историю, про Августа. Гай посмотрел на него. Казалось невероятным, чтобы этот префект когорт когда-либо прочёл хоть одну книгу, и если он говорил об истории, это означало что-то ещё.
А Макрон продолжал:
– Вот послушай: когда Августу было двадцать лет, он мечтал владеть Римом. Это знают и мои люди.
В полумраке было прохладно, но, несмотря на это, рассказчик вспотел.
– Август в двадцать лет уже понял, что ненависть множества сенаторов не даёт ему взять власть. И потому, когда его войско пошло на Рим, он подумал, что лучшим оратором для выступления в сенате будет центурион Корнелий, – рассмеялся он. – Корнелий, стоя посреди курии, увидел, что сенаторы не решаются голосовать, и тогда он скинул с плеча сагум.
Сагум (старое кельтское слово) – это грубый тяжёлый шерстяной плащ, который легионеры носили в походе, и сам по себе он являлся символом войны.
– И сенаторы увидели, как он указал на рукоять меча, висевшего на перевязи.
В окне появилось солнце последнего дня августа. Но Гай, всё ещё скованный подозрительностью, прервал префекта:
– Как, он посмел войти в курию с оружием?
Вопрос сбивал с толку, он низводил знаменитый государственный переворот Корнелия до вопроса протокола.
– Именно, – яростно подтвердил Макрон, – и он крикнул сенаторам, что, если они не решатся, выборы свершит его оружие. И сенаторы тут же проголосовали.
– Я не знал этих подробностей, – заметил Гай со спокойным вниманием.
Серторий Макрон задумался, какие мысли скрывает это молодое, безмятежное, гладкое лицо с ясными глазами и каштановыми, слегка вьющимися надо лбом волосами, и на мгновение его охватил страх. Но Гай улыбнулся.
– Я рад, что ты пришёл.
Его глаза расширились, открыв удивительную силу взгляда.
– Мне тут не с кем было поговорить об истории...
Отбросив осторожность, Макрон проговорил:
– Августу тогда было двадцать лет, на четыре года меньше, чем тебе сейчас...
Сопоставление ободряло, но также и оскорбляло, а Гай продолжал улыбаться. Макрон понизил голос, он дышал часто и тяжело.
– Тиберий пользуется тобой как ширмой. Он держит тебя живым, чтобы помешать другим претендентам. Но ненавидит тебя так же, как ненавидел Агриппину.
Гай вздрогнул: впервые за много лет кто-то, обращаясь к нему, произнёс это имя. А Макрон напористо продолжал:
– Когда Тиберий умрёт, кто-нибудь подошлёт к тебе центуриона, чтобы убить, как убили последнего брата твоей матери после смерти Августа. А меня... меня загонят в какой-нибудь легион на границе с Парфией или Набатеей, если вообще оставят в живых...
Он запнулся, осознав, чем рискует, если этот парень не способен его понять или, наоборот, если эти грозные предсказания его не волнуют, потому что он уже сам всё обдумал.
Но Гай спокойно ответил:
– Ты прав.
Макрон схватил его за плечо.
– Сегодня у нас двоих есть нечто такое, чего нет у других. У меня – когорты, и если я пойду на Рим, он будет у меня в кулаке. А у тебя – имя твоего семейства, слава отца... И ты молодой, не внушаешь страха...
Он рассмеялся.
Рассмеялся и Гай, уставший изображать тупую невинность взгляда. Он подумал: «Вы ещё не знаете, что такое страх; ничего, у вас будет время его увидеть».
– А если у нас не получится? – спросил он Макрона.
– Тебя убьют. И меня тоже. Но если получится...
– Ты прав, – спокойно повторил Гай.
– Так ты согласен? – переспросил Макрон, задыхаясь от нетерпения, и увидел, как Гай кивнул. – Так я еду в Рим?
– Езжай, – велел тот.
Это был его первый приказ, и он постарался не проявить охвативших его чувств.








