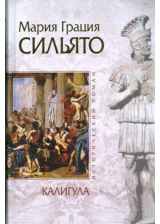
Текст книги "Калигула"
Автор книги: Мария Грация Сильято
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
ЗИМА
Прошло лето, за ним осень, и однажды утром, когда по нежному римскому зимнему небу пробегали белые облака, пожилой офицер, уже оставивший службу в легионах и заведовавший охраной дома Ливии, вдруг сказал Гаю:
– Я видел твою мать, Гай, ещё молодой, какой, наверное, её запомнил ты.
Юноша резко повернулся и посмотрел ему в глаза, словно в зеркало.
– Она была прекрасна, – проговорил офицер ай понял, что в его памяти осталось её лицо, каким оно было пятнадцать лет назад. – В зимний холод мы сражались с херусками Арминия, напавшими на мост через Рейн. И наши солдаты, защищавшие мост, отступили с криками, что мост потерян и что его надо сжечь. Но тут под германскими стрелами появилась твоя мать. Я был там и видел это: она остановила бегущих солдат и велела им сражаться. Люди устыдились, и мост был спасён.
Даже римские историки, столь скупые на похвалы, передают это в своих записях. «Femina ingens animi» – «женщина великого духа», – коротко написал Тацит.
Гай ощутил рискованный порыв обнять этого офицера, но переборол себя, и тот, не ожидая никакого ответа, пошёл своей дорогой.
А Гай пошёл своей. Кончалась уже вторая его зима в доме Ливии, зима суровая, ветреная и непривычная: снег покрыл гору Соракт и Альбанские холмы, снег был даже на розах в саду и камышах-папирусах, привезённых Августом из Александрии. В то утро Гай вдруг заметил, что сквозь замёрзшую траву вылезают фиалки, пересаженные с вулканического озера Неморенсис.
После многих недель он увидел розовые бутоны, семенящих по искусственно насыпанной почве дроздов, увидел, как из полусгнивших тёмных камышей пробивается зелёный побег. И спросил себя, почему до вчерашнего дня никогда ничего этого не видел.
И вдруг, без всякой логики, подумал, что, возможно, жизнь принадлежит ему. У него есть союзник – не Тиберий, не Ливия, не Сеян, не сенаторы в своих ненавистных тогах и похоронных чёрных башмаках, они никогда не смогут перетянуть его на свою сторону. Его союзник – Время, нетленный бог, опирающийся на серп.
Он шагал, и утро казалось легким и нежным. Пусть он последний в своём роду, но обладает кое-чем, чего никогда не получат его старые враги, – будущим. Он детёныш льва с ещё неокрепшими когтями. Нужно подождать, как ждут камыш, дрозды, фиалки и розы. Гай ощущал мощное дыхание Времени в тишине сада. Он поворачивал эту мысль так и сяк, и она становилась всё яснее и не встречала преград, как теряет шероховатость камень, обрабатываемый на точильном круге.
Спустя несколько дней Гай услышал из обрывочных разговоров вольноотпущенников, что Ливия Августа «заболела». Говоря так, они смотрели на него, возможно чтобы уловить его реакцию. Но он казался лишь по-детски рассеянным.
Говорили, что на Капри отправили гонца, и вся августейшая фамилия нервно дожидалась императора, который уже много лет не навещал свою страшную мать. В один из этих долгих мучительных дней некий вольноотпущенник, стоя в том углу, где тихо сидел и читал Гай, с усмешкой сказал по-гречески с сирийским акцентом:
– Что толку прибирать и прибирать в комнатах. Тиберий никогда не приедет. Последний раз, когда они виделись, встреча была не слишком приятной: она показала ему эти кошмарные письма Августа...
Гай напрягся в своём углу, но говоривший не проявлял ни сдержанности, ни страха, что его услышат, – напротив, его голос стал громче, и казалось, что слова обращены именно к Гаю.
«Какие письма?» – думал тот.
Сириец-вольноотпущенник продолжал ухмыляться:
– Письма тех времён, когда Тиберий был в заключении на Родосе. Ливия хранила их сорок лет, и он рассердился, пытался вырвать их у неё, но она не поддалась...
Гай поднял глаза и встретил взгляд вольноотпущенника. Значит, его слова и правда предназначались именно ему. Самые старые и верные слуги Ливии таили в себе, как и все рабы, бездну не находящей выхода злобы. Юноша спросил себя, где же спрятаны эти письма Августа. Никто не мог их найти. Так на века они и останутся тёмной легендой, о которой шепчутся историки.
Вольноотпущенник со своими друзьями удалился, и Гай сказал себе, что если этот человек так говорил и хотел, чтобы его услышали, значит, будущее изменилось.
Действительно, императора тщетно дожидались, пока Ливия умирала в Риме. Одна старая рабыня сказала, что Тиберий после шестидесяти лет так и не простил матери, что в дни своей великой любви с Августом она оставила его младенцем в безжалостных руках наставников и учителей. Но возможно, шептались люди, хватало и других причин. В отдалённых и тихих помещениях дома, читая длинные и запутанные «Приключения Александра», Гай радовался горькому одиночеству старой Новерки. Известие, что Ливия умирает в одиночестве, так и не увидев сына, переходило в Риме из уст в уста, и кто-то, чтобы оправдать скандальное отсутствие Тиберия, придумал, что император опасается заговора и покушения на него.
Гай вошёл в свою комнату и закрыл за собой дверь. Он хотел – пусть даже с этим сорванным засовом – вновь обдумать каждое услышанное слово наедине с собой. Никто не сказал ему, обратилась ли Ливия к сыну ещё раз, послала ли ему своё последнее письмо. В любом случае, на Тиберия это не повлияло. И она осталась лежать в своей комнате с изысканно расписанными стенами, чтобы умереть в одиночестве.
Так закончилась долгая жизнь Ливии Августы. Гаю не позволили увидеть её, да он и не просил. Все с последними ничтожными надеждами ждали прибытия Тиберия на похороны. И ждали очень долго, так что, когда тело возложили на погребальный костёр, как пишет язвительный Светоний, оно уже почти разложилось.
И вот римские магистраты обнаружили, что после стольких смертей ближайшим родственником Новерки в Риме остался молодой Гай. Бесстыдные игроки в борьбе за власть возложили на него, восемнадцатилетнего юношу, обязанность произнести погребальную речь. Это будет его первое публичное выступление, сказали ему с притворной почтительностью дворцовые чиновники, и он спросил себя, какие указания они получили и с какой целью. Кто-то добавил с двусмысленной лестью, что все горят любопытством услышать его: ведь он сын легендарного Германика и Агриппины, внучки Августа. Но Гай сказал себе, что всё это результат опаснейших замыслов Тиберия, и задумался о его мотивах.
Имперских чиновников удивило абсолютное спокойствие, с которым он, столь молодой, готовился к выступлению, но в конце концов все решили, что глупо придавать этому слишком большое значение. Они не знали – да и сам он не знал до того дня, – что эта публичная речь станет для него чистой радостью, восторгом, источником очарования.
Гай сделал вид, что готовится к речи. После длительного чтения его ум был полон выразительных латинских фраз, чистых и пропорциональных греческих конструкций; но с осмотрительным притворством после двух неловких строк он попросил помощи у членов августейшей семьи, и те помогли ему с равной мерой осторожности и угодливости. Юноша с удовлетворением видел, что сам бы он написал торжественную речь получше их, но почти ничего от себя не добавил.
Он говорил о смерти Ливии, об Августе и обо всей этой истории со злорадным удовольствием: с каждым словом прошедшие тяжкие годы падали всё глубже в прошлое, заканчивались, чтобы уже никогда не вернуться. По мере того как он говорил, страшная Новерка отступала в тень и её замыслы умирали вместе с ней, а он, детёныш льва, оставался живёхонек. Но всё это прикрывалось простодушием перед сенаторами, жрецами и магистратами, которые, несомненно, знали гораздо больше его о кровавой истории его семьи, и пока он говорил, со своим долгим лисьим опытом размышляли, что кроется за этой юношеской безоружной невинностью. Ему ещё представится возможность оценить молчание и внимание сенаторов, но в тот день никто не мог этого вообразить. Во всяком случае, пока Гай говорил, он пару раз запнулся, глядя в записи, словно в самом деле покорно читал написанный другими текст. Если кого-то нужно было успокоить, то это ему удалось.
Наконец дым погребального костра обволок старый, дряхлый труп, а потом и вовсе скрыл. Бронзовые двери в мавзолей Августа открылись, чтобы впустить похоронный кортеж, который поставил урну на положенный монумент. И когда всё, что осталось от Ливии, поместили внутри, Гай несколько часов ощущал абсурдную, страстную надежду, что его мать и брат Друз могли спастись. Однако на следующий день после погребения от Тиберия прибыли совершенно неожиданные указания. Видимо, он написал их сразу же, как только узнал о смерти матери, или приготовил заранее. Император приказывал закрыть зловещий дом Ливии, а молодого Гая переселить в дом Антонии, престарелой матери убитого Германика, то есть к родной бабушке.
Антония родилась много лет назад от короткого и несчастливого брака дочери Августа, влюблённой Октавии, и мятежника Марка Антония. И теперь все упоминали о её славном августейшем происхождении, хотя никто не смел называть отца, чьё имя она, однако же, носила с горькой гордостью. Говорили, что Антония – единственная во всём Риме, кто не боится Тиберия. «Ни один доносчик, ни один шпион не смог бросить на неё тень». За всю жизнь она лишь однажды была замужем, в очередной раз ради безжалостных и замысловатых интересов власти, – за вторым сыном Новерки, скандально знаменитым сыном, которого Август не смог признать своим, так как это был сводный брат Тиберия, и потому он умер довольно молодым. После его преждевременной смерти Антония несколько десятилетий прожила вдовой, безупречная и великолепная в своём доме, где с несравненным изяществом разместились собранные в Египте сокровища. Её окружали верные рабы, вольноотпущенники, экономы – почти все египтяне или нубийцы. Во дворце, где она проводила суровые в своей простоте дни, читали великих писателей древности; сюда приходили очень немногие, только артисты, историки, философы или торговцы с шелками, слоновой костью и жемчугом, с чанами редких растений из Африки и Азии для её садов, с бальзамами и благовониями.
Молодой Гай, выслушав распоряжения насчёт своего будущего от заговорщически улыбающегося офицера – впервые за столько месяцев кто-то ему улыбался без страха, – ощутил прилив абсолютного счастья, словно среди лета нырнул в прохладное озеро. Ведь Антония была той, кто в отрочестве застал последние дни Клеопатры, трагедию самоубийства двоих в Александрии и триумф Августа.
ДОМ АНТОНИИ
Престарелая Антония была чудесной госпожой без возраста и без морщин, в нежных шелках очаровательной расцветки, окружённая изящнейшим двором, в сравнении с которым жилище Ливии казалось отвратительным и убогим. Когда они остались наедине, Гай в порыве чувств обнял её и сказал:
– Вот уже почти два года я ничего не знаю о моей матери и брате Друзе. Два года я не видел их, не слышал их голоса, не читал ни слова от них. Кажется, в Риме никто ничего о них не знает!
Его голос чуть не сорвался на крик.
Антония вдруг сжала его лицо руками, и тяжёлые перстни сдавили ему виски.
– Тебя могут услышать, – шепнула она и покрыла его лицо нежными поцелуями.
Гай ощутил мягкие надушенные волосы, гладкую щёку, шелестящий шёлк её одежды с вышивкой и длинными рукавами на греческий манер. Он замолчал.
– Я тоже не знаю, – прошептала Антония.
Гай ждал. Тревога, словно когтями, терзала ему нутро. Антония продолжила:
– Я тоже не много смогла узнать, когда спросила у Тиберия. Он ответил, что они живы, но больше ничего сказать не захотел, потому что безопасность империи важнее известий о семье.
Она остановила протестующий жест юноши и посоветовала:
– Подожди. У тебя есть время, – и провела пальцами по его губам, не давая произнести лишних слов. – Что касается сестёр, Тиберий выдал их, таких юных, замуж за своих преданных патрициев, что оказались старше своих жён лет на двадцать, а то и больше.
Гая охватила тоска, а потом бессильная ярость.
– И теперь кровь Германика оказалась разбавлена кровью его врагов!
Антония покачала головой. Её лицо с тонкой чистой кожей, натянутой на скулах, высокими бровями и гладким лбом стало удивительно спокойным. Казалось, она никогда не страдала. Шею её обвивал в два оборота золотой с жемчугом обруч.
– Знаю, что тебе трудно, но прошу тебя: не ищи своих сестёр, не говори о них ни с кем. Жди.
Она погладила его и, ощутив, что он дрожит от злости, проговорила:
– У тебя красивые глаза. Дай мне рассмотреть их.
Гай широко раскрыл глаза, и Антония пробормотала:
– Как у твоего отца: серо-зелёные, больше зелёные, чем серые... – Но, ощутив в них сдерживаемое, почти гипнотическое напряжение, прошептала: – Твой взгляд сильнее.
Гай прищурился и улыбнулся.
– Продержись ещё немного, – сказала Антония. – Кровь Германика – это ты.
Она провела его в зал и усадила рядом с собой на низенькую скамеечку, понемногу смягчая в нём мятежное нетерпение.
– Я была на семь лет младше тебя, когда вся моя жизнь переменилась. Это случилось в великий исторический день для Рима – третий день триумфа Августа после завоевания Египта.
Зал был весьма изящен и тих, здесь ощущался аромат от стоявших в больших вазах цветов.
– С тонкими золотыми цепями на шее и запястьях, в длинных шёлковых одеждах, поблекших от пыли, – до того я никогда не видела шёлковых одежд – во главе кортежа шли двое пленных подростков. Это были мои брат и сестра, и я видела их в первый раз. Это были дети моего покончившего с собой отца и умершей вместе с ним его подруги Клеопатры, царицы, заставившей его бросить мою мать. Они были моими ровесниками. Моему отцу удалось почти одновременно оставить память о себе двум женщинам. Моя мать плакала, когда я родилась. Потом говорили, что и та другая, на юге, тоже очень плакала.
Гай сидел у её ног, как годами сидел у ног матери, опершись локтями о её колени. Она погладила его, повернула к себе его лицо и спросила:
– Ты не веришь, что всё это было для меня невыносимо? Возможно, нынче ты переживаешь то же самое?
Гай отстранился от её ласк и не ответил. Она же двумя руками надавила ему на виски и помассировала лёгкими пальцами, чтобы разогнать его мысли. Гай закрыл глаза.
– Египетские рабы говорили мне, что Марк Антоний, – она каждый раз называла своего отца по имени, как историческую личность, – в последние дни, когда накатывала тоска, просил свою царицу погладить его...
Её руки продолжали гладить его виски.
– ...Вот так.
Гай открыл глаза, и Антония сказала:
– Моему отцу было тридцать лет, когда он впервые заговорил с царицей Клеопатрой, и это случилось в тот день, когда убили Юлия Цезаря.
Клеопатра ещё жила в Риме в дни своей шумной любви с Юлием Цезарем, и их сын, маленький Птолемей Цезарь, наследник, одним фактом своего существования политически терроризировал почти всех сенаторов. И потому в то мартовское утро Марк Антоний, верный сторонник Юлия Цезаря, с шумом ввалился в её резиденцию и, должно быть, сказал ей с грубой непосредственностью, что её господин злодейски убит перед всей курией и что ей тоже грозит большая опасность. Трагичность момента не позволила излишних экивоков ни тому, ни другой: они поняли друг друга, словно были знакомы всю жизнь. Он видел её головокружительную красоту, высочайшее мужество, не позволявшее предаться слезам, молниеносную сообразительность; она же видела в нём единственного мужчину в Риме, кто позаботился о ней и дал возможность сбежать с маленьким сыном, вызывавшим ненависть всего Рима.
– Их новая встреча была неизбежна. Недействительно, вскоре он вновь увидел её на Востоке. И уже ничто не могло их разлучить. Ничто – даже его брак с моей матерью, дочерью Августа.
Весь Рим знал, что Марк Антоний с трудом переносил свой брак с Октавией, напоминавший рабские оковы. По сути, оставив жену в Риме, он тут же отправился к своей царице. Придуманная Августом брачная стратегия быстро превратилась в жгучее унижение. Но сенаторы помнили, что за несколько лет до того «этой египтянке» удалось помрачить рассудок столь опытного и твёрдого человека, как Юлий Цезарь, до такой степени, что весь сенат не нашёл другого выхода, кроме как убить его. И теперь Марк Антоний в своём союзническом пакте с Клеопатрой тоже уступил ей остров Кипр, часть Сирии и часть провинции Африка вокруг Кирены. Как и в случае с Юлием Цезарем, кроме беспощадной любви она строила и глобальные планы, касавшиеся власти. В Риме от этого все пришли в бешенство. «Он дарит города и провинции, как своё личное имущество!» – кричали сенаторы.
– Моя мать любила его. У него было всё, чтобы вызвать любовь столь мягкой женщины: военная слава, вечная занятость, репутация развратника. И моя мать до последнего дня надеялась, что он вернётся. Но, как говорят старые сенаторы, несмотря на повеление Августа, на слёзы и судорожные попытки моей матери вернуть его, он не мог удержать себя на расстоянии от египтянки. Некоторые в конце концов нанесли ему там визит и вернулись в негодовании с рассказами, что он стал неузнаваем, что в нём не осталось ничего от римлянина. Чем вызвали горькие слёзы моей матери... И, наконец, он послал ей письмо с разводом, чтобы жениться на Клеопатре. Такое жестокое письмо, что моя мать закричала: «Это не мог написать он!» Но Август велел ей не плакать. «Это письмо написано в опьянении от вина, – сказал он, – и ранит не женщину, а наносит оскорбление Риму». Так началась война, в которой Марку Антонию было суждено погибнуть.
Голос Антонии звучал взволнованно, потому что столько лет она ни с кем не могла вот так открыто говорить. Молодой Гай с чувством умиротворения и уверенности оперся локтями о её колени, не ощущая нужды озираться.
Но она прекратила гладить его.
– И вот пришёл день, страшный день триумфа Августа. Я смотрела на кортеж с высоты императорской трибуны. И видела повозки и носилки с выставленной напоказ добычей золота. Это была золотая река: статуи богов, львы, сфинксы и ястребы, канделябры, вазы. Толпа опьянела от вида всего этого. А потом вдруг вынесли огромный портрет царицы Египта на ложе – почти нагая, она подставляла грудь укусу кобры. И крик толпы оборвался, лишившись дыхания при виде этой картины. Но за образом мёртвой царицы последовали живые пленники – её дети от покончившего с собой моего отца. По всей дороге толпа непрестанно выкрикивала оскорбления этим подросткам, и, несмотря на охрану, кто-то пытался добраться до них. Мальчик никого не видел, а девочка вздрагивала как газель, если до неё дотрагивались. Их руки безвольно повисли в цепях, но голову они держали высоко. За ними следовал растерянный мальчик ещё младше их, лет семи. И он тоже был в цепях. С высоты трибуны – поскольку я, двенадцати летняя, оставалась племянницей победителя, хоть он победил и убил моего отца, – я стояла рядом с матерью и смотрела. Кому-то удалось схватить девочку за шёлковое платье, и оно сползло с худенького плечика. Охрана схватила нарушителя. Я видела её кожу, более тёмную, чем наша, цвета мёда. Из её глаз выкатились скупые слёзы. Под нашей трибуной кортеж остановился. Я увидела белых жертвенных быков, музыкантов, ликторов. Август на квадриге поднял руку, приветствуя нас. Толпа взревела. Поскольку моя мать, брошенная и униженная, была ему сестрой, это была его месть за неё. Но побеждённый и убитый оставался мне отцом. Детям той, другой женщины пришлось остановиться перед нами, но они не подняли глаз. Крики затихли. «О, и ради этого устроили войну?» – проговорила моя мать. Кортеж двинулся снова. Какое соцветие великих имён дал Марк Антоний этим прекрасным детям внизу, сыновьям другой женщины, по сравнению с данным мне незамысловатым республиканским именем Антония! Мальчика звали Александр Гелиос, именем завоевателя Давилона и божественным именем солнца, а девочку – Клеопатра Селена, именем царицы Египта и лунного божества. Они были близнецами. Астрологи в Египте нашли в их рождении чудесные знаки – в семени их отца, лоне матери и зодиакальных созвездиях. Но теперь все эти знаки принесли беду. Позади них, закованный в цепи и напуганный, двигался самый блистательный кортеж, какой только видел Рим: сотни артистов, врачей, архитекторов, поэтов, жрецов, музыкантов, слуг, поваров, акробатов – весь двор царицы Египта в своих разноцветных одеждах. Август привёл их сюда как диковинных животных, чтобы бросить на потребу народу Рима. Но моя мать смотрела на всё это широко раскрытыми глазами, и в этот момент, как потом сама мне рассказала, она начала понимать, почему её любимый Марк Антоний оставался в той стране с той женщиной, пока смерть не забрала его. И от этого его мука немного утихла.
Гай Цезарь слушал; за год молчания он привык слушать. – Ты ещё не устал?
Он страшно устал, ему хотелось лишь лечь, свернуться калачиком и уснуть. Но голос и ласки приносили утешение – это были первые, чудесные моменты полного доверия.
А престарелая Антония полными слёз глазами увидела в уставшем мальчике тень своего сына, отравленного в Сирии.
– Я очень стара, – сказала она, и улыбка осветила её чистое лицо, – и судьба пожелала дать мне долгую память.
Её память была подземельем, куда десятки лет никто не входил.
– Но я не хочу нагружать тебя новой ненавистью. С жизнью моей матери Август творил всё, что хотел, как и со всеми женщинами своей семьи, и она никогда ничего у него не просила. Однако после того ужасного кортежа на триумфе попросила отдать ей троих детей Марка Антония и царицы Египта. Август вскоре забыл о них, как и обо всех рабах; он думал, что она хочет получить удовольствие от мести. Помню, я дрожала в ожидании. Но когда прибыли эти потерявшие всякую надежду напуганные подростки и стадо рабов под конвоем преторианцев, моя мать мне шепнула: «Я хочу понять». Мы стояли в атрии. Пленники двигались медленно, безмолвно, уверенные, что во дворце брошенной жены встретят самую мучительную смерть. Моя мать сказала мне: «Смотри, сколько они выстрадали...» Она первая шагнула навстречу девочке по имени Клеопатра Селена, моей сестре, которую я до этого дня не знала. Девочка была очень тоненькая, высокая, и стояла неподвижно, свесив руки вдоль тела; у неё были большие тёмные глаза. Мать чуть развела руки, положила их ей на плечи и привлекла к себе. И вдруг, в едином порыве, не сказав ни слова, они обнялись.
На последней фразе Антония запнулась, и в её голосе послышались слёзы шестидесятилетней давности.
– В этот момент я посмотрела на рабов, которым предстояло умереть, – сказала она, – и увидела, что это значит – сказать кому-то: «можешь жить». Я, почти ребёнок, увидев, как мужчины и женщины, рыдая, покрывают поцелуями руки моей матери и её одежды, испытала необычайные чувства и заплакала ещё пуще них. Все улыбались с мокрыми глазами, говорили на разных языках и произносили непонятные слова. Тут моя мать впервые в жизни сделала властный жест – вызвала командира преторианцев и велела им всем уйти. И в наш дом вошёл Египет.
Дом Антонии был единственным местом в Риме, где все эти годы, хотя и вполголоса, утверждалось, что Марка Антония и Клеопатру погубила не любовь, а великий, неосуществимый план объединения обоих берегов Средиземного моря.
А маленькие царственные сироты и пленники, прибывшие со своими слугами, музыкантами, жрецами, стали играть на систрах и лютнях, в ночь полнолуния обращаясь к древней Исиде, они носили складчатые льняные одежды цвета оникса, цвета Нила, цвета цветущего лотоса, умели смешивать священные благовония и рассказывали про храмы из розового гранита, построенные три тысячи лет назад.
Образованнейшие наставники объяснили, что в их стране было изобретено земледелие и наука гидравлика, жизненно необходимая в землях, где не бывает дождей. Они сказали, что Александрия находится в самом центре культурного и научного обмена, и утверждали, что понятие божественного предчувствия родилось в религиозно-философской школе в Гелиополе, где в одном здании слились воедино архитектура, музыка, абстрактные науки, медицина. Ещё тысячу лет назад фараон Рамзес III осыпал безмерными дарами этот величайший центр мысли в доэллинистическом Средиземноморье.
– Но никто в Риме, – призналась Антония, – не хотел слушать этих разговоров. Только мы здесь пережили такую же трагедию. И память о ней была неизгладима. Теперь ты понимаешь, Гай, почему твой отец совершил то путешествие, стоившее ему жизни, и почему хотел, чтобы ты, хотя и ничего не знавший, отправился с ним?








