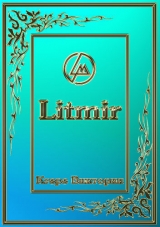
Текст книги "Мой ангел злой, моя любовь…(СИ)"
Автор книги: Марина Струк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 68 страниц)
– Очередные планы кампаний в вашей очаровательной головке? – усмехнулся Влодзимир, глядя, как она взволнована, как то и дело оборачивается назад, к столу, от которого к ним уже идет ротмистр в белом мундире. Уйти сейчас, когда он так близко? Когда он сам идет к нему?
– Мария Алексеевна, – Бурмин настороженно взглянул на Лозинского, приблизившись к ним, заметил, как взволнованно крутит ручку веера Мария, как она встревожена. – Вы говорили, уходите на миг, а, кажется, прошла вечность. Я не мог не последовать за вами. Сударь?
По правилам Мария должна была бы представить мужчин друг другу, но назвала по имени только Бурмина, видя, каким огнем вдруг вспыхнули глаза Лозинского при виде офицера. О поляке же она сказала только «мой давний знакомец». Хотела еще придумать имя, да только растерялась, запнулась. Оттого и осталось только взять Бурмина под локоть и увести прочь от Лозинского.
– Помните же – я непременно нанесу вам визит следующего дня, сударь, – проговорила Мария, отходя. Ее глаза так и говорили Лозинскому: «Держитесь подальше до моего визита! Держитесь подальше!», хотя губы сложились в вежливую располагающую улыбку.
Но Лозинский снова ступил в ряды наблюдателей, но уже ближе к офицерам русской гвардии, так встал у стола, чтобы слышать их разговоры, и понять кто именно из тех, чьи эполеты сверкают в свете свечей, тот, кого он ищет с тех самых пор, как армии союзников ступили в Париж. По правде говоря, он надеялся, что Оленин сгинул на полях сражений, по которым пришлось пройти русской армии, если действительно не погиб тогда, на Бородино, как говорил французский солдат Лодзю. Но, как оказалось, тому удалось благополучно миновать все опасности, выжить в аду кровопролития и ступить в Париж победителем. Победителем!
О, как же крутило Влодзимиру в тот день душу от ненависти к ним, этим офицерам, ровными рядами едущим по парижским бульварам и улицам! Он смотрел тогда из толпы на их лица, слушал приветственные крики парижан и думал, что весь мир перевернулся. Хотя нет, мир для него перевернулся еще ранее, когда отступали по дорогам Смоленщины остатки Великой армии. Когда приходилось отбиваться от казаков, налетающих нежданно со спины, когда, проходя по лесным дорогам, с опаской смотрели на каждый куст в ожидании появления крестьян, вооруженных топорами и вилами. Когда боялись даже скопления собственных солдат, озверевших от голода и холода после оставления Смоленска, в котором планировали найти теплые квартиры и пропитание, а нашли только выжженные дома и пустые амбары.
От деревни к деревне Влодзимир терял людей, оставляя их тела вдоль проклятых русских дорог. От того места недалеко от Милорадово, когда он оставил одного из кузенов, служившим трубачом при его полку, до Березины, где погиб Лодзь, защитивший своего хозяина ценой собственной жизни, заслонивший его от тех, кто хотел сбросить Влодзимира с наспех построенного моста через реку.
Переправа у Березины. Это место еще долго снилось Влодзимиру ночами. Да и как забыть тот момент, когда люди превратились в зверей, когда потеряли человеческую сущность, пытаясь выжить в том аду холода и льда? Мог ли он когда-то подумать, что ступит на польскую землю таким – в грязном и рваном мундире, кутаясь в плащ с чужого плеча, без сумы и без верного своего коня, которого пришлось бросить на том проклятом берегу. Что от его эскадрона останется только горстка людей. Что все они почти лягут в той ненавистной ему стране. Что его душа медленно умрет с каждым шагом, что удалял его от того дома и той липовой аллеи, от тех дивных глаз, что порой снились ему ночами. Его удача, не оставлявшая его с самых первых дней войны, перешла другому. Его прекрасная панна доставалась другому, оставаясь за спиной. Даже ее дар остался лежать на той земле, когда сорвалась с седла сума, не удержавшись при той бешеной скачке, в которую пустились уланы, бросая награбленное, уходя от отряда партизан, нежданно свалившихся на них из леса.
– Андрей! – окликнули по имени одного из офицеров, и Влодзимир вернулся из своих мыслей на грешную землю. Именно так звали жениха Анны. Анджей, Андрей. Он прочитал это в письмах, что подобрал в ее покоях. Его письма к ней, полные воспоминаний и нежности, за которую Влодзимир ненавидел его так, как никогда не ненавидел ранее. Этот русский получил все, что должно быть у него, Влодзимира! Честь и славу победителей и прекрасную панну, что боролась с ним до последнего, лишь бы остаться с этим светловолосым полковником.
Это был именно полковник, не ротмистр, как он искал ранее. С орденами и медалями на груди за каждое из сражений, что вели к поражению Великой армий, к поражению и позору Влодзимира. Это был тот самый человек, которого Влодзимир безуспешно искал вот уже несколько дней в Париже. И если бы не Мария, которую он сразу же узнал в той лавке, едва ли нашел бы.
«…Андрей стоит сотни таких, как вы!», когда-то сказала ему Анна. И он прочитал тогда в ее глазах, что она целиком и полностью принадлежала, и что она всегда будет принадлежать этому русскому. Что бы Влодзимир не сделал… и что бы она ему невольно не позволила. Он сумел тронуть ее тело, он умел это делать. Но вот сердце… Сердце так и осталось в руках Оленина. Влодзимир смотрел сейчас на эти руки в грязно-белых перчатках, лежащие на зеленом сукне игорного стола, и вдруг представил, как они ласкали его Анну, как эти пальцы скользили по нежной коже. Кровь снова закипела в жилах огнем ненависти, подчиняющей себе разум. Оленин вернется в Россию победителем, вернется в Милорадово, где его ждет Анна. И она снова будет под его руками и губами… в его постели… в его жизни. Проклятье!
– Вам везет, господин полковник, – очаровательно улыбнулась француженка в палевом шелке, когда в который раз число Андрея принесло ему выигрыш.
– О, – донеслось до Влодзимира. Это Александр Кузаков чуть склонился над столом, чтобы его лучше было слышно. – Немудрено, мадам. Наш господин полковник будто заговорен на удачу. Во всем ему она улыбается – и в игре, и на поле боя.
– А в любви? – прищурила хитро глазки француженка. – Убеждена, что и в любви господину полковнику улыбается Фортуна.
Андрей как-то криво улыбнулся в ответ француженке, и Влодзимиру не понравилась эта улыбка. Разве можно так открыто показывать свою любовницу, когда истинное сокровище ждет тебя в родной стороне? Разве можно флиртовать с француженками, как это делал Оленин ныне с этой блондинкой? Влодзимир будто угадал, когда говорил, что Оленин недостоин любви и преданности панны. Он не встанет подле нее под венцы, Влодзимир никогда не позволит тому случиться. Оленин не вернется в Россию… никогда не вернется!
– О, господин полковник, вам снова улыбнулась удача! – захлопала в ладони француженка, уже поднявшаяся со своего места за игорным столом и занявшая место среди зрителей, но поближе к Андрею. Мария же, отдавшись на волю своих мыслей, даже не заметила этого маневра. Казалось, она внимательно слушает Бурмина, что-то говорившего ей вполголоса, кивая ему в ответ, но на самом деле, она пыталась найти в хаосе мыслей то самое верное решение, которое ей может помочь предотвратить то, что она явственно ощущала в воздухе ныне, а также что-то сделать в отношении Шепелевой. Той было не место в имении Андрея, когда тот вернется в Россию. Она должна была уехать из Милорадово прочь, уйти наконец из жизни Оленина. И Лозинский может помочь ей в этом, разве нет? Если только не спутает карты для розыгрыша очередной партии до начала игры…
– Жаль, что удача так не улыбалась полковнику ранее, – раздалось вдруг среди зрителей, и тут же повисла странная тишина за этим концом игорного стола. Все повернулись к темноволосому мужчине в бархатном сюртуке бутылочного цвета. Кто-то с удивлением, кто-то – с любопытством, выжидая, чем закончит свою речь этот странный человек. Мария – с таким явным ужасом на лице, что Кузаков невольно приподнялся со своего места за столом. Лишь Андрей даже бровью не повел, а только перевел взгляд с поля стола на говорившего, чуть прищурив глаза.
– Жаль, что полковнику не улыбалась удача ранее, – повторил Лозинский. – Когда полковник в числе остальных бежал к Москве, как заяц, в числе же прочих оставляя самое дорогое, что у него было. Для милостей врага, полагаю… для милостей и прочего…
– Позвольте, сударь…! – вскинулись тут же офицеры, распознавая в реплике не только оскорбление лично Оленина, но и всей армии в целом. Отступили тут же от Лозинского те, кто стоял возле него, образуя вокруг него некое свободное пространство. Андрей придержал одного из ротмистров своего полка, покачал головой, показывая, чтобы тот отступил.
Это было его дело. Он распознал мягкий акцент в русской речи говорившего. Поляк. Это был поляк, и Андрей едва принудил себя успокоить свое сердце, едва не выскочившее из груди при осознании того, кем мог быть этот поляк, выровнять дыхание. Со стороны казалось, он даже бровью не повел, хотя внутри был раздираем на части вмиг вспыхнувшими эмоциями.
– Полагаю, что вы ждете именно моего ответа, господин…
– Пан Влодзимир Лозинский из фольварка Бе…, – но договорить Лозинский, шагнувший ближе к краю стола, за которым сидел Андрей не успел. Тот вдруг резко поднялся на ноги, не отрывая взгляда от поляка.
– Какого черта вы здесь делаете, Лозинский? – вдруг тихо спросил Андрей, на миг ставя Влодзимира в тупик. – Когда император даровал милостью своей вам возможность вернуться в его подданство…
– В его подданство? – переспросил Влодзимир таким тоном, что офицеры зашумели снова, переговариваясь, а французы и офицеры союзных войск, не понимающие ни слова из русской речи, отступили еще дальше от поляка.
– Даже ради нее…? – еще тише проговорил Андрей, чтобы его слышал только Лозинский. Тот в ответ только скривился невольно, полагая, что русский смеется над ним. Да разве и может быть иначе сейчас, когда он, Влодзимир, кругом в проигрыше, а полковник в победителях даже за игорным столом? Кровь настолько громко застучала в ушах, что Влодзимир пропустил тот момент, когда Андрей резко размахнулся и ударил его, как простого холопа, еще больше распаляя ненависть, бурлящую в поляке. Рот наполнился соленым привкусом крови из лопнувшей губы, а сердце горечью оттого, что русский сумел ударить первым. До того, как нанес удар сам Влодзимир.
Он поднял руку и бросил Андрею перчатку, которую успел стянуть с руки, пока стоял в числе зрителей еще мгновение назад, движимый желанием кинуть ту прямо в это лицо, столь ненавистное ему сейчас. Нанести оскорбление, от которого не будет больше шага назад. Только к барьеру, только к смерти одного из них. Потому что Влодзимир желал смерти этого русского. Только его кровь могла принести хоть какое-то облегчение его израненной за последние годы душе. За то, что оставил поневоле в русских землях, за свое потерянное счастье, за свою запятнанную честь, за то, что оставлял своих раненых людей среди Смоленщины, за то, что убегал, как загнанный зверь, из России, пытаясь спастись от плена.
Но даже в его вызове удача изменила Влодзимиру. Он целился в лицо Андрея, но попал в грудь – перчатка скользнула по мундиру, задев ордена на груди полковника, упала на пол. О, как же ненавидел в тот момент Лозинский этого русского! Ему казалось, его душу разорвет на куски от этой ненависти.
– Благодарю вас за эту услугу, – улыбнулся уголками рта Андрей, намекая на вызов.
– Не стоит, право! – бросил в ответ Влодзимир. – Пистолеты. Завтра на рассвете. За Адовой заставой [523]523
Застава на южной стороне Парижа, где возле которой располагались знаменитые Катакомбыю Оттого и название
[Закрыть]– самое место для того, что отправить вас на тот свет, не находите?
– Постарайтесь дожить до рассвета, сударь, с вашим-то норовом, – усмехнулся в ответ Андрей. – Дабы не лишить меня удовольствия увидеть вас под прицелом. Господа, кто окажет мне честь быть моим секундантом на завтрашнем деле? Только помните, господа, что мира еще не было… Что у вас, сударь? Ваши секунданты?
Но у Лозинского не было знакомцев в Париже – кузен ушел с гвардией, решившей сражаться и умереть вместе с Наполеоном, и тогда Кузакову по просьбе Андрея пришлось взять на себя эту роль после долгих уговоров. Себе же Андрей взял в секунданты ротмистра своего полка.
– Я намерен убить вас, господин полковник, – сказал на прощание Лозинский, разозленный хладнокровный видом Андрея. Словно ему завтра предстояла не дуэль, а легкая прогулка близ Катакомб. – Вы не сможете уйти завтра от Адовой заставы, клянусь честью!
– Этим вы окажете мне услугу вдвойне, – поклонился ему Андрей, намеренно зля своего противника, забавляясь яростью, которую без труда читал в его глазах. А потом взял под руку белую от тревоги и страха Марию, которая вцепилась в его мундир, словно тонущая, и вышел вон, даже не взглянув напоследок на того, кого был намерен завтра убить. Ибо он тоже разделял полностью мнение Лозинского, что от заставы уйдет только один из них. Только один…
Глава 35
Ночное небо было таким ясным, что было видно каждую тусклую точку на темном фоне, каждую звезду, пусть даже совсем маленькую. Половинка луны, висевшей над спящим городом, дарила достаточно света, чтобы видеть самые дальние от Северного бульвара крыши. Жаль только не ту заставу, к которой вскоре предстояло выезжать…
Тихо похрапывал в соседней комнате Кузаков, заснувший сидя в кресле, неудобно склонив голову к груди. Когда пробудится, будет болеть шея от такого положения, подумал невольно Андрей, поднимаясь со своего места за столом и пускаясь снова в путь до окна, распахнутого в теплую парижскую ночь. Хотелось курить, но будить Прохора не стал. Тот и так только недавно ушел к себе, напоследок так вычистив ордена и медали, что они поблескивали в свете луны из полумрака комнаты. Потому Андрей просто встал у окна, упершись ладонями в оконную раму, подставляя лицо легкому ветерку, ласково пробежавшемуся по его волосам.
Он совсем забыл звезды над Россией, вдруг подумал Андрей, глядя в темноту неба над крышами домов. Были ли они схожи с этими яркими точками или нет? Или все же были другие, чужие…? Как и земля, на которой завтра ему, возможно, предстоит умереть. Но быть погребенным он желал только в родной стороне, это было его твердое пожелание к Кузакову, которому были даны последние наказы.
– Не распорядишься о том, mon ami, буду приходить к тебе ночами, обещаю, – говорил Андрей, когда они, вернувшись из игорного дома, расположились с трубками и бутылкой вина в одной из комнат. – Пусть схоронят в родной земле. Даже у самой границы… но только там!
Александр обещался, как когда-то еще в Саксонии поклялся отдать письмо бывшей невесте Оленина. Оно хранилось среди его бумаг, надежно скрепленное отпечатком кольца Андрея. Написанное на случай смерти автора, оно долго путешествовало в сумах Кузакова, и видит Бог, тот искренне надеялся, что и в этот раз оно не покинет своего укромного места.
Как она будет читать эти строки, подумал Андрей. Мелькнет ли хотя бы капля сожаления, когда услышит о его гибели? Помянет ли? Он вдруг вцепился сильнее пальцами в раму и закрыл глаза, пытаясь прогнать воспоминания, что нахлынули волной при одном только имени, мелькнувшем в голове. Сколько прошло дней и месяцев, а он до сих пор помнил. Движения, жесты, лицо, облик в целом, ее голос. И ее слезы…
Быть может, так и должно быть? Быть может, ему было бы лучше быть убитым на этой земле, чем вернуться в Россию? Андрей еще помнил то время, когда Надин поменяла место в его жизни. Была невестой, а стала женой брата. Помнил, как было тяжело даже в одной с ней комнате находиться, как больно осознавать, что вежливый и короткий поцелуй руки и братский поцелуй в щеку – это все, что ему было позволительно ныне. И знать, что она недоступна для него. И ненавидеть ее за это и за то чувство, что вспыхивало в груди, едва он слышал ее голос и видел ее лицо.
В тишине ночи вдруг раздался цокот копыт по каменной мостовой. Возле двери дома остановился экипаж, из которого спешно выскользнула тень, сунув быстро в руку вознице монеты. А потом тень вдруг взглянула вверх, прямо в окно, в котором стоял Андрей. Он совсем не удивился, узнав Марию. Она уехала еще пару часов назад, полагая, что скроет свой ночной визит от посторонних глаз, но ошиблась.
Интересно, что сказал ей Лозинский, подумал Андрей, когда у порога комнаты раздался тихий шелест платья, когда аккуратно ступая в ночной тишине дома, шагнула к нему Мария. Ведь это именно к поляку ездила она в эту ночь, пытаясь уговорить того отказаться от дуэли, услышав, чем грозит она Оленину.
– Виселица! Ты понимаешь это, mon ami? – горячился по пути к Северному бульвару Кузаков. – Мира еще нет. Мы на военном положении. Ты понимаешь это?
– Полноте, Александр Иванович, вы запугали своими словами Марию Алексеевну, – пытался остановить его возмущение Андрей. – Да и потом – qu'y puis-je [524]524
Что я могу тут поделать? (фр.)
[Закрыть]Поляк оскорбил не только меня лично. Он нанес оскорбление моему полку, всей армии в целом. Тут ничего не поделать.
– Знать бы, как тот в стрельбе, – недовольно проворчал Кузаков, не желая показывать, что он признает правоту Андрея. – Что ждет-то тебя завтрашнего утра?
– Полагаю, что стреляет тот недурственно, иначе не выбрал бы пистолеты. В любом случае, завтра и узнаем ответы на наши вопросы.
– Поражаюсь тебе, mon ami, такое хладнокровие… А ведь и верно тут только одна тебе дорога, как бы ни выстрелил завтрашним утром. Все торопишься на тот свет? Или на талисман свой надежду питаешь, как обычно?
Андрей ничего не ответил на эту реплику, только плечами пожал, покрутив на пальце перстень с аметистами и нефритами. В полку полагали, что это кольцо – некий талисман Оленина, хранящий его от любых напастей. И никто, даже Кузаков, не догадывался, отчего на его пальце этот перстень.
Да и сам бы Андрей, верно, не ответил на этот вопрос. Сначала носил, чтобы помнить, уверяя себя, что предмет памяти не та, чье имя скрыто в золоте, а женское коварство. Хотя всякий раз, когда глаза замечали блеск маленьких камней, он вспоминал не тот проклятый день и ожог между лопатками от брошенного кольца. Вспоминал сарай и тихий шелест дождя по крыше, запах трав и ее смущенную улыбку на счастливом лице.
Он пытался снять с руки этот перстень, твердо решив забыть. Несколько раз прятал в суму, а потом спустя время доставал и одевал на палец. Потому что было пусто без этого перстня, без этого блеска камней. Потому что становилось тут же не по себе, словно какой-то частички его не хватало.
Анна… Где же была та поворотная точка, после которой все пошло совсем не так? Где судьба переплела нить судьбы твоей с той, другой, отрезав безжалостно нить Андрея? Разве мог он подумать, уезжая тогда из Милорадово или ожидая заветного письма, написанного до боли знакомым почти детским почерком, что все так повернется?
Тонкие пальчики легли на его плечо, и Андрей повернулся от окна к Марии, вглядывающейся в его лицо со странным напряжением в глазах. Некоторое время они молчали, только смотрели друг другу в глаза, а потом она произнесла тихо:
– Я прошу вас…
– Это невозможно, – прервал он ее, понимая, о чем именно та просит. Примириться с Лозинским. Не стреляться завтрашним утром. – Это невозможно. Вы же слышали мои слова, поляк оскорбил не только меня, но и весь полк. Такого не снести! Только кровь…
– Кровь! – истерично воскликнула Мария. В соседней комнате от ее громкого возгласа, видимо, пробудился Кузаков, тихонько скрипнуло кресло. – Кровь! Какие вы, право! Разве ж должно так рисковать своей жизнью? Разве ж должно пытать судьбу всякий раз? От смерти нет возврата… это конец… а потом…
Она смолкла, зажала рот ладонью, боясь разрыдаться в голос прямо перед ним. К чему лить слезы? Они никогда не трогали Андрея, она знала это отменно. Он бы только стал раздраженным, ушел бы прочь от нее, и она не сказала бы то, что намеревалась.
Какие глупцы эти мужчины! Как это дурно рисковать собственной шеей! Неужто не понимают, какую боль они приносят своими глупыми играми со смертью им, женщинам? Матерям и любимым. Неужто не понимают, что рвут им сердце всякий раз, когда ангел смерти становится им за плечо, неважно в поле ли сражения или в месте дуэли? Мария пыталась умилостивить Лозинского, напоминая тому о матери, что осталась где-то в польских землях у того. Влодзимир был единственным сыном, неужто не понимает, какие последствия будет иметь эта дуэль, если его убьют?
– Мадам Арндт забывает, что я стреляю первым, – насмешливо отвечал тогда поляк, и Мария на миг поняла, какая жажда крови пылала огнем в жилах мужчин сейчас. Потому что будь у нее в руках тот нож, которым Лозинский срезал с яблока кожуру, она бы тотчас вонзила тот прямо в сердце поляка, не задумавшись ни на секунду. – Я должен поблагодарить мадам. Без ее помощи мне бы ни в жизнь не отыскать в Париже господина полковника. Мадам всегда играла за моей половиной стола, n’est ce pas?
Это было истинной правдой, и от этого Марии становилось так больно и горько, что перехватывало дыхание. А ненависть к той, из-за которой и случилась эта ссора в игорном доме, только множилась. Все из-за нее, из-за Шепелевой!
– Ах, Бог мой, как же вы глупы, Лозинский! – пустила в ход Мария последнюю карту, что могла разыграть в этой полутемной комнате одного из постоялых дворов предместья Сен-Мартен. Смягчился голос, засверкали насмешливо глаза, из которых вмиг исчезли злость и страх.
– Осторожнее со словами, ma chere amie, – криво улыбнулся Лозинский, отправляя в рот очередной кусочек яблока. – Этакое вам дружеское предупреждение…
– Вы глупы, – снова подчеркнула Мария тогда, поднимаясь с места, с этого грубо сколоченного кресла, так грациозно, что Лозинский не мог не отвлечься от своего яблока, замер на миг. Тем более, она прошлась к нему, склонилась к уху, положив пальчики на его плечи. Зашептала тихо, хитрая бестия, прямо в ухо вкрадчиво. – Неужто вы не думали, отчего Оленин со мной? Отчего так волен в своем обращении с дамами? Оленин из той породы, что слово данное держит даже перед самим собой, mon cher ami. Он свободен от всяких обязательств. Она сама отказала ему в них, едва он прибыл в Милорадово по осени того года.
Лозинский одним мимолетным движением вдруг поднял руку и сжал больно одно из ее запястий, заставив ее поморщиться.
– Это правда? – глухо спросил он, ощущая, как глухо забилось сердце в груди, про которое он совсем забыл за последние месяцы, полагая, что оно мертво.
– Истинная, – даже голосом не подала вида, как болит запястье. – Анна Михайловна расторгла помолвку. Я не была при том, но шептались, что она поступила так, потому что не могла быть более связанной узами с ним. Вы понимаете, что это означает? Едва взглянув на него, она поняла, что не может с ним провести жизнь, что не он может составить ее счастье. Я готова поклясться в том, коли вы мне не верите, что все так и было. С осени 1812–го года расторгнута помолвка. Теперь вы понимаете, насколько бессмысленно то, что случится завтрашнего утра? Анна по-прежнему в Милорадово. Чего она так ждет, не покидая тех мест, когда должна бы уехать к своей тетке в Москву по смерти отца? Или кого она так ждет, боясь, что тетка выдаст ее спешно замуж?
Мария увидела на лице Лозинского сомнение и поспешила договорить то, что намеревалась сказать, идя сюда, в этот жалкий трактир, рискуя быть ограбленной на этих глухих и грязных улочках.
– Она так и не связала себя ни с кем обязательствами за это время, а Оленину возвратила слово и его письма к ней. Хотя благоразумнее было бы стать его женой при ее нынешнем бедственном положении и его богатстве, доставшемся от тетки. Вы должны ехать в Россию, в Смоленщину, Лозинский, иначе снова упустите то, что должно быть у вас в руках. Тотчас же! Прежде чем вернется в Россию Оленин. Он так и не смирился, он непременно навестит ее по возвращении. И кто знает, как все обернется ныне, когда он будет не связан обязательствами полковника одной из сторон, что покамест не в мире?
– Она от меня убежала в тот день! – как ни пытался скрыть свою боль Влодзимир, она все же вырвалась на волю откуда-то из глубины души, куда он надежно спрятал ту, ясно прозвучала в голосе при этих словах.
– Таковы мы, женщины, – улыбнулась лукаво Мария. – Отчего-то всегда говорим вам, мужчинам, «Нет», когда сердце готово сказать «Да». И только потом сожалеем о сказанном…
– Я не могу отозвать свой вызов, – упрямо повторил Лозинский, и она кивнула, соглашаясь.
– Я понимаю. Потому и не прошу о том. Не убивайте его, – она изо всех сил постаралась, чтобы голос не дрогнул при этих словах, а лицо не выдало, как ей страшно сейчас. – Стреляйте, коли потребуется. Если желаете крови, то нанесите легкую рану…Будьте милостивы к тому, у кого отняли желанное, кто потерял все…
– У меня нет выбора. Он убьет меня, коли я оставлю его в живых.
– Нет, не убьет. Я позабочусь о том, – они взглянули друг другу в глаза и долго не отводили взглядов. – Я обещаю… Верьте мне. Разве я когда-либо предавала вас?
– Упаси Христос иметь вас в своих врагах, мадам, – поцеловал ей руку тогда Лозинский, улыбаясь. – И избави от вашей ненависти…
И вот ныне Мария продолжала вести свою игру. Партия с поляком была разыграна так, как она полагала, но вот Андрей… Она смотрела в его глаза и в который раз поражалась пустоте тех. Или это просто ей была неподвластна его душа, не видна совсем?
– Вы не можете убить Лозинского, – твердо сказала она, сумев наконец-таки взять себя в руки. Провела пальцами по его руке, скрытой тонком полотном рубахи, наслаждаясь этим запретным с прошлого года прикосновением, теплом его кожи и твердостью мускулов под кончиками пальцев.
– Отчего же? – осведомился Андрей холодно. – Неужто он намерен принести извинения? Тогда вам удалось невозможное, мадам.
– Он будет стреляться. Но вы не убьете его, – и, заметив, как он вопросительно поднял брови, продолжила, скрестив пальцы второй руки на удачу в складках платья. – Вы забыли обо одном, Андрей Павлович. Не грешно убивать во время войны, но грешно отнимать жизнь по прихоти. Тем паче, в Великий Пост. Ни один духовник не отпустит такого греха, – а потом, сделав паузу, ударила. – И она не простит его. Никогда…
Он научился скрывать от нее свои эмоции, загораживался от нее стеной хладнокровия, но в этот раз не получилось. Чуть дернулся уголок рта, опустились на миг веки. Мимолетно, но она успела заметить, ощущая одновременно при этом и боль при виде его страдания, и удовлетворение, что попала в цель своими словами.
Прости меня, Господи, произнесла про себя, удерживая Андрея за рукав, когда он хотел отойти от нее, не слушать ее более, опасаясь узнать то, что она могла проведать у Лозинского. Прости меня, Господи, ибо я слаба рядом с ним. Он моя слабость и боль… только он.
– Ему не по своей воле пришлось уехать из России. Как и вас, его гнал из империи долг. Ныне, когда Наполеон потерпел крах, он наконец-то свободен вернуться туда, где его ждут. Не задумывались ли вы, Андрей Павлович, отчего она не едет прочь из Милорадово ныне? Она не может уехать, потому что…
– Довольно! – Андрей вырвал руку из хватки ее пальцев, отошел к столу, на котором лежал футляр с новыми пистолетами, которые по требованию Лозинского были куплены у одного из местных оружейников. Провел пальцами по полированному дереву рукоятки, а потом достал один из пистолетов, примерился, как тот лежит на ладони, старательно гоня от себя все мысли, что ныне разрывали голову на части. Он не хотел думать ни о чем, кроме того, что ушло. И понимать, что оно ушло, тоже не хотел ныне.
– Вы не убьете его, потому что она проклянет вас в том случае за его кровь, как я бы прокляла поляка, – проговорила Мария, глядя на блеск металла в его руке. Она ничуть не лгала при том. Она бы прокляла Лозинского, призывая все кары небесные на его голову. И на свою. На свою голову она тоже призывала кары, потому что и она виновна в том, что случится в большей степени, чем другие. Ах, разве ж отыскал бы так скоро Оленина поляк?!
– Отчего тогда такая ненависть ко мне? Так не ненавидят, коли счастливы, обладая, – спросил Андрей, по-прежнему глядя в картину, в которую целился сейчас из пистолета, и только потому не заметил, как она растерялась на миг, не зная, что ответить.
– А вы не ненавидели его, если бы были на его месте? – отчего-то ответила именно этим вопросом Мария, и Андрей сжал зубы, вспоминая тот летний вечер, когда украл то, что должно принадлежать лишь мужу. Да, он бы так же, верно, ненавидел, поменяйся они местами с поляком! Разве ж было иначе?
Оставшийся до выезда час промелькнул для Марии словно минута. Вот Андрей складывает аккуратно пистолет в бархат, закрывает крышку коробки. Теперь та будет открыта только у Адовой заставы одним из секундантов, что будет заряжать пистолеты. Не глядя на нее, выходит вон из комнаты, отсекая ей возможность идти за ним по пятам с уговорами и увещеваниями, закрывая на ключ двери комнаты. Она тогда билась в эти створки, как зверь, разбивая кулаки до ссадин, крича криком и рыдая. О, она бы непременно бросилась ему в ноги, но не пустила бы к той заставе! Она же знала, чувствовала, что Лозинский ее обманет! Она бы сама закрыла Оленина от той пули, будь у нее такая возможность.
Но ее заперли, и Андрей настрого запретил слугам, остававшимся в доме, открывать двери до того, как пробьет семь раз на часах в гостиной. Кузаков то и дело косился в сторону квартиры, откуда шел женский плач, перебирая перчатки в руках. Вот ведь какая! Этакая не преминула бы и к Катакомбам приехать, коли б возможность имела. Разве ж должно то?
– Сколько страсти, mon ami! – не мог не заметить он, когда со стороны запертой комнаты донеся глухой удар, а после с тихим звуком упали на пол осколки фарфора. – Она тебя любит… madam votre cousine. Любит тебя так, как любой бы желал.
– Ты ошибаешься, mon cher ami, – покачал головой в ответ Андрей. Прохор уже надел на него мундир, расправлял тот на свежей накрахмаленной рубахе, стараясь, чтобы тот сел идеально. – Такая любовь не приносит счастья, коли одно сердце задето Амуром. И ей мучение, и мне… Моя вина, мой грех в том. Что ж, кто ведает, быть может, вскорости ее ждет избавление от того мучения. И я от мук своих всех одним махом…
– Типун тебе, mon ami, – нахмурился Кузаков. Правда, он понимал, что при любом раскладе, что случится ныне, хорошего ждать не приходилось.
Когда уезжали, Андрей вдруг оглянулся, выходя из дома на окна комнаты, где запер Марию, расслышав странную тишину, установившуюся в доме. Она смотрела на него сверху вниз, заплаканная, растрепанная, совсем не похожая на ту женщину, что была все эти годы возле него. Та Машенька, которой он когда-то снял с дерева котенка, к которой был так внимателен в свои редкие визиты, ощущая ее одиночество в доме тетушки, смотрела на него из окна. И он улыбнулся этой Машеньке, пытаясь хоть как-то подбодрить ее ныне, смягчить ее боль, поклонился ей. И она склонила голову в ответ, а потом подняла руку и благословила его на прощание, пытаясь подавить тот ужас, что разрастался в ее душе.








