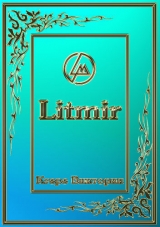
Текст книги "Мой ангел злой, моя любовь…(СИ)"
Автор книги: Марина Струк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 68 страниц)
Я гадкая, я злая, я жестокая! Я знаю, я недостойна прощения, и я вовсе не та, что могла бы составить ваше полное счастие. Но видит Бог, я бы желала стать совершеннейшей для вас, сущим ангелом, как звали вы меня прежде в том шепоте, что мнится мне ночами без сна. Я бы желала стать той самой женой, что вы желали бы видеть подле себя, вашей подругой, хранительницей ваших дум, помощницей в ваших тревогах. Позвольте мне это, Андрей Павлович, проявите снисхождение к моей горячности, к моему норову, ибо в тот день не моя любовь к вам говорила моими устами, а исключительно мой несносный характер, что вы так ругали тогда…
Мне страшно подумать о том, но ежели вы не простите меня, ежели не сумеете позабыть ту обиду, что я нанесла вам и за которую смиренно каюсь… что будет тогда? Мое сердце будет биться так же, как бьется сейчас, а грудь ровно вздыматься с каждым вздохом. Но мир уже не будет так ярок и полон красками и запахами, ибо когда вы не подле, нет целостности мира для меня отныне и не будет никогда. Но все же я буду до конца своих дней просить Господа даровать вам счастье. Потому как ваше счастие сделает и меня наисчастливейшей на этой земле, пусть при тусклом небе над головой. Молиться о вас, любить вас, знать, что вы здравы и довольны – это ли не счастие…? Я вас люблю. Люблю сильно. Люблю, как только душа может любить. В вашей власти вершить мою судьбу. Она только в ваших руках. И не потому, что так решил Господь, или нас свела воедино та ночь, связав крепче узами. А потому что я люблю вас…»
Анна не стала перечитывать письмо, опасаясь, что снова отбросить его в сторону, как неподходящее. А еще ей было страшно прочитать на бумаге то, что, казалось, горело огнем в голове, стучало в висках в том ритме, в котором билось сердце в груди. Она нащупала пальцами кольцо с гранатами, которое не смела отныне носить на пальце после того, что сделала, и шероховатости камней, что ощущала ныне, вселили в нее вдруг какую-то странную уверенность. Вспомнила, как скользнуло серебро по ее пальцу, когда Андрей одевал перстень. А потом сложила резкими движениями бумагу, склонила одну из свечей над ней, капая воск, запечатывая письмо, положила послание после в одну из книг на ночном столике возле кровати, намереваясь передать до адресата при первой же возможности.
Этот случай представился Анне на следующее утро, когда распахнули двери передней, пропуская в вестибюль высокого и нескладного Павла Родионовича в мундире и в кивере с крестом ополчения и вензелем императора. Он прибыл с квитанциями в город на предоставление провианта, который предстояло получить для арьергардных войск, уже продвинувшихся к Дорогобужу, а заодно решил навестить родное имение. В усадьбе, в которой силами дворовых и крестьян, отрабатывающих барщину, производился ремонт дома, ему сообщили, что мать временно разместилась у соседей, пока дом не будет готов для проживания. И вот он поспешил в Милорадово, «предстать перед глазами любезной матушки моей и соседей наших, благородно не оставивших ее своей милостью».
Он был также нескладен, как и ранее, также неуклюж. Казалось, даже мундир был ему не по плечу – чуть коротковаты рукава для его длинных рук. Те же стекла очков на его лице. Но Анна ясно видела, что он переменился за те месяцы, что они не виделись. Изменилось выражение глаз, залегли складки у рта.
– Вам к лицу мундир, я была не права в те дни, – проговорила Анна, когда они позднее вышли из дома на короткую прогулку по заснеженному парку. Шли неспешно впереди мадам Павлишиной, степенно шагающей в сопровождении своей горничной. – Простите меня за те злые слова, Павел Родионович…
– Я позабыл их в тот же вечер, – улыбнулся Павлишин. – Так что вам нет нужды просить.
Они некоторое время шли молча. Каждый думал о своем, каждый смотрел в сторону, будто опасаясь взглянуть на своего компаньона по прогулке. Когда у мадам Павлишиной замерзли ноги, и она крикнула им, что нужно возвращаться в дом, только тогда Анна вдруг решилась, сжимая в глубине муфты бумагу.
– Вы ведь после в Дорогобуж едете, верно? – тихо спросила она. – В арьергардных войсках будете?
– Буду, – подтвердил Павлишин и взглянул на нее через стекла очков внимательно, а потом сказал так же тихо, как она до того. – Располагайте мною смело, Анна Михайловна. Вы ведь ведаете – я целиком и полностью в вашей власти. Все сделаю, коли попросите.
Она вдруг поняла, что он знает о той размолвке, которая случилась между ней и ее женихом. Да и как не знать – Анна была уверена, что мадам Павлишиной непременно захочется с кем-нибудь рано или поздно поделиться историей, свидетелем которой невольно стала. Трудно удержать язык за зубами, когда знаешь такое.
Оттого и смутилась, опустила Анна взгляд от прямого взора Павла Родионовича, сжала снова письмо, спрятанное в муфте.
– У меня есть письмо для Андрея Павловича, – быстро сказала она, словно боясь передумать. – Его полк ныне в арьергарде сызнова, как я наслышана. Прошу вас, найдите его и передайте мое послание. От того… от того зависит вся моя судьба, ныне она в ваших руках, милый Павел Родионович.
Из муфты тонкие пальчики извлекли письмо и одним быстрым движением протянули Павлишину. Тот также быстро взял его и спрятал за полу шинели. Анна прикусила губу, пытаясь совладать с волнением, что вспыхнуло в душе тут же, спрятала дрожащие пальцы в глубине муфты. А потом вдруг коснулась кончиками пальцев шинели Павлишина, заставляя тем самым взглянуть на себя.
– Павел Родионович… mon ami… прошу вас. Прежде… прежде бы… нужно ли оно ему, – она вдруг запнулась, но все же проговорила. – В этом письме – вся моя судьба. Оно может и погубить меня, и вознести к небесам, как наисчастливейшую особу. Прошу вас… если он будет настроен против меня после той истории… если категорически против… вы вернете?
– Я верну письмо вам, – ответил Павлишин, зная, как ныне ей тяжело вынести борьбу сердечных чувств с гордостью, переступить через себя. Через ту, которую он так хорошо знал.
– Je vous remercie, mon cher ami [447]447
Благодарю вас, мой дорогой друг (фр.)
[Закрыть], – улыбнулась уже более смело Анна. Той улыбкой, которую он так отменно помнил, которую так любил. Открыто, довольно, без той грусти, что он видел в ее глазах с момента приезда. Павлишин принял в свою руку ее пальчики, чуть тронутые холодом, коснулся их губами, а после проводил ее взглядом, когда она вдруг легкими шажками побежала к дому, подобрав юбки. Убегала, боясь потребовать себе послание обратно.
Он шел в бой при Бородино с ее именем на губах и образом в сердце. Отбивал атаки французов на обоз, при котором состоял, видя ее улыбку перед глазами. Анна была для него прекрасной недосягаемой звездой, он знал это. И он сделает для нее все, что она пожелает. Он сделает все для ее счастья!
Глава 28
В морозном воздухе явственно ощущался запах дыма, такой непривычный в эту пору, после того, как завершили с уборкой листвы с дорожек и аллей. Шел он к парку и усадебному дому со стороны овинов, где просушивали немолотые снопы зерновых, что извлекли из потайных ям, в которые те надежно были укрыты от фуражиров. Очень многое не успели сделать из-за стремительного наступления неприятеля на эти земли, оттого и овес, и пшеницу, и рожь прятали сразу снопами, надеясь после извлечь и вымолоть, предварительно просушив. А еще была надежда, что фуражиры не тронут необработанные зерновые, к чему им оно в таком виде, если только не для лошадей?
Вот и сушили ныне в овинах, аккуратно расправляя снопы, чтобы оставить и солому на корм скотине, и не потерять такие драгоценные теперь зерна, не подкоптить зерновых. А потом спускали в сараи после просушки, где цепами молотили зерно, ссыпали в мешки, стараясь не потерять даже пригоршни, и относили к столу старосты, пристально наблюдающего за всем процессом и ставящего очередную галочку на бумаге за каждый мешок.
Иногда подле стола старосты становился стул с высокой спинкой, принесенный одним из лакеев из усадебного дома. На этот стул усаживался молодой барин и внимательно следил за работой крестьян. И если от взгляда старосты еще могло ускользнуть, что кто-то накроет немножко зерна соломой, чтобы после унести к себе в закрома, то от цепкого глаза барина это было не скрыть. Да и трудиться приходилось в полную силу, иначе тот тут же показывал знаком старосте, кто получит дополнительные часы работ. От молодого ничего нельзя было скрыть! Да на расправу уж больно крут тот был – бывало, сам мог приложить костылем, если что было не по нему, не по его воле.
Даже солому аккуратно складывали в мешки, пытаясь сохранить все, что осталось после молотьбы. Позднее она пойдет на подстилки тем животным, что вернули в усадьбу из лесов с Божьей помощью. Поляки увели с собой много скотины, а что не увели – то порезали, забирая с собой целые туши, не желая оставлять ничего тем, кого оставляли в Милорадово. Да только толи не справились с таким количеством скота, толи еще что, но пришел спустя время в усадьбу Титович и сообщил, что в лесах окружных много бесхозяйственных голов. По распоряжению Петра крестьяне отыскали и пригнали на двор найденных коров, овец, свиней, даже тех, на ком не было клейма скотного двора Шепелевых, привели несколько лошадей. Тут же поверх старых чужих отметин поставили новые, со знаком усадьбы. Время такое, разве ж можно иначе?
А потом, на удивление обитателям усадьбы, в парке поймали пару лошадей с местной конюшни, вернулись разогнанные по округе собаки псарни. Анне тогда казалось, что Петр рад был больше видеть именно гончих и борзых, сумевших прожить в лесу около седмицы, чем скот, суливший неголодную зиму, которая могла грозить им.
С тех пор Петр и пропадал из дома с раннего утра до самых сумерек. То в овинах да в амбарах работы наблюдает, то пойдет в конюшни проверять, как за лошадьми ходят, то на псарне задержится, наблюдая за собаками.
Анна же, по обыкновению, держалась подальше от заднего двора и хозяйственных построек, где шли работы. Ее любимая Фудра пропала, не вернулась среди прочих, и даже заходить на конюшенный двор для нее было мучительно. Ее маленькая белая лошадка, которую несколько лет назад преподнес в дар к дню рождения отец… Где она ныне? Под чьим седлом ходит? Да и ходит ли – Фудра была не крепким конем, предназначенным для долгих переходов и тяжелых седоков. Думать о той потере было больно.
Потому отказалась Анна от выездов, что предложил ей Петр, только по парку прогуливалась, сбивая с тонких веточек кустарников снежинки или наблюдая, как девушки собирают рябину, уже тронутую морозом, сладкую. Крупные ягоды, которые те срывали с ветвей и клали в туеса на ремнях через шею, заставляли иногда вспоминать о темноволосом поляке, что когда-то принес в дар букет из ветвей с осенними желтыми листьями и яркими гроздями. А вслед за этим воспоминанием шло иное – о той ошибке, что совершила, о своем проступке. И о том, что от Оленина не было писем…
Уже миновало около двух седмиц, как уехал к Дорогобужу и далее по следу армии к Красному, у которого в те дни шли сражения, Павлишин, увозя с собой письмо Анны. Тринадцать дней миновало. Тринадцать долгих ночей беспокойного сна. Уже обеспокоенная мадам Элиза нынче утром спросила тихонько, не стоит ли доктору Мантелю рассказать о том, не начать ли принимать капель для сна перед ночным покоем.
Тринадцать дней, вздохнула Анна и развернулась к дому, аккуратно ступая по тонкой тропке, что проложил дворник, расчищая дорожки для гуляния барышне. За этот срок в Милорадово трижды привозили почту, и она даже получила пару писем. Но они были от графини. Не от Андрея. Со стороны западных земель только единожды пришло письмо, и то оно было для Петра – от сослуживца по полку, пишущего последние вести. Уже был взят Красный, отбит от неприятеля Минск, затем снова возвращена Орша. Продвигались русские войска к границе империи, оттесняя французов, гоня их вон из родных земель. Уже всем было ясно, что Наполеон потерпел поражение в этой войне, что именно русскому императору и его армии предстоит ныне стать освободителями Европы от власти самодовольного parvenu [448]448
Выскочка (фр.)
[Закрыть], как заметил, получив эти известия, Петр за одним из обедов.
– Вот увидишь, ma chere, – говорил он Анне, сжимая ее руку в волнении. – Увидишь, имя нашего императора войдет в историю как избавителя от этой чумы, что разнес за пределы Франции Наполеон. О, верится с трудом, что он разбит! Что не знавший поражения полководец бежит, как заяц, из так и непокоренной страны! О мой Бог! Подумать только о том было невозможно еще этой весной!
Он выглядел радостным, улыбался, заставляя Полин не скрывать своих счастливых глаз от домашних, впервые за долгие недели видя его в таком приподнятом настроении. Только после стало понятно и Анне, и ей, что эта радость была короткой – уже удалившись в кабинет после обеда, Петр помрачнел и долго сидел у окна с бокалом в руке, из которого так и не отпил ни глотка.
Mon pauvre frère [449]449
Мой бедный брат (фр.)
[Закрыть], думала Анна, идя по расчищенной от снега дорожке к дому. Как перевернула их жизни война с французом! Петр был рожден носить мундир и гарцевать на коне на парадах и смотрах подле своего генерала, ловить восхищенные и влюбленные взгляды барышень, открыто флиртовать, пить цымлянское или более дорогое французское, кружить своих партнерш в вальсе или мазурке. И ныне он бы гнал француза прочь из родной земли, был бы смел и удал на поле сражения, как не страшился ничего при Бородино – ни разрывов, ни свиста пуль и гранат. И он вошел бы в Париж (а Париж будет непременно взят, ныне не было даже тени сомнений в том!), вернулся бы в родной имение не калекой, а героем… А ныне ж!
– Анна Михайловна! Анна Михайловна! – позвали ее от дома, и она поспешила на этот зов, подобрав подол пальто, придерживая рукой капор, ленты которого развязала во время прогулки. Ей отчего-то подумалось, что наконец пришло то самое письмо, которое она ждала вот уже две седмицы. Потому и едва ли не бежала, с трудом удерживая равновесие на скользкой дорожке.
– Письмо, vrai? Почта мне? – спросила у Ивана Фомича, ожидающего ее на заднем крыльце, за несколько шагов, с трудом выкрикивая фразу из-за сбившегося дыхания. Но тут же помрачнела, когда тот покачал головой, протянул руку, чтобы помочь ей подняться по ступеням.
– Господин управитель вас просили-с разыскать, барышня, – проговорил дворецкий, распахивая перед ней двери, пропуская ее в дом, а потом ступая следом за ней и принимая капор и пальто из ее рук. – Модест Иванович к вам просьбу имеет, по словам его.
Заинтригованная Анна прошла быстрым шагом в салон, где тут же при ее появлении на пороге на ноги вскочил с кресла управитель Шепелевых, худощавый немец, некогда приехавший в Россию из одного из многочисленных герцогств Германии дабы попытать счастья и вот уже более десяти лет служивший у Шепелевых – сперва управляющим в Милорадово, а последние семь лет главным управителем.
– Модест Иванович, – Анна вежливо кивнула управителю. Тот ответил поклоном. – Рада видеть вас в здравии. Как поживает ваша супруга? И Аделина Модестовна? Как вы пережили последние месяцы и тот пожар, о котором ныне говорит, вестимо, вся империя?
Управитель проживал с некоторых пор в Москве, в отдельном доме, который сумел приобрести позапрошлой зимой не без помощи Михаила Львовича. Анна только обрывки разговоров среди прислуги слышала на этот счет. Говорили, что дом был куплен не просто так, не за службу долговременную, а потому, что молодой барин был замечен за волокитством за дочерью управителя.
– Благодаря Спасителю нашему, все благополучно, – кивнул Модест Иванович. – До нашей стороны огонь так и не дошел, так что по возвращении из Калуги, куда отъезжали всем семейством, спасаясь от француза, мы нашли его в целости и на удивление в некоторой сохранности. Жаль, что не могу сказать того же самого о многих других владениях города.
– Наш дом на Тверской…? – Анна не могла не вздохнуть горько после того, как получила ответ, что московский особняк был почти полностью уничтожен огнем. Она недолго жила в том доме, но успела запомнить высокие потолки с лепниной, удивительную роспись стен, широкие подоконники в библиотеке, обитые бархатом для мягкости.
– Я была удивлена услышать, что вы желаете видеть меня, а Петра Михайловича, – переменила она тему, не желая думать о потерях, которые понесла ее семья из-за этой войны.
– Именно вас, Анна Михайловна, – управитель потер ладони, явно волнуясь. – Я бы желал испросить позволения увидеть господина Шепелева, Михаила Львовича.
– Михаил Львович не принимает визитеров по состоянию здоровья, – покачала головой Анна. – И я бы первая отказала вам – отец не может обсуждать текущее положение и дела хозяйственные. Петр Михайлович, как вам сообщали, временно принял сии обязательства на себя.
– Простите, Анна Михайловна, великодушно меня, но я вынужден настоять на своем. Видите ли, я бы считал себя неблагодарнейшим существом, коли б не повидался с господином Шепелевым ныне. Дело в том, что это мой последний визит в Милорадово…
– Как? – Анна не смогла скрыть своего удивления этим словам, а после не сдержала легкий упрек, который так сорвался с губ. – Неужто вы оставляете нас? И это ныне… ныне, когда…?
– Помилуйте, Анна Михайловна, – Модест Иванович чуть скривился, когда услышал, как дрогнул ее голос в конце реплики. – Исключительно по принуждению, не по воле своей! Даже после… после того, что случилось, я был всем сердцем и душой предан вашему батюшке и вашей фамилии, но… Так уж сложилось. Молодой господин вправе ныне решать сам, от кого ему принимать помощь и советы. Мои же ему не в надобности с сих пор, я этим утром получил полный расчет и передал книги [450]450
Имеются в виду так называемые конторские книги
[Закрыть]. Я не ропщу и не жалуюсь, упаси Господь! Но и уехать, не повидав Михаила Львовича, не могу. Столько лет! Не волнуйтесь, я не скажу ему ни слова ни о делах, ни о моем уходе. Буду нем на сей счет. Вы сами понимаете, верно, отчего я прошу вас позволить мне сию встречу. Не буду таить – Петр Михайлович был бы недоволен этим свиданием. Так что я смиренно приму ваш отказ, коли вы так решите. Но столько лет был подле…! И уехать без слова! Прошу вас!
Анна молча прошла до дверей и, распахнув их, крикнула в анфиладу Ивана Фомича или лакея, что мог быть рядом в тот миг.
– Проводите господина управителя, – коротко сказала поспешившему на ее зов одному из лакеев. – Проводите в покои Михаила Львовича. Но только прежде поглядите, не почивает ли тот, – а потом повернулась к взволнованному управителю, который шагнул к ней и схватил ее за руку в порыве благодарности. – Только ни слова ни о делах, ни о вашем деле. Его нельзя волновать. О вас же я похлопочу перед братом нынче же.
– Не стоит сие ваших хлопот, Анна Михайловна, – ответил управитель. – Я несомненно буду рад служить вашей семье, но мой разум ныне говорит мне, что сии хлопоты не увенчаются успехом, как бы ни желал я иного… тем паче, ныне, когда состояние дел вашей семьи…
Но договаривать не стал, только испросил позволения поцеловать ее руку в благодарность, а после удалился, извинившись, пожелав ей на прощание всех благ, явно от души говоря слова, от самого сердца. Модест Иванович ушел, а Анна долго стояла в салоне, задумавшись, вспоминая недавний разговор и обрывки бесед дворовых, что слышала ныне. «Новая метла по-новому метет», сказала кухарка Татьяна двум девушкам из прислуги, перебирая гречиху, чтобы подать к обеду одной из перемен крупеник, не видя, что в ее обитель уже ступила Анна, неслышно перейдя порог. Несомненно, речь шла о брате, молодом барине, что с недавних пор стал за хозяина, взяв в свои руки бразды правления. Анна тогда резко оборвала дворовых за сплетни о хозяевах, сделала выговор Ивану Фомичу. А сейчас вот насторожилась, узнав об увольнении управителя за спиной Михаила Львовича. Это не дворовыми делами заниматься да по хозяйству решать. Это совсем иное…
Петр приехал только, когда солнце опустилось за верхушки парковых деревьев, вернулся от овинов и амбаров, где завершали работы с зерном, подсчитывали общее количество мешков, что в запас легли под замок. Анна наблюдала за ним из окна салона, едва дыша – у нее всегда перехватывало дыхание, когда она видела Петра верхом. Ей казалась в его положении езда в седле такой опасной для него. Но разумеется, она никогда и ничего не скажет брату на этот счет, понимая, насколько важно для него эта маленькая победа – начать выезжать верхом, как и прежде. Он несколько дней ездил по двору возле конюшен, привыкая управлять и держаться в седле по-новому. Потом ездил до села, и только недавно стал выезжать на прогулки в поля и ближайший лес.
Анна закусила губу, когда Петр пошатнулся, спешившись с помощью широкоплечего лакея, едва не стукнулась лбом о стекло, когда машинально дернулась вперед, желая убедиться, что брат все же устоял, не упал на снег, а двинулся к крыльцу, аккуратно ступая по утоптанному снегу. Улыбнулась с гордостью, радуясь успеху Петра. Жизнь налаживалась. Разве этому нельзя было не радоваться?
Оттого буквально вбежала в малую столовую, где накрыли к чаю, подбежала к брату и ласково поцеловала его в макушку. Кивнула с улыбкой мадам и Полин, сидящим за столом.
– М-м-м, к чему такие мне почести? – улыбнулся Петр, намазывая на булку яблочное повидло. Анна только подмигнула ему в ответ, занимая свое место возле самовара, чтобы выполнить привычные ей обязанности. Неспешно подносил к ней фарфоровые пары лакей, с тихим плеском лился в чашки горячий чай. После в него добавят по вкусу каждый свое: Полин – пару ложек вишневого варенья на меду, Петр – молока, мадам Элиза бросит в чашку ароматную специю гвоздику. Михаилу Львовичу унесут отдельный чайничек – он любит пить чай с мятой. Как и Марья Афанасьевна, вспомнила Анна.
Словно прочитав ее мысли, к ней обратился Петр вдруг:
– Анна у меня для тебя есть письмо. Из Москвы. Вестимо, от графини. Хофманн привез из первопрестольной, просил передать при оказии. Я письмо это наверх передал, к тебе в покои.
Видит Бог, она хотела сдержаться, хотела промолчать о том, что узнала нынче днем. Но воспоминание о словах управителя несколько затмили радость от получения письма от Марьи Афанасьевны.
– Жаль, что не могу передать с Модестом Ивановичем ответное письмо. Не представляю даже, что ты сказал тому, раз он даже не решился остаться к чаю. Уехал тотчас, как навестил отца.
– Он виделся с отцом? Кто позволил ему? Ты ведь знаешь, что отцу нельзя!
– Я позволила, – коротко ответила Анна, глядя в побледневшее лицо брата смело. – Или ты опасался, что господин Хофманн может что-то занятное поведать отцу?
– В кабинет, – резко бросил Петр, отодвигаясь от стола, отдавая знак прислуживающему за столом лакею принести его костыли. – Тотчас же! Слышишь меня?! В кабинет!
– Mais…, – начала было мадам Элиза, желая напомнить ему, что трапеза только начата, желая погасить ссору между братом и сестрой еще до ее начала. Но Петр бросил на нее такой злой взгляд, что она даже растерялась на миг. За эту минуту и молодой Шепелев, и Анна, обменявшись сердитыми взглядами, скрылись из столовой.
– Quelle exécrable caractère! [451]451
Какой отвратительный характер! (фр.)
[Закрыть]– сверкнула глазами мадам Элиза, аккуратно, стараясь не задеть фарфор, кладя ложечку, которой мешала чай, на блюдце.
– Peter? Pas du tout! – возразила ей тут же Полин запальчиво, как обычно, когда при ней мать начинала ругать молодого Шепелева. – Vous detestez lui, c’est tout dire. Il est injuste, maman! [452]452
Господина Петра? Вовсе нет! Вы просто не любите его, вот и все. Вы несправедливы, мама! (фр.)
[Закрыть]
– Injuste?! O, Pauline, tu fais des fautes! Je vous prie… [453]453
Несправедлива?! О, Полин, ты ошибаешься! Умоляю…(фр.)
[Закрыть]
– Non! Non et non! – Полин резко отодвинула стул прежде, чем ей помог лакей, поднялась на ноги. – De rien! C’est ma vie. Ma vie, maman! Et il avait besoin de moi aujourd'hui tant…No priez, no priez, s'il vous plait! [454]454
Нет! Нет и нет! Ни за что! Это моя жизнь. Моя жизнь, мама. И я ему так нужна ныне… Не просите, не умоляйте, прошу вас! (фр.)
[Закрыть]
Салфетка брошена на стол. Уже вовсе не до чайной трапезы и не до тихих бесед за чаем. Мадам Элиза только горько вздохнула, когда Полин вышла из столовой, предварительно извинившись, согласно правилам этикета. Лакей вторил ей тихим вздохом от своего места у столика у двери, с сожалением глядя на опустевшие стулья, опустил глаза от ее взора, когда она взглянула на него.
Как же все переменилось ныне, с горечью думала мадам Элиза, в одиночестве завершая трапезу. Как же все переменилось! Вроде бы все как прежде – мягкий свет свечей, фарфоровые пары на столе, самовар, мерцающий бликами в отблесках огоньков свеч, светлая скатерть из тонкого полотна, обшитая по краю кружевом искусным руками девиц. Да только не все пары на столе из единого сервиза, приборы не серебряные, а снедь скуднее, чем бывало раннее, и лакей только один в услужении в столовой, а за буфетчика ныне Иван Фомич стоит в буфетной. И люди, что сидели недавно за этим столом уже совсем не те, что прежде, и никогда уже не будут иными!
– Ты так переменился! – говорила в эти же минуты Анна брату, стоящему у окна и вглядывающемуся в темноту за стеклом, на темные силуэты дворника, что убирал снег с подъезда к дому. – Я будто заново тебя узнаю…
– Тогда позволь представиться – новоявленный Петр Михайлович Шепелев! – иронично поклонился ей от окна брат. – Все ныне ж по-новому, по-другому. И я тоже другой! Уволил Хофмана? Да! Дал расчет. Он мне ни к чему. Мне ни к чему человек, что говорит безмолвно всем своим видом – вы, сударь, глупец, вы, сударь, не смыслите ни к черту! Надобно выправлять все, а он лишь только возражает! Московский дом, чтобы ты ведала – руины ныне! Maison à louer [455]455
Дом, сдающийся внаем (фр.)
[Закрыть]– только первый этаж в целости, требует больших работ! Московские земли наши – пепелище да пустошь! Сперва наша армия прошла, отступая, после француз, и сызнова наши солдаты. Одна только Тульщина осталась нетронутой, да только оттуда многое число холопов побежало, заслышав, что Наполеон им волю даст. Заранее побежали, стервецы! Гжатские земли… О, ты же сама видишь! Видишь же! Надобны средства, а Хофман против повышения оброка. Надобно поправлять то, что порушено, а Хофман против увеличения барщины. Говорит, после. После!
– Ты увеличил барщину и оброк? И это ныне?
– Именно – ныне! – Петр даже костылем стукнул об пол, будто в подтверждение правоты своих действий. – Ты не понимаешь. Совсем не понимаешь! Я бы и вовсе перевел бы и Милорадово, и ближайшие наши деревни на оброк, да только кому в поля по весне выходить? Кто будет пахать?
– Для того чтобы кто-то вышел в поля по весне, надобно бы и помочь им самим! – запальчиво воскликнула Анна. Пришел миг, когда она может высказать брату все, о чем думала за часы, что ждала его возвращения. И что узнала за это время. – Это правда, что ты не позволяешь им рубить лес, чтобы править избы? Что крестьяне, у которых сожжены жилища, вынуждены жить в вырытых ямах? Это правда?
– С чего вдруг тебя стало интересовать житье холопское? – переспросил Петр, нападая в ответ, стараясь защитить свои решения, убедить сестру в их правоте. – Ранее ты не особо пеклась о них!
– Ранее? Ранее мне не приходилось видеть, как они на защиту отца встают! – сказала и снова вспомнила тот день, когда на дворе церкви шло побоище, когда старались крестьяне сбить французов до того, как те сумеют подойти к раненому барину. – Они спасли тогда жизни мне и отцу, уберегли от гибели. Как забыть о том? Как можно забыть о том?
– Быть может, им еще и стрелять разрешить в лесу? И кормить с барского стола? – ехидно спросил брат, но Анна только выше подбородок подняла, готовая отстаивать свою просьбу.
– D'accord! Коли ты так просишь за них, я дам им возможность получить дерево для их изб. Вскоре будем рубить дальний лес, тогда и получат холопы свои срубы, – холодно проговорил Петр после минутного молчания, скрещивая руки на груди, словно отгораживаясь от сестры ледяной стеной. – И не спрашивай про лес. Я так решил. Вскорости будут город отстраивать – лес в цене подскочит. Нам средства надобны. Большие средства!
– Скажи мне еще одно, – не унималась Анна, готовая выяснить ныне все до конца, открыть все карты, которые, как она подозревала, Петр держал скрытыми от ее глаз. – Ты велел почту тебе приносить наперед. Всю почту. Для чего?
– Не смотри на меня так! – выкрикнул брат, видя в глазах Анны явное обвинение. – Не смотри, будто я вор или злодей какой! Если нет письма, не моя вина. И думать не смей, слышишь! Даже думать не смей! Смела стала чрез меры! Отец много позволил тебе, как я погляжу. Не твоего ума дело, сестрица, вопросы хозяйские. И не лезь в них боле! И не по тебе вопросы задавать о решениях моих, спорить о них. Твое дело сесть за работы да за домом следить, только то!
Анна промолчала в ответ, не стала даже рта открывать, боясь, что снова сорвутся с губ злые обидные слова. Она отступила к дверям, готовая убежать из кабинета, но все же развернулась от створок, не в силах не задать вопроса, который помимо воли возник в голове еще днем, когда только-только узнала правду обо всем, что творил Петр, войдя в роль хозяина.
– Что ты скажешь отцу обо всех своих деяниях? Что скажешь, когда он встанет с постели и будет готов снова стать за хозяина у своих земель? – спросила тихо, пытаясь подметить каждое движение черт лица, каждое шевеление губ.
Горькие складки легли у рта. Сдвинулись брови под светлой прядью волос, что упала недавно на лоб, когда брат качал головой в пылу ссоры. Мелькнула тень в серых глазах.
– Если встанет с постели, – поправил он Анну мягко, и она пошатнулась, ахнула, осознав смысл этой фразы. А потом мелкими шажками пересекла кабинет и бросилась в распахнутые объятия брата, прижалась к нему всем телом, как когда-то делала это в детстве, спрятала лицо на его широком плече. – Доктор Мантель говорит, что кровопускания не помогают отцу. Кровь не очищается, а значит, о поправлении здоровья не может быть речи. Ты же сама видишь, какой он стал!
Да, она видела. Отец за последние седмицы сильно похудел, осунулось лицо. Стала видна ныне каждая жилка на руках, с тревогой подмечала она всякий раз, беря ладонь его в свои руки. Ушел давно румянец со щек, лицо по цвету равнялось белоснежному полотну постельного белья. Доктор Мантель, опасаясь простуды, велел топить в покоях Михаила Львовича жарче, чем обычно топили. Но даже то тепло, что было в его комнатах, не помогало: он был так же бледен, а ладони и ступни холодны.
– Il se meurt [456]456
Он умирает (фр.)
[Закрыть], – прошептал Петр то, что она страшилась даже в мыслях сказать себе. Но знала, она знала, что отец плох, несмотря на все усилия доктора, на заботливый уход и на молитвы домашних и службы, что творил отец Иоанн. Анна видела, как заострились за время болезни черты лица отца, его слабость после кровопусканий, когда он даже руки поднять не мог, а только лежал с закрытыми глазами и слушал ее голос, облекающий написанные в журнале строки в слова. «Длань черной старухи», говорила Пантелеевна о тех, кто постепенно высыхал день от дня, теряя следы былой жизни в этом немощном худом теле. «Длань черной старухи на челе уже видна. Скоро и она сама пожалует…»








