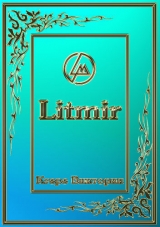
Текст книги "Мой ангел злой, моя любовь…(СИ)"
Автор книги: Марина Струк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 68 страниц)
Утром Анна не поехала с домашними в церковь, сославшись на головную боль. Она не лукавила в том – на смену ночных рыданий пришла ужасной силы мигрень, ломившая виски. Любой звук причинял острую боль, а свет резал глаза. Навестивший ее отец встревожился, хотел послать за доктором Мантелем, но Анна отговорила его, мол, сон и соли помогут снять приступ.
– Перепугалась давеча, моя милая? – спросил тихо Михаил Львович, гладя ее ладони. – Прости меня за то, прости. Как подумаю, что могло случиться, коли поляк тогда выдай нас…
– Не думайте о том, папенька. Ушли ли беглецы, не ведаете ли? И как бедный Иван Фомич?
– Ушли, душа моя, ушли. Мне о том сказал проводник их, что через болота увел их окружным путем от французов. А Иван Фомич… Я дал ему седмицу на устройство всех дел. Как подумаю о его потере, сердце рвет мне. Не приведи Господь такой беды…
Домашние уехали в церковь, и Анна тут же заснула под звуки отъезжающих экипажей, словно в яму провалилась в сон, но спала недолго. Лучи солнца, столь редкого в эту пору, скользнули сквозь щель между неплотно задернутых плотных занавесей и разбудили ее, не дали отдыхать в пригожий сентябрьский день. Глаша быстро сбегала в кухню, где барышне собрали завтрак на поднос, но вернулась не только с хлебом, ветчиной и вареными яйцами. На подносе стояла высокая ваза с букетом из ветвей рябины.
– Что это? – удивилась Анна, даже застыла на миг, кутаясь в шаль, чтобы укрыть голые плечи от легкого холода, уже скользившего по комнатам усадебного дома.
– Это все наш гость, – краснея, проговорила Глаша. – У дверей меня поймал, когда за завтраком шла. Цветы вам просил передать. Я ему и сказала, что вы не примете, что выбрасывать велели тут же. Ушел, не сказав ни слова. Воротаюсь, а он уже с рябиной в руках! Прикажете унести?
– Нет, пожалуй, оставь, – Анна распорядилась поставить эти ветви с ярко-желтыми листьями и спелыми крупными ягодами на столик у зеркала. Да и как можно было отослать этот дар, памятуя о том, что сделал для них давеча капитан? А еще Анна решила лично поблагодарить его за тот благородный поступок, попросила Глашу передать ему, что хочет переговорить с ним в малом салоне.
Лозинский уже ждал ее там, стоя у окна подле клавикордов, когда Анна спустилась вниз, робея от того, что осмелилась остаться с ним наедине по своей воле.
– Comment allez-vous? [351]351
Как вы? (фр.)
[Закрыть]– он протянул к ней руки, едва она ступила в салон, коснулся губами ее ладоней, приветствуя. – Monsieur votre père [352]352
Ваш отец (фр.)
[Закрыть]сказал, что вам нездоровится. Это все из-за того, что случилось прошлой ночью?
– Не совсем, – Анна отошла от него к козетке, указала Лозинскому на кресло поблизости, но он проигнорировал ее жест, отошел к окну и стал наблюдать, как дворовые собирают граблями опавшие листья, сжигают те, наполняя осенний день запахом дыма. Они долго молчали, а потом Анна все же решилась нарушить эту тишину, зная, что скоро вернутся в дом домашние из церкви, и у нее не будет более возможности сказать ему то, что она хотела.
– Я бы хотела поблагодарить вас за то, что вы сделали вчера. Ваш поступок… он…нарушить долг…
– Прежде чем вы припишете мне то, что нет и в помине у меня за душой, – прервал ее резко Лозинский. – Я бы желал сказать вам, что я не делал того, о чем вы говорите ныне. Я хочу, чтобы вы взглянули в мою душу, увидели всю мою сущность. Оттого буду честен ныне. У меня нет долга перед Наполеоном. Был, когда я шел за ним, веря, что он вернет Литве утраченную некогда свободу, вернет ее в былые границы. Ныне же я вижу, что это была всего лишь игра, чтобы шляхта пошла на поводу собственных иллюзий и встала под его знамена. Я лил кровь за обманку… за сладкую ложь. Ему наплевать на Литву, его гонят собственные амбиции наперекор обещаниям, что Бонапарт так щедро раздал. Потому у меня нет долга перед Наполеоном отныне. Да и сидением в Москве он загнал себя в угол. Армию русскую надо было давить после Бородино, не давая ей передыху, когда она была так слаба! Он упустил момент, и вот результат – не сегодня-завтра будет сражение, что решит исход всей этой кампании. И боюсь, не в пользу Бонапарта, – с горечью заключил он, заставляя Анну вскрикнуть от волнения.
– Вы думаете…? – даже дышать боялась нынче, ожидая его ответа, смотрела в его затылок, на напряженную спину и белую полосу перевязи на вороте мундира.
– Я в этом убежден, панна Аннеля, – ответил Лозинский. А потом резко отошел от окна, опустился на одно колено перед ней, сидящей на козетке, в волнении теребившей бахрому шали, взял ее руку в свои ладони.
– Вот таков я, панна Аннеля, – проговорил он тихо. – Мои раны еще долго будут заживать, отменно порубили русские сабли в том сражении. Не будь вас в этом доме, я уехал бы в Литву, в свой фольварк и переждал бы там, чем закончится то, что так славно начиналось этим летом. Ах, как должно быть ныне хорошо в Бельцах! Тенистые аллеи в парке, пруд под ивами возле замка… Я люблю свою землю до безумия! Каждый камень в замке и башнях, каждую пядь земли! Я думал, что французский бульдог сумеет повалить русского медведя, чтобы моя сторона стала как прежде свободной, чтобы поднялась из-под пяты России. Нет, не говорите ничего, панна! Никто и никогда не переубедит меня в ином, даже вы! Оттого вы – мое наказание свыше, кара для меня! Я не должен был…. Вы благодарите меня за спасение домашних, а мне ведь наплевать на каждого из них. Наплевать на всех, на эту землю, на этих людей. Нет дела, что будет с ними. С ними, но не с вами! Ваш отец, потакая слепому стремлению своему, принял смутьянов на порог, а потом этот отряд… Я даже подумать толком не успел ни о чем, кроме того, как мало у меня ныне людей в усадьбе – всего-то пять вместе с Лодзем. И это против четырех десятков шевележеров! Сущее безумство! Как и то, что я говорю вам о том, что в душе моей…. Потерять вас или остаться верным клятве императору, уже единожды предавшего меня и мою землю? Выбор стал таким очевидным в тот момент…. Вы молчите?
– Я не знаю, что ответить вам, – сказала Анна. – Кроме слов благодарности, не нахожу, что сказать вам ныне. И не желаю…
– Мне не нужна ваша благодарность! – запальчиво воскликнул Лозинский, сжимая ее ладонь. – И благодарности ваших домашних тоже! Я сделал то, что сделал не ради них, а только исключительно себе в пользу. Ведь давеча мне открылась истина – не станет вас, и… Вы качаете головой. Отчего?
– Я не желаю слышать того, что вы скажете далее, – проговорила Анна. – Я уже писала к вам и ныне готова повторить каждое слово из того письма, что вы получили давеча. Я безмерно благодарна вам за ваш поступок, но более мне предложить вам нечего.
– Тогда предложите мне помимо благодарности и ваше доверие, ваше расположение ко мне. Более просить не стану, – Лозинский дождался ее кивка, а потом снова коснулся губами ее дрожащих пальчиков.
– Вы должны уходить из салона. С минуты на минуту воротятся из церкви. Не должно, чтобы нас видели наедине, – напомнила Анна, и он кивнул, соглашаясь. Не стоило быть настойчивым ныне, когда его позиции настолько упрочились в этом доме. Теперь они все зависели от него. Все, до последнего холопа в усадьбе!
Потому и ни слова не сказал Михаил Львович против просьбы Влодзимира не помогать отныне тем, кто ведет «малую» войну против французов. Только кивал хмуро, соглашаясь с каждым доводом поляка, который доказывал, какой опасности тот подвергает женщин в усадьбе.
– Я понимаю ваши чувства, пан Шепелев. Сам бы встал, коли б на землю родную напал неприятель. Но оставьте сии опасные дела молодым. Это их война, не ваша! У вас удивительной красоты и ума дочь, истинный цветок этой земли. Вы ведь не желаете, чтобы огонь войны поглотил и ее? Подумайте над этим, пан, прошу вас. Ибо я твердо намерен спасти от подобной участи вашу дочь. И пойду для того любыми путями! Если б мог, увез бы ее отсюда! Позвольте мне сделать это, пан Шепелев! Отдайте за меня панну Анну!
– Вы просите руки моей дочери? – удивленно вскинул брови Михаил Львович, не ожидавший подобного поворота в их разговоре.
– Прошу! – резко ответил Влодзимир, сам удивляясь собственным словам, вырвавшимся помимо воли. – Отдайте за меня панну. Я не богат и не имею титула. Но обладаю парой сотен десятин пахотной и луговой земли. И замок Лозинских будет не менее усадебного дома вашего. И мне ничего за ней не надо! Да и что с вас брать ныне? Только она. Отдайте мне Анну, пан Шепелев.
– Анна уже обещана, милостивый сударь, – покачал головой Михаил Львович. – И что она сама? Благоволит ли в том к вам? Бог ты мой, возможно ли?! Нет, определенно нет! Это немыслимо! Прошу простить меня, сударь, но покамест мы связаны словом, и я не в силах нарушить его. Простите меня, но вынужден ответить вам отказом.
– В таком случае, прошу вас сохранить сей разговор в тайне от сторонних ушей. Дайте слово благородного человека, что никто не узнает о том. Поверьте, у меня есть на то причины, – Лозинский с трудом скрывал ныне горечь и разочарование, что захлестнули его при этом отказе, сдержал злость, распирающую грудь. Нет, нельзя сказать, что он ожидал согласия, но и немедленный отказ был для него неожиданным. Он полагал, что Шепелев попросит время на раздумья. Увы, какими бы достоинствами ни обладал бы он, какие бы поступки ни творил, подобным путем не заслужить того, чего так страждет его душа и тело ныне! Но видит Бог, он попытался…!
В последующие дни в Милорадово снова установилось тихое спокойствие и благодать осени. Собирали рябину с ветвей, чтобы сделать запасы ягоды на зиму, старались успеть до первых снегов, что могли выпасть на Покров, до первых морозов. Убрали в омшаники улья с пасеки усадебной, спрятали до весны от холодов зимних.
Михаил Львович был обеспокоен объемами заготовок дров на зиму. Мужиков было мало осенью в селе, наполнять дровяные сараи было почти никому. И так едва управились до Замолоток [353]353
Дни последней молотьбы зерновых – с середины сентября по Покров (по старому стилю)
[Закрыть]с зерновыми – рабочих рук было чуть ли не впятеро меньше, чем обычно. Но дней барщины Шепелев не стал увеличивать, видел, как нелегко приходится тем, кто остался без мужиков в семье.
Оттого в доме топили только покои личные, столовую малую и кабинет Михаила Львовича. Для собрания домашних отвели только малый салон, где можно было и помузицировать, и с шитьем сесть, и в игры настольные сыграть, если желание было такое. Да и все перед глазами, на виду. Остальные комнаты были закрыты, подоткнули щели под дверьми, чтобы не ходил сквозняк, не холодил неприятно ноги и руки.
И рассаживались обычно поближе к печи или огню камина. Ближе всего постоянно мерзнущая Марья Афанасьевна в кресле, положив ноги на скамеечку, укутав колени вязаным покрывалом, с неизменной болонкой под рукой, подле нее Мария на стуле с книгой или журналом в руке. Напротив – дремлющий под чтение воспитанницы графини Михаил Львович. На козетке бок о бок с рукоделием в руках Полин и Катиш, обе молчаливые и неулыбчивые, погруженные каждая в свои мысли. Первая волновалась об офицере армии, вторая о судьбе матери и сестры, что были еще летом в Москве. Мадам Элиза садилась обычно на стул возле них, тоже вышивала или плела кружева, но чаще посматривала в сторону Анны и Лозинского, играющих в шахматы, так сосредоточенно обдумывающих каждый ход, словно от выигрыша или проигрыша в партию зависела чья-то судьба.
Пробовали и играть в карты, но скоро забросили эту затею после ссоры графини и поляка, когда тот выиграл в очередной партии в штос, сгреб к себе деньги, что были поставлены.
– Недаром плутовской народ! – бросила карты на стол она тогда раздраженно. Лозинский только взглядом ответил, при этом едва скрывая неприязнь к ней под полуопущенными веками. Между ними настолько ощутима была ненависть друг к другу, что даже Михаилу Львовичу стало не по себе. Оттого ломберный стол и карты приносили в салон только для пасьянса, который раскладывала Марья Афанасьевна, а иногда и Анна, загадывая желания. Правда, чаще всего тот не сходился, и Анна сбрасывала карты со столика на пол в раздражении под ироничной усмешкой Лозинского.
На Покров снова Анна просила у Богородицы, протиснувшись через толпу прихожан к образу после службы, поставила тонкие свечи перед ликом святым. Одну – за брата, о котором к своему стыду думала меньше ныне, чем должна была. Вторую – за Андрея, нареченного, которого Богородица дала ей в прошлом году.
– Знак. Всего один только знак, – прошептала Анна, глядя в понимающие глаза лика, придерживая тонкий эшарп на русых локонах. А потом вдруг вспомнила, как мелькнула в зеркале темная фигура с белым пятном галстука под шеей, вспомнила холод серебра на ладони, побледнела вмиг. – Защити, сохрани, убереги… умоляю!
По возвращении Анна не пошла в дом, как остальные, что торопились обогреться у огня, замерзнув по дороге из села. День выдался необычно ветреным и холодным – даже пар показывался изо рта при разговоре, оттого и не задерживались, выходя из кареты, спешили зайти внутрь, за стены, прячась от лихого проказника, раздувающего подолы платьев, так и норовящего сорвать шляпки и мужские уборы с голов.
– Я пойду к Фудре, – сказала отцу Анна, вдруг разворачиваясь от дверей в дом. – Давно не была у нее, не навещала.
Поездки верхом, которые она так любила, были строжайше запрещены ныне, и Анна не роптала по этому поводу. Только с грустью наблюдала, когда выводили ее белоснежную красавицу, чтобы провести шагом по кругу заднего двора, не давая ей застояться в стойле. Анна старалась навещать свою любимицу, как можно чаще, вот и ныне пошла к конюшне, стала угощать яблоком из нового урожая, гладя по шее и морде Фудру. Та ткнулась ей в плечо, словно говоря, как соскучилась по хозяйке, по тем дням, когда выезжали вместе, и Анна грустно улыбнулась. Вдруг вспомнила, как гнала Фудру по снегу, торопясь увидеть охотников. И его, в пышной лисьей шапке и охотничьем казакине темно-синего цвета.
– Она истосковалась по хорошей скачке, – раздался голос из-за спины. Анне не надо было оборачиваться, чтобы взглянуть, кто нарушил ее уединение. Иногда ей даже казалось, что Лозинский стал ее тенью, так часто она видела его возле себя.
– Быть может, когда-нибудь она и будет, эта скачка. Когда чужие уйдут с земель этих, и ненадобно будет опасаться собственного леса, – ответила Анна и, коснувшись в последний раз морды Фудры, направилась вон из конюшни – оставаться наедине с Лозинским, особенно после его недавних признаний она не желала. А на пороге конюшни вдруг замерла на миг, чтобы потом, тихо рассмеявшись, сделать шаг из-под укрытия под медленно падающие с небес белые хлопья, подняла ладони вверх, закружилась на месте, не обращая внимания на соскользнувший с волос эшарп.
Снег. С серого осеннего неба падал первый в этом году снег. И она подставила лицо этим хлопьям, закрыла глаза, мысленно благодаря Богородицу за знак, о котором она так молила ее ныне в церкви. Лозинский же глаз не мог отвести от ее лица, такого одухотворенного, такого прекрасного в этот миг. И ему до боли хотелось, чтобы сейчас она думала о нем. С такой счастливой улыбкой на губах, с этим дивным светом в глазах, которым Анна обогрела его в этот холодный осенний день, взглянув на него, прежде чем убежала в дом. Там она взбежала по лестнице и буквально ворвалась в покои графини, прибирающейся к обеду.
– Марья Афанасьевна, милая, – Анна бросилась вдруг на колени перед той, сидящей в кресле, пока Настасья заправляла ей пряди волос под край чепца, отороченного кружевом. Спрятала счастливые глаза в подоле платья графини, обняла ее ноги.
– Qu'avez-vous, ma chere? [354]354
Что с вами, моя дорогая? (фр.)
[Закрыть]– удивилась та, коснулась локонов Анны, в которых в огоньках свечей блестели капельки воды, в которые превратились снежные хлопья. – Что стряслось?
– Снег! – подняла на ту взгляд Анна, не скрывая своей радости. – Снег на Покров!
Вот оно что, не могла не улыбнуться Марья Афанасьевна, заразившись восторгом Анны, так и гладила ту по волосам, улыбаясь. Снег на Покров. Счастливое предзнаменование для обрученных. Знак от Богородицы, что та благословляет их союз.
– Это действительно добрый знак, – прошептала графиня, а потом не могла не коснуться кончиками пальцев гранатов в кольце Анны, когда та вложила свои ладони в ее руки. Взглянула после в окно на белые редкие хлопья, медленно падающие на землю. Ранний снег, знать, ранняя зима будет в этом году. Скоро уже и шубы доставать надобно будет, и другие зимние одежды, и шляпки, подбитые мехом пушистым и мягким, и муфты. Скоро будет сковывать воду в прудах тонким первым льдом – успеть бы бочки с соленьями на дно поместить до того.
Тяжко будет вести войну в это время холоднее, коли на квартиры не в избе вставать, а прямо в поле или в лесу, как довелось Андрею этим летом и в прошлые годы в Австрии. Эдак, и до воспаления грудины недалеко, упаси Господи!
– Вам по сердцу этот усач лихой, – сказала позднее Анне Марья Афанасьевна, когда они сидели в ее покоях, поднявшись сюда после обеда, и смотрели, как лижет широкие поленья огонь, наполняя комнату теплом. В стекло окон рвался ветер, словно просил впустить его погреться, завывал от горя и тоски, что не допущен внутрь.
– Лозинский? – Анна вдруг смущенно рассмеялась, опуская глаза от пристального взгляда графини. Но спустя миг смело подняла на нее взгляд. – Не буду скрывать, он любой девице придется по нраву. Он пригож лицом и статен телом. Он благородного нрава, раз укрыл нас в ту ночь перед французами. Он мог бы завоевать мое сердце, не спорю. Мог, коли б то было у меня в руках. Но оно не у меня, так как я могу отдать его? Улан мне по нраву, это правда. Но мне может нравится и виноград, однако ягоды вишневые я люблю гораздо больше. Не знай я вкуса сладости вишни, могла бы полюбить и кислоту винограда.
– Девица поступает необдуманно, оставаясь уверенной в собственном превосходстве над чувством своим, – заметила Марья Афанасьевна. – И даже из простого интереса может родиться нечто большее. Нет, я не корю вас, Аннет, просто предупредить желаю. Женскому сердцу могут быть по нраву многие, но в нем будет жить только один-единственный мужчина. А глаза и тело… они могут предать, толкнуть к неверным решениям и поступкам. Я ведаю, что говорю, сама была почти в вашем положении. Да-да, не смотрите на меня так удивленно! В это трудно поверить ныне, но когда-то я была молода и красива. За мной волочились, как за вами, даже дрались на дуэлях, во времена Екатерины их было поболее числом, чем ныне. И мне было по нраву, что вокруг столько поклонников… я любила внимание, их обожание и соперничество. Столица вскружила голову, затмила блеском балов и маскерадов. Забыла я о некогда данном слове, забыла, что мой девичий восторг от собственной пленительности может быть не по нраву тому, кому хотела отдать свою руку, как отдала свое сердце.
«Два года», – сказал отец, когда мы встали перед ним на колени с моим любимым, прося благословить нас, «Пусть Марии сровняется осьмнадцать, тогда и будем говорить об accordailles [355]355
Помолвка (фр.)
[Закрыть]открыто». И я порхала как бабочка по балам, думая, что все уж решено, и что могу насладиться возможностями девичества в полной мере. А потом вернулся из Пизанских земель мой супруг, граф Завьялов. Он был старше меня на два десятка лет, опытнее, знал, как вскружить голову девице. Мой любимый был далеко в те дни, а внимание такого мужчины, как граф, льстило самолюбию. И я забыла об осторожности, позволила себя поцеловать… Всего один поцелуй, но он перечеркнул все! Спустя пару седмиц после того ко мне вернулись мои письма вместе с короткой запиской, что я свободна ныне от данного мною слова. А я, потакая своей гордыне, не стала объясняться в причинах, а отправила любимому его послания ко мне, всю переписку и приняла предложение графа. Кандидатура его была предпочтительнее для моих родителей, чем нетитулованный дворянин из земель близ Коломны, и те тут же обручили нас. Я думала, он остановит меня! Думала, одумается и вернется, тогда я тут же порву с графом и стану его женой. Только его! До самого последнего дня ждала…
Марья Афанасьевна вздохнула, достала из-за ворота платья платок и промокнула глаза. Столько лет прошло, а рана в сердце так и не зажила, предательство родных людей так и не забыто!
– Мое сердце плакало кровавыми слезами, когда я шла к аналою под руку с Завьяловым. Ведь за седмицу до того моя сестра вышла из храма в Коломне женой. Женой моего любимого! Да, Анна, люди жестоки даже к родной крови! Она писала к нему тайком, в деталях повествуя о моем столичном житье, о поцелуе, который видела тайком, о моем влечении к графу, о котором я сама открылась ей. Она была уже в летах – двадцать годов сравнялось к тому времени, засиделась в девицах из-за оспин, которыми наградила ее зараза в младенчестве. Единственный путь стать женой был…, – Марья Афанасьевна вдруг запнулась, косо взглянула на Анну, слушающую каждое ее слово. Продолжила свою речь медленнее, словно подбирая слова. – У нее был единственный путь выйти замуж, и она отменно по нему пошла. Рассорить сестру с тем, на кого сама положила глаз, стать доверительницей, стать для него слушательницей внимательной, заботливым другом, а после… после… У них довольно скоро после венчания родился сын. Борис в честь отца нашего батюшки. На него она перенесла всю свою любовь, которую так и не принял тот, кому она предназначалась. О Боже, как я ненавидела их, сестру и своего супруга! Он стал жесток и груб после венчания, совсем не таким, каким я видела его, когда слепо ступила к нему в объятия. То была страсть, не любовь, а только влечение… Я увлеклась, и я ошиблась. Горькая расплата за дни обмана!
– Этот человек… это Оленин-отец? – спросила удивленная услышанным рассказом Анна. Марья Афанасьевна улыбнулась грустно, видя ее лицо.
– Да, Анна, это Павел Оленин, – она полезла за ворот платья, извлекла на свет свечей золотой овальный медальон. Распахнулась с легким щелчком крышка, и графиня протянула Анне его, показывая портрет молодого человека в темно-зеленом мундире Семеновского полка. Он был так схож лицом с Андреем, что у Анны даже дыхание перехватило. Только родимое пятнышко маленькое на левой щеке показывало различие между отцом и сыном. Да и Оленин старший был в парике, когда как Андрея Анна помнила светловолосым, с прической à la Titus [356]356
Прическа подразумевала, что волосы зачесываются на лоб, в подражание бюстам римского императора Тита и соответствовала «ампирным» вкусам эпохи
[Закрыть], а не при пудре.
Марья Афанасьевна провела кончиками пальцев по локону, закрепленному в крышке медальона, а потом закрыла его, спрятала обратно под платье и сорочку, к самому сердцу.
– Мы обменялись локонами, когда дали друг другу клятву быть вместе, – сказала она. – Я носила его прядь волос в этом медальоне. Надежно прятала его все годы, пока был жив муж. Завьялов бы лютовал, коли бы проведал о моей тайне. А Павел прятал мой локон в кольце. И в гроб с ним лег, – графиня прикрыла на миг глаза, вспоминая, как стояла в храме и смотрела только на любимые черты, пока отпевали покойника. И поцелуй в холодные губы, который позволила себе тогда, не обращая внимания на тех, что был на отпевании. Первый за долгие годы и последний. Плевать ей на толки и сплетни! Она бы и в гроб легла, чтобы ее закопали с ним, лишь бы быть с ним!
Тридцать с лишним лет врозь телами, вместе сердцами и душами. Лежать с другими, чужими в постелях и представлять, что не он или она подле тебя. Крестить его ребенка, представляя, что это их совместное дитя, растить после этого мальчика и думать, что это их сын. Бояться ненароком коснуться друг друга, чтобы не выдать себя после взглядами.
«Прости меня, – напишет Павел ей в последней предсмертной записке, которую после графине отдаст его комердин. – Я не должен был потакать своей гордыне и ревности слепой, а слушать только свое сердце. Своими руками вымостил и тебе, и себе, и им, нашим супругам, дорогу в ад. Ведь я любил всегда только тебя… до последнего вдоха…»
– Слушайте всегда свое сердце, ma chere, – проговорила медленно Марья Афанасьевна, гладя руку Анны. – Только сердце скажет правду, более никто, даже разум обмануть может. Тот единственный поцелуй, сломавший мне жизнь, не был сладок, как те, что дарил мне Павел, а горечь от него я ощущаю до сего дня….








