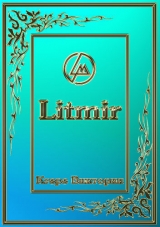
Текст книги "Мой ангел злой, моя любовь…(СИ)"
Автор книги: Марина Струк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 68 страниц)
Но как обычно обман не может длиться долго, пусть даже он и создан своими руками. Настал тот день, когда иллюзорный мир Анны, которым она окружила себя, будто защитной стеной, рухнул. Это непременно должно было случиться.
Лозинский недоумевал, отчего она принимает его признания и цветы, но все, к чему он смог продвинуться за прошедшие дни – только легкие улыбки да вежливые беседы на отвлеченные темы. Он смелел с каждым последующим письмом, а последнем даже решился на такое интимное «Tu» и «Toi» [342]342
Ты (фр.)
[Закрыть], но отношение к нему не переменилось. Даже гнева не было, которого он ожидал, обращаясь к ней столь близко. Что-то было не так, он чувствовал это печенкой. Любое женское сердце давно бы дрогнуло от этих слов, тем более, она разузнал у своей союзницы о том, каков по натуре был жених Анны – предельно вежливый, выученный службой при дворе скрывать свои чувства, если вовсе не холодный сердцем.
– Отчего вы так со мной? – вдруг не сдержался он, когда по обыкновению сопровождал ее на прогулке по парку. Влодзимир быстро пересек расстояние, разделяющее их, схватил ее за запястье, чтобы удержать возле себя, не дать ей уйти от его вопросов, как она обычно делала это. – Вы желали помучить меня, заставить томиться неизвестностью, чтобы показать, кто сильнее из нас? Мне говорили, что вы истинная мастерица кружить головы, и ныне я вижу, что эти слова правдивы.
– Я не понимаю вас, – сердце Анны подскочило в груди от этой неожиданной атаки. Или от обжигающего прикосновения крепких мужских пальцев к своей руке.
– Довольно, панна Аннеля, – мягко произнес Лозинский, как обращался к ней в письмах, и она вздрогнула, услышав это имя. И от пальцев, что поймали выбившуюся из-под шляпки прядь, заправили ту за ухо, коснувшись мимолетно кожи шеи. – Если бы ты знала, как я жалею, что приехал сюда, в эту усадьбу. Что вообще узнал тебя. Ступая на эти земли, я желал покорить, но никак не… Что за игру ты ведешь со мной?
– Вам не пристало так говорить со мной, – ответила только Анна, резко разворачиваясь, чтобы уйти, но он не позволил ей это – схватил сильнее за запястье, потащил в сторону с дорожки, чтобы скрыться с глаз сопровождающего лакея. – Что вы делаете? Я закричу!
– Кричи! – бросил ей Влодзимир, но она не открыла рта, просто размахнулась и ударила его в больное плечо, зная, что рана до сих пор причиняет ему боль. Он только втянул в себя воздух, прижал ее к дереву, больно ударив спиной о ствол, прижал подол платья коленом, лишая ее возможности двигаться.
– Отчего ты не кричишь? – спросил после, презрительно кривя губы, и Анна тут же обожгла его взглядом.
– Вы знаете прекрасно. Коли крикну, прибежит лакей. Тот скажет после отцу, и он выкинет вас за порог усадьбы, невзирая на опасность, что повлечет за собой это действо. Довольно же французы пожгли кругом. Подобной судьбы для Милорадово я не желаю.
– Неужто только от того? А отчего та дрожь, что бьет ныне? И не лги мне, что нет ее вовсе, я ощущаю ее пальцами. Ты просто боишься признать. И мне, и самой себе сперва, – произнес Влодзимир, и Анна заглянула в его глаза, растерянная, сбитая с толку его словами и теми ощущениями, что вызывало в ней помимо воли его столь близкое присутствие ныне. Оттого, что смотрела ему в лицо, успела увернуться, когда тот склонился к ее рту, уклонилась от поцелуя. Губы Лозинского только по щеке скользнули, а после раздвинулись в улыбке.
– Мне по нраву твоя горячность, – прошептал он ей в ухо, обжигая нежную кожу своим горячим дыханием. – И твоя необузданность… Что дал бы тебе твой жених? Сумел бы понять и прочувствовать тот огонь, что бежит в этих тонких жилках?
Они снова взглянули друг на друга – серо-голубые глаза схлестнулись с карими в яростной схватке, и Лозинский вдруг побледнел слегка, когда невольно прочитал то, что хотела сказать ему взглядом Анна, не имея возможности выразить это словами.
– Не смейте говорить о нем в подобном тоне, слышите? Андрей стоит сотни таких, как вы!
– И верно – de mortuis aut bene aut nihil [343]343
О мертвых либо хорошо, либо ничего (лат.)
[Закрыть], – скривил губы Влодзимир. – Что на вашем языке означает, никогда не говорите дурно о мертвых…
И улыбнулся довольно, когда она едва ли не зашипела, как змея в лицо, при этих словах, дернулась так, что он едва удержал ее у дерева. Пришлось применить всю силу, что имелась, для того. Но не сумел устоять, когда она размахнулась и обожгла его щеку пощечиной, оставляя яркое пятно удара на коже.
– Не смейте говорить мне «ты»! – а потом толкнула его сильнее, заметив, как отшатнулся Лозинский от ее удара, ослабил давление коленом на подол платья и ладонью здоровой руки на ее плечо. Вывернулась из его хватки и побежала прочь – к дорожке, на которой растерянно ходил пожилой лакей, потерявший из вида барышню, и далее по той прямо к дому, подобрав подол платья, чтобы было удобнее делать широкие спешные шаги.
– В беседе личной или в письмах? – не удержался, чтобы не крикнуть ей вслед с иронией Лозинский, выходя на дорожку. Анна даже не оглянулась, только ускорила шаг. Бледный от страха лакей, уверенный, что ему непременно достанется за то, что упустил пусть и на миг барышню, с трудом поспевал за той.
Какова! Лозинский не мог не улыбнуться, потирая горящую от удара щеку. Тем интереснее ныне, тем желаннее заполучить ее. И ныне для него это уже был не приз за удачно проведенную кампанию. Ныне хотелось не только получить ее расположение, ее привязанность, но и чтобы она так же яростно защищала его, как пыталась отстоять память своего жениха. Хотелось, чтобы и вероятность его потери вызывала в ней ту боль, которую он отчетливо читал в ее глазах. Чтобы он стал ей дорог, а не просто желанен, чтобы он был в ее сердце…
Анна же быстро прошла к себе, едва ступила на порог дома, даже не обращая внимания на грязь, которую оставляла от своих шагов. В будуаре спешно нажала на скрытый механизм, чтобы распахнулась дверца потайного ящичка, достала пачку писем, которые получала последнюю седмицу. «Ma chere Аннеля… милая панна… Аннуля…Ануся… Аннеля»… Анна резко отбросила от себя письма, и те белоснежным ворохом рассыпались по ковру будуара. При это закричала, закрывая лицо ладонями, словно скрываясь от этих строчек, от осознания того, как обманула сама себя.
На крик прибежала Глаша из спальни, принялась собирать с пола письма, решив, что барышня нечаянно уронила те. Но Анна только оттолкнула протянутую руку с первым аккуратно сложенным письмом.
– Убери их прочь с глаз моих! – процедила сквозь зубы, борясь с желанием разорвать каждое из этих писем в клочки, выплескивая свою злость на себя, на Лозинского, что посмел ей писать. А потом ушла в спальню, снова упала на постель, пряча свои слезы в подушках, пытаясь проглотить горечь, образовавшуюся во рту. Глаша тем временем собрала все письма до единого, сложила их в стопку и, перевязав лентой, что лежала на бюро, спрятала те в одном из ящичков. Потом ее кликнула из спальни Анна, приказала полить на руки холодной воды, чтобы смыть следы былых слез.
Сызнова, не могла не покачать головой Глаша. Как и тогда – в начале лета, когда настроение барышни так переменчиво было: то плакала, то смеялась, то бранила Глашу, то ласково привечала снова. Но тогда-то, Пантелеевна сказала то, аккурат Анна Михайловна влюбилась в жениха своего, а нынче-то что? Но свои соображения оставила при себе, как впрочем, всегда. Только с Пантелеевной и могла обсудить свои догадки, да та прихворала нынче, а во флигель как пойдешь ныне? Вон барышня едва лицо ополоснула, за огнем велела идти – писать надумала. Уже ж Заревница [344]344
22 сентября по старому стилю
[Закрыть]на дворе – день не куриными шагами уходит, а скоком лошадиным, принося темноту вечернюю на хвосте. Ох, сплошные хлопоты!
– Отнесешь это к покоям Лозинского, – приказала после Анна, заворачивая аккуратно записку, которую сочиняла остаток дня и почти весь вечер, даже на ужин не спустилась в малую столовую. Не дать невольно надежды какой, а только поставить на место, прекратить его любые шаги в его сторону, не допустить ухаживаний подобных – было целью той записки, окончательный вариант которой и был отдан Глаше в руки. – И чтоб более цветов в моих комнатах не было! Те, что принесут, выкидывай прочь, поняла, Глаша? Только я могу сюда цветы носить и никто иной!
Но в покоях поляка было пусто – ни его самого, ни денщика его не было видно, и Глаша пошла в «черную» кухню [345]345
Т. е. людскую кухню, ту, в которой готовили пищу дворовым, и где те ели
[Закрыть]. Так и есть: Лодзь был там и хлебал шумно ароматные щи, от которых шел такой аппетитный аромат, что у Глаше даже в животе забурчало от голода. Он сидел вольготно за одной стороной стола, остальные же едоки из дворовых теснились на другой половине, не желая сидеть подле «ворога» и «злыдня». Оттого и уставились на Глашу тут же, когда она подошла к Лодзю и положила ладонь на его плечо, вынуждая повернуться к ней.
– Чего хочешь, урода [346]346
Uroda – красота (польск.)
[Закрыть]моя? – буркнул он ей, и Глаша обиженно поджала губы, с трудом сдерживаясь, чтобы не ударить рукой или ответить ему в тон. Громко расхохотались при том дворовые, аж до слез, которые вытирали рукавом одежд. Особенно старался один из конюхов, Федор, которому Глаша отказала в сватовстве, полагая, что совсем не пара конюх горничной барышне. И Мелаша, повариха «черная», с которой Глаша дружила, смеялась в голос. Только старуха графини даже не улыбнулась, смотрела на Глашу как-то странно.
Сам ты урод, проговорила мысленно поляку Глаша, а вслух только шепнула ему тихо:
– Пойдем-ка в сторонку, лях, – поманила за собой к дверям, где тайком сунула ему в руку записку. – От барышни твоему капитану.
– От панны до капитана? – переспросил Лодзь, и Глаша не могла не оглянуться назад, на ужинающих за столом, чтобы посмотреть не услышал ли кто его. Но все были заняты едой, лишь Настасья снова взглянула на них и быстро отвела взгляд в сторону. Глаше очень хотелось остаться и поесть с остальными, но знала, как важно барышне узнать, передала ли она послание или нет, потому девушка только вздохнула и поспешила вернуться в покои Анны. Те были пусты, Анну Глаша нашла в образной, где та, молилась, стоя перед домашним образом Богородицы.
Анна не спросила ни слова, только взглянула на горничную, что бухнулась на колени позади нее, размашисто крестясь, и, получив короткий кивок, вернулась к молитве. Вскоре Глаша ушла, подчиняясь молчаливому знаку Михаила Львовича, который зашел в образную после ужина. Приближался день, в который подарил ему Господь его первенца, его Петрушу, и он не мог не зайти нынче перед тем, как уйти к себе на ночной покой, не попросить Спасителя о сыне.
Отец и дочь долго стояли на коленях, каждый прося о чем-то своем и в то же время пересекаясь в чем-то в своих просьбах. Только едва слышно шептал что-то Михаил Львович, да тихо шелестела шаль, когда крестилась Анна. Мигали тонкие огоньки в лампадках перед образами, освещая скудным светом тонкие черты, глядящие с легкой печалью и пониманием в глазах на молящихся.
Потом, прочитав уже вместе и в один голос «Отче наш», медленно поднялись с колен.
– Ох-хо-хо, – вздохнул Михаил Львович насмешливо, но в то же время с грустью в возгласе. – Это я должен руку тебе подавать, а не ты мне, душа моя… Но что поделать-то? Годы! J'ai déjà passé l'âge de… [347]347
Годы мои вышли… (фр.)
[Закрыть]
– Не говорите так, папенька! – возразила ему Анна, беря его под руку, ласково сжимая его локоть через ткань сюртука. – Вы не юнец, но и не старец.
– Милочка моя! – Михаил Львович поцеловал ее быстро в лоб, пригладил чуть растрепавшиеся локоны. – Ты душенька у меня, право слово. Позволь, провожу тебя до покоев твоих, одеяло тебе подоткну, как ранее, когда ты была совсем младенчиком у меня. Ох, годы-годы!
Они шли медленно по дому, в сопровождении лакея, что ожидал их подле дверей образной и ныне освещал путь, и вспоминали оба отчего-то прошлый год, когда готовились к Покрову. Анна тогда вышила золотом облачение на престол, украсила тот мелким жемчугом. Весь год работала, преодолевая собственное нетерпение, усердно творила дар для местного храма к празднику святому. Михаил Львович тогда так был горд своей дочерью перед соседями, что собрались тогда со всех окрестных земель, что отец Иоанн не мог не пожурить его в том.
– Проси у Богородицы нареченного справного! – твердила тогда Пантелеевна Анне, которую прибирала Глаша на службу. – Скажи перед образом: «Покров – Пресвятая Богородица, покрой мою головку кокошником из жемчугов»…
– Ох, какой кокошник, родимая! Какие жемчуга! – смеялась тогда Анна, но все же повторила эти слова в церкви, суеверно надеясь на то, что слова нянечки сбудутся, и Богородица пошлет ей жениха, о котором мечтала втайне от всех. Чтобы любил горячо! Чтобы жить не мог без нее! И она… чтобы она полюбила!
А спустя три месяца обернулась в церкви, заметив интерес petite cousine, и сама потерялась в тех глазах, что смотрели тогда так сурово из-под светлой челки. Но они могут смотреть и иначе, она знала это ныне, помнила!
– Как вы перенесли ее кончину? – спросила Анна, когда они ступали по картинной, задержались у одного из портретов, изображающих даму в пышном платье прошлого века и припудренном парике. Лукаво смотрели глаза с портрета, изгибались в таинственной улыбке пухлые губы, пальчики теребили длинный локон, спускающийся на грудь, стянутую узким корсажем шелкового платья. Красавица, что предпочла положение жены провинциального военного, статусу супруги титулованного и состоятельного человека, дочь, не убоявшаяся пойти наперекор суровому отцу ради любви, вскружившей ей голову. Мать Анны, которую она знала только по портретам и рассказам отца, тетушки и слуг.
Михаил Львович долго смотрел на любимые черты, а потом улыбнулся Анне грустно:
– Едва пережил, душа моя. Коли б не было детей, то и греха не убоялся бы. Она была всем для меня: моей душой, моим светом, моим дыханием. Господь подарил на время мне прелесть рая, а после так жестоко отобрал… Не роптать, сказал мне тогда отец Иоанн, принять Его волю. Столько прошло, а я так и не сумел этого сделать… Отчего ты спросила вдруг?
Но Анна только плечами пожала. А потом долго стояли молча перед портретом, вглядываясь в черты, любуясь красотой женщины, изображенной на нем.
– Ты вся в мать, душа моя, – ласково погладил пальчики дочери Михаил Львович, уводя Анну далее по холодной анфиладе комнат, к домашним половинам. – Но норов все же мой. Хотя упрямство от нее, голубы моей… это не моя черта…
– Что это, папенька? Слышите? – вдруг остановилась Анна. Испуганно оглянулся лакей на хозяев, тоже ясно расслышавший шум на подъездной аллее, крики, громкое ржание лошадей. Михаил Львович тут же поспешил в вестибюль, буквально таща за собой вцепившуюся в его руку Анну. Она наотрез отказалась уходить к себе одна, но и отпускать отца без сопровождения вниз, в вестибюль не желала.
В переднем уже открывал двери перепуганный швейцар. Михаил Львович сделал знак Анне оставаться наверху у начала лестницы, а сам торопливо спустился к буквально ввалившимся в дом людям в крестьянских армяках и овчинных тулупах, с бородатыми грязными лицами. Некоторые тащили под руки тех, кто даже ногами шевелить не мог самостоятельно.
– Михаил Львович, милый! – обратился к нему один крестьян, с образком Николая Угодника поверх армяка, прямо под короткой бородой. Анна удивилась, услышав правильную четкую речь его. – Помогите в который раз, Христа ради! Нарвались на разъезд неприятеля, под пулями едва ушли, разделившись. Часть ушла к Можайску, часть к Займищу. А нас вон ныне гонят уж с заката самого. Гонят, как зверя на охоте. Схороните да помогите раненым людям моим. Задели вон Архипа да Николая Петровича.
Михаил Львович кивнул рассеянно, а потом взглянул на Анну, притаившуюся на лестнице. Человек в крестьянском армяке перевел взгляд, следуя за его взором, вверх на девушку, и тут же поклонился, с таким достоинством, будто на балу повстречались или на другом достойном собрании.
– Анна Михайловна, pardonnez-moi, не имел чести и удовольствия быть представленным вам, – а потом заторопил по знаку хозяина своих людей пройти через вестибюль в парк, откуда можно было скоро уйти в лес. Преследователям пришлось бы объезжать имение вокруг, давая беглецам преимущество во времени. Но это в случае, если не обнаружат их следов в парке, а иначе…
Раненых же понесли в мезонин, чтобы укрыть в нежилых помещениях, между сундуками и коробками. В одном из них, которых совсем повис на руках товарищей, Анна узнала сына Ивана Фомича, Архипа, по тому, как прижался на миг к его груди дворецкий, как побледнел лицом, что даже в скудном свете пары свечей было заметно. Его единственного поспешили унести из дома и спрятать в парке на время. Ему уже было все равно – пуля оборвала его жизнь, пробив легкое.
За единый миг опустел вестибюль. Только-только был полон людей, суетящихся, переговаривающихся резким шепотом, и вот нет никого, кроме бледного Ивана Фомича, прислонившегося к стене, Михаила Львовича, задумчиво вслушивающегося в перестук копыт за окном, пары лакеев и швейцара, мнущего в руках фуражку, Анны, по-прежнему стоящей на лестнице, вцепившейся в холодные перила. Она тоже слышала шум приближающегося к дому отряда, только и успела вскрикнуть: «Папенька!», как в двери снова заколотили кулаками, застучали в окна, заглянув в вестибюль и заметив находящихся в нем людей.
Швейцар натянул фуражку и по знаку хозяина открыл дверь. Шагнувший в вестибюль офицер, не стал снимать с головы каску, проигнорировав правила приличия, быстро огляделся, а потом обратился к Михаилу Львовичу:
– Добрый вечер, месье. Лейтенант 5-го уланского полка Его Императорского Величества Лажье Анри-Мария. Смею обратиться к вам, как к честному и благородному господину, с вопросом и надеюсь получить на него достоверный ответ. И прошу вас, месье, обойдемся без лишних слов в этот поздний час. И мы разойдемся с вами ныне в довольстве друг от др
, – а потом тут же сменил тон голоса, перейдя в тот же миг, от вежливой и вкрадчивой манеры к резкой и холодной. – Где люди, что заехали совсем недавно в ваши земли? Не имеет смысла лгать мне. Я превосходный стрелок, месье, и издали различаю даже в темноте.
– Добрый вечер и вам, лейтенант, – ответил Михаил Львович, кладя руку на рукав перепуганного лакея и тут же убрав ее после легкого пожатия. Тот тут же успокоился немного – погасил страх, вспыхнувший в душе при резкой непонятной ему речи француза. – Я прощаю вас за вторжение в мой дом, хотя вы и не просили его. В свою очередь, смею вас уверить, что единственными людьми, которых я видел ныне вечером, были мои слуги и мои домашние. Понятия не имею, о каких иных людях вы ведете речь, лейтенант.
– Значит, не имеете? – переспросил француз, а потом снова оглядел бледные лица слуг и хладнокровное лицо Шепелева. – А следы, что ведут сюда? Откуда они? И отчего так перепуганы слуги? И почему вы тут в сей поздний час? Только не говорите, что вышли сюда, услыхав наше приближение.
Француз вдруг шагнул в сторону темной анфилады комнат в правом крыле, склонил голову и щелкнул каблуками.
– Лейтенант 5-го уланского полка Его Императорского Величества Лажье Анри-Мария. Преследую людей, подозреваемых в нападении на фуражирский обоз, следующий к Москве, для снабжения армии императора.
– Влодзимир Лозинский, капитан 12-го полка польских улан Его Императорского Величества! – ответил ему из тени комнаты голос поляка, которого до сих пор никто – ни она сама, ни отец, ни слуги не заметили в соседней темной комнате.
Глава 20
Анна ахнула, не сдержавшись. О Господи, сколько там Лозинский стоит, притаившись в темноте? И видел ли тот беглецов? Француз резко обернулся на ее тихий вскрик, положив тут же руку на рукоять сабли, а потом улыбнулся, заметив Анну, склонил голову уже галантно, сняв с головы каску, обнажая темно-русую голову.
– Знать, вы шевележер, – поспешил выйти в вестибюль Влодзимир, вынуждая француза снова взглянуть на него. Он был только в рубахе, небрежно наброшен на плечи уланский мундир, в здоровой руке зажата книга в зеленом бархатном переплете. В библиотеке был, поняла Анна, прислоняясь бедром к балюстраде лестницы, чувствуя слабость в коленях. Теперь только от Лозинского зависели их судьбы, она поняла, что и отец осознал это, тщетно пытаясь разгадать по лицу поляка, что за мысли у того ныне в голове.
– Имею честь состоять в сих доблестных восках Его Императорского Величества, – снова склонил голову француз. – Вы, смею полагать, бывали при битве Бородино? Ваш полк отличился, отбив атаки русской конницы, как слышал.
– Да-да, – поспешил прервать его Влодзимир, чтобы тот ненароком не сболтнул, что именно его полк бился против кирасиров русской армии в тот день. – А вы, значит, на защите нашего тыла ныне?
– Вы прекрасно ведаете, господин капитан, что ныне самая горячая пора не там, близ Москвы, а здесь, в этих проклятых Богом лесах и болотах. Эти нелюди совсем не желают понимать политику императора, никак не последуют правилу Божьему – смирению перед силой! – горячился француз. – Клянусь своей саблей! Я бывал и в Испании, и в Пруссии, но только русские крестьяне предпочтут быть убитыми, чем получить все выгоды от торговли с императорскими фуражирскими войсками. Они не соблюдают правила военной науки, благородство боя! Нападают из леса, тайком или заманивают в деревни, а далее… Впрочем, это не для дамских ушей сии истории. Мой отряд напал на след, мы едва не поймали смутьянов. Человек, что выдал их расположение, клялся, что в их числе есть тот самый Давыдофф. За его голову назначена награда, слыхали, господин капитан?
– Увы, увы, господин лейтенант! – покачал головой Лозинский. – Награды вам, видно, не получить ныне. Те люди, о которых вы ведете речь, даже если и побывали на землях этого хозяина, но в усадьбе не появлялись. Да и было бы сущей глупостью для господина Шепелева укрывать их, зная, что в доме капитан французской армии. Вы же не думаете, что он настолько глуп, чтобы идти мне наперекор?
– Позвольте! – возмутился Михаил Львович, но поляк только остановил его тяжелым взглядом. И Анна с удивлением увидела, как подчинился этому взгляду вдруг отец, смолк, отступил в сторону, позволяя Лозинскому и далее вести разговор с французом. Лейтенант же усмехнулся, а потом надел каску на голову, намереваясь выйти из дома прочь и ехать далее прочесывать ближайшие леса и осмотреть дома в селе. Но помедлил, поддавшись сомнениям, снова вспоминая, как видел темные силуэты всадников, скрывшиеся за поворотом в эту сторону.
– Уверен ли господин капитан в том, что поблизости дома никого не было? – не мог не спросить он поляка, и тот вдруг вскинулся, процедил сквозь зубы.
– Господин лейтенант полагает, что я лгу? Или что я слеп и глух? У меня задеты рука и грудь, но глаза и уши в полном порядке. Контужен я не был, так что обманываться не могу.
– Прошу простить меня, господин капитан, – пошел тут же на попятную француз, кивнул солдатам, что гуськом прошли к дверям и направились к лошадям, стоявшим у подъезда, готовые по сигналу тронуться в путь. – Господин капитан, сударь, сударыня, – кивнул на прощание каждому француз.
Лозинский ответным кивком принял его вежливый жест и направился к лестнице. Холодно попрощался с лейтенантом Михаил Львович, поклонились низко слуги и Иван Фомич, кусая губы. Анна же предпочла проигнорировать кивок француза – стояла, гордо распрямив спину, стараясь не показать своего облегчения его отъезду.
– О, момент! – вдруг замер на месте француз, а потом резко склонился к полу, вглядываясь в рисунок мрамора. – Это же кровь!
– Езжайте с Богом, мой друг, – резко ответил ему Лозинский от лестницы, разворачиваясь к нему. – Ищите ваших смутьянов и уже тем паче вашего Давыдова в ином месте. Эта кровь моя…
Он переложил аккуратно книгу из здоровой левой руки в правую и продемонстрировал французу глубокий порез на ладони, из которого действительно текла кровь тонкой, едва заметной струйкой.
– Чертовы страницы! [348]348
Раньше многие страницы в новой книге были неразрезанными, и существовал специальный нож для этих целей
[Закрыть]С ними совсем не управиться, когда ранена действующая рука!
– Простите мне мои подозрения, господин капитан. Я…, – но француз решил все же ничего не объяснять и, снова кивнув на прощание каждому из господ, кто наблюдал за ним ныне, развернулся и вышел вон. Только когда стук копыт по гравию затих, Лозинский бросил книгу с глухим стуком на пол вестибюля и резко сказал Михаилу Львовичу:
– Вам повезло, что аллея усыпана гравием! Следов на аллее подъездной нет – знать, и нет беглецов близ дома! Но, Господи, неужто вы не могли подумать прежде о тех, кто живет под этим кровом прежде, чем бросать их на растерзание шевележерам?
А потом, не слушая Михаила Львовича, который что-то начал говорить ему в спину, поднялся по ступеням и встал возле Анны. Она смотрела в его лицо, все еще не веря, что все закончилось, что угроза над их домом миновала, и все благодаря ему, тому, от кого она вовсе и не ждала помощи.
– Не окажете ли любезность осмотреть мою руку, панна? – проговорил Влодзимир, протягивая в ее сторону порезанную ладонь. – Глубоко прорезал, думаю, кровь так и течет.
Анна посмотрела на кровь на его ладони, потом снова в его глаза заглянула и вдруг качнулась, чувствуя, как ноги отказываются держать тело. Влодзимир успел подставить свое плечо, в которое она уткнулась как тогда, в аллее, сдерживая слезы. Страх, свернувшийся в груди спиралью, когда она заметила еще прежде француза маленькие капли крови на полу, стал раскручиваться с невероятной скоростью, повел голову кругом.
– Вы нарочно порезали руку? Видели ведь? – прошептала она.
– И ныне жалею о том, панна. Ведь похоже, что мне суждено истечь кровью, пока вы мне поможете с моей раной, – пошутил Лозинский, и Анна улыбнулась. Под ее лбом была горячая кожа, тонкая ткань рубахи совсем не скрывала жар, идущий от его тела, и ее вдруг стал бить озноб от этого тепла, тепла его тела так близко ныне…
– Ступайте, сударь, к себе в покои, – вмешался Михаил Львович, разрываясь в этот миг между гневом на вольность улана по отношению к его дочери и благодарностью за спасение. – Иван Фомич позаботится о вас… Иван Фомич?
Но дворецкого не было в вестибюле. Впервые он не стал дожидаться приказов барина, стоя, как всегда, в пределах видимости и слышимости. Ушел в парк, чтобы найти спрятанное в куче опавшей листвы тело сына, сгинувшего в этой проклятой войне. Архип был его единственным сыном, только дочери в остатке ныне. И тем ответственнее за судьбу внука, Дениса, что был казачком в усадьбе.
– Не беспокойтесь о руке капитана, Михаил Львович, – решилась наконец подать голос Марья Афанасьевна. Она слышала крики и шум, и оттого и пришла из своих покоев сюда, да заробела при виде французов, не стала выходить на свет, только выглядывала из дверей на втором этаже, что вели в жилые половины. И мадам Элизу не пустила даже к Анне подойти, пока те не ушли. Только сейчас вышли они к лестнице, еще пока без румянца на лице, со страхом в душе.
– Мадам Элиза позаботится о нашем спасителе, – долго смотрела в глаза обернувшейся к ней тут же Анне, а потом развернулась и зашагала к себе, тяжело опираясь на трость.
Мадам Элиза глазами показала своей воспитаннице, что следует удалиться ныне, и Анна поспешила отступить от капитана, на прощание прошептав тихо: «Je vous remercie» [349]349
Благодарю вас (фр.)
[Закрыть], убежать мелкими шажками прочь. Но не к себе – вдруг неожиданно для самой себя повернула к комнатам графини, тихо стукнула костяшками пальцев в двери.
Марья Афанасьевна уже ложилась снова в постель, кряхтя от боли в колене, крестясь опять на образа в углу спальни, когда Настасья провела к ней Анну.
– A quoi dois-je l'avantage de votre visite? [350]350
Чему я обязана вашим визитом? (фр.)
[Закрыть]– слегка раздраженно произнесла графиня, уже жалея, что позволила той войти к себе. Знать явное расположение поляка к Анне было досадно, но еще досаднее было видеть, что она отвечает ему – то письмо, которое девка Анны передала человеку поляка, и та близость непозволительная между ними на лестнице. Марья Афанасьевна и ненавидела Анну за то, что явно выставляет Андрея в дураках, и жалела ее отчего-то, понимая, какую ошибку та ныне совершает.
– Я давно не навещала вас, Марья Афанасьевна, – произнесла в ответ Анна, удивленная слегка подобной встречей.
– Знать, было чем занять себя, что времени не находилось для того, – проговорила Марья Афанасьевна, поджимая недовольно губы, когда Анна чуть покраснела, выдавая себя с головой. А потом поманила к себе рукой, и девушка шагнула к постели, опустилась в кресло, стоявшее подле кровати. – Коли не спешишь лечь на покой ночной, сделай милость, почитай старухе письмо последнее от Андрея Павловича. Там тайн нет для глаз сторонних, только любезности да вести. Я его часто на ночь читаю, в голове держу, будто новое пришло от него. Настасья! Подай барышне письмецо-то! Вот только его прочтешь, и разойдемся с тобой на покой ночной. Час уж за полночь, позднее время-то. А с утра-то в церковь!
Анна читала письмо Андрея и чувствовала легкую дрожь, что била ее тело при том, колотилось учащенно сердце в груди. Такой знакомый почерк, уверенная твердая рука. И знакомый слог. И обеим стало казаться, что сам Андрей ступил в комнату, встал, прислонясь к стене, обитой штофом, и тихо говорит с ними о том, как отступили они к Дорогобужу, и как тревожатся войска подобным отступлением. Какими холодными для лета стали ночи, и как он благодарен тетушке за то, что она настояла, чтобы взял лишние одеяла из чистой шерсти с собой. Описывал в письме свое желание пройтись по Святогорскому – по усадебному парку и далее в лес, вдохнуть дивный аромат хвои и трав.
– Нет более Святогорского, – вздохнула Марья Афанасьевна, и Анна прервала чтение, расслышав слезы в ее голосе. – «Мой дивный уголок…». Как же красиво он написал…. Все! Довольно! Уж дважды пробило, слышала? Пожелайте старухе покойной ночи и расстанемся до утра, милая моя.
Но Анна еще долго не могла уснуть в ту ночь. Мысли путались в голове, мешали погрузиться в сон. Она вспоминала, как взглянул на нее Лозинский тогда, на лестнице, его поступок, удививший ее. Он был врагом, он сражался за французского императора против тех, кто яростно боролся за свободу ее страны от узурпатора Европы. Но он пошел наперекор своему долгу, лишь бы спасти всех, кто находился под этой крышей.
Долго лежала в темноте, глядя в балдахин кровати. Впервые за последнее время Анне было одиноко в этой широкой постели, хотелось прижаться к крепкому телу, коснуться губами плеча, как делала это в своих снах. Как она могла обмануться? Никто не может заменить Андрея, даже в письмах – ныне она это так ясно понимала. Оттого и было так горько, снова сдавило в груди при воспоминании, как на ладонь скользнуло серебро кольца, как блеснули камни, разбивая ее надежды на осколки. И снова плакала до рассвета, уткнувшись лицом в подушки, чтобы заглушить тот вой, что рвался изнутри, из израненной души…








