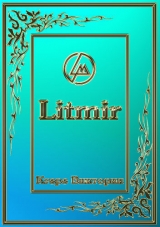
Текст книги "Мой ангел злой, моя любовь…(СИ)"
Автор книги: Марина Струк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 68 страниц)
К тому же помимо болезни Марьи Афанасьевны, от которой та с трудом оправлялась ныне, хворь уложила в постель и мадам Элизу, лишая Анну помощницы в хозяйских делах. С трудом справлялись ныне с Иваном Фомичом на заготовках, даже казачков усадили резать капусту и перебирать садовые плоды и поздние ягоды. Нет, определенно думать в ту пору о том, кто иногда приезжает ночами в Милорадово, и отчего внезапно вспыхнул сарай с заготовленным сеном на дальнем лугу, а после сгорел и амбар с частью обмолотого зерна, не было ни желания, ни сил. Так и заявила она одному из членов муниципального совета, из купцов Гжатска, что прибыл следующим же утром после пожара в Милорадово вместе с отрядом французских фуражиров. Ее в тот день позвали из кухни, когда она наблюдала за засолкой капусты. Позвали спешно – даже не успела поправить платье да заправить в узел на затылке, выбившиеся локоны.
– Знать, не ведаете ровным счетом ничего о том происшествии, барышня? И не видали никого из незнакомцев окрест? – хитро щуря глаза, говорил купец, поглаживая широкую бороду. Он-то приучен годами торговли читать ложь или недоговорку какую в словах своих собеседников и ныне ясно видел, что и отец, и дочь лгут ему. – И отчего только амбар заполыхал огнем, как только тот был отдан в распоряжение муниципалитета? Отчего именно в сей момент?
– Ведать того не могу, – пожал плечами Михаил Львович. – Я согласно приказу муниципалитета подготовил то зерно и корм для лошадей в ваше пользование. Все по требованию совета, подчинился приказу тотчас как получил его давеча. Кто уж не доглядел за амбаром да сараем тем, не моего ума дело… У меня нынче столько людей в леса в страхе перед французами убежали, что только с Божьей помощью смогу с урожаем завершить в этом году. О себе должен думать ныне, уже простите меня за то. О себе! Чем свой скот кормить буду зимой этой? Я ведь не имел намерения и других персон взваливать на плечи свои. Вы ведь торговый человек – знаете, что везде аккуратный счет нужен. Planification [325]325
Планирование! (фр.)
[Закрыть]!
При этом слове поднял вверх указательный палец Михаил Львович, и у купца отчего-то сложилось впечатление, что вид глуповатого на вид помещика лишь обманка и только. Он поерзал в кресле, взглянул в окно на французов, что стояли возле лошадей, спешившись у подъезда дома, а потом снова взглянул на помещика и его дочь.
– Нешто мы нехристи какие? Договор ведь с французами есть платить за взятое у населения, – тихо проговорил купец. – Отчего не пожалели добро-то свое? Деньгу бы получили хорошую.
– Я пожалел, – коротко ответил Михаил Львович. – Я пожалел. А вот за иного отвечать не могу, права на то не имею. Говорят, ездят по лесам люди какие-то да спуску французу в этих местах не дают. Вот с них и спрос ныне, а я честно отдал и зерно, и сено муниципалитету. Даже имя мое стоит в бумагах. Мне скрывать нечего. Даже вон дочь позволил спросить о том, хотя мог бы и запретить вам сей допрос.
– Помилуйте, – поднял ладони вверх купец, снова хитро щуря глаза. Он знал не понаслышке, что Шепелев был предводителем уездного дворянства до прихода французов, и что многие окрест могут последовать его примеру. Оттого и понимал, насколько важно именно с него получить хотя пуд. Чтобы и остальные знали о том. Хотя бы шерсти клок с паршивой овцы, чтобы другие в отаре были покойны, когда будет стрижка.
– Помилуйте, какой допрос! Верю вам, ведая вашу честную и благородную натуру по словам знакомцев ваших. Выдайте мешок зерна и полтелеги сена сверх того, что требовалось от вас, господин Шепелев, и разойдемся по мировой. До конца месяца не увидите фуражиров, слово купеческое в том!
Мешок зерна и полтелеги сена было малой ценой за некую видимость свободы от неприятеля, решил Михаил Львович, даже не догадываясь о тех козырях, что держит в руках купец ныне. Он повернулся к Ивану Фомичу, стоявшему в дверях соседней комнаты анфилады и напряженно вслушивающемуся в разговор между хозяином и купцом. Тот кивнул еле заметно, заметив вопрошающий взгляд хозяина. Оба знали, что им не нужны были французы поблизости, что и так ходят ныне по лезвию.
– А к слову-то! – уже уходя, вдруг сказал купец, когда французам передали обещанное. – Чуть не запамятовал! Тут у нас в совете приказ получен от коменданта. О раненых французских. Негоже ж офицерам в лазарете исцеление получать. Не желают-с подле французского холопья! Да и переполнены лазареты после дней последних, верно, сами ведаете. Велено разместить по квартирам, а тех в Гжатске и так недовольно числом для того, сами понимаете, пожары были. Определим мы к вам на излечение и постой офицера, сие не наше решение, а токмо свыше – по уезду их разместить, по усадьбам.
– Помилуйте, любезный! – возразил ему запальчиво Михаил Львович. – У меня в доме девицы! Пристало ли стороннему мужчине на постой сюда?
– Вот оттого и пришлю сюда токмо одного офицера. Для покойствия вашего да в селении вашем. Сами не ведаете, какая удача вам, что далеко от тракта лежат ваши земли, – купец устало прикрыл глаза ладонью, словно ему вдруг резанул яркий свет глаза. А может, просто пытался скрыть, как ему тяжело ныне – быть между местными и французом-комендантом, пытаться угодить последнему, но, прежде всего, первым, нивелировать те последствия, что могут нести решения французов для них. – А еще игру затеяли с французом…. И вы, в сединах, да малой войной?
– Будет ли он молчать? – встревожилась Анна, наблюдая через полупрозрачную занавесь, как купец выходит на крыльцо дома, как занимает место в седле и подает знак отряду выезжать. Зашуршал гравий под копытами лошадей и колесами груженных телег. – Он же догадался…
– Как и ты, душа моя, – заметил Михаил Львович хмуро. – Что проведала ненароком, о том забудь, слышишь? Да и как только разгадала, душа моя?
– Масло. Я знаю, каждую бочку из запасов. А тут пропало аккурат перед ночью. Люди из лесов не проникнут в усадьбу незамеченными, – Анна грустно улыбнулась отцу и коснулась губами его лба. – Умоляю, папенька, будьте предельно осторожны в затее вашей. Я надеюсь на ваше благоразумие. Тем паче, ныне, когда в доме будет сторонний человек. Неприятель.
– Соглядатай! Шпион французский! – резко бросил раздраженный Михаил Львович, а потом провел ладонью по растрепанным волосам дочери, ласково улыбнулся, тронутый ее неподдельной заботой и тревогой. – Я обещаю – буду осторожен, душа моя. Моя роль – малая, что бы ты ни думала о том. Стар я по лесам сидеть да французов гонять в шею.
Под вечер приехала коляска, привезшая в Милорадово раненого французского офицера. Вместе с ним, на неудовольствие Ивана Фомича, которому предстояло заняться размещением и довольствием новоприбывших солдат, приехали несколько верховых. Об этом Анне, переодевающейся к ужину, сообщила Глаша, застегивая барышне платье.
– Хрунцуз-то тот ладный какой, барышня! Те, что были того у нас, то ростом низкие, то с ногами кривыми аль зубами, аль щербатые. А этот же справен! Даром что офицер! – приговаривала она.
– Ты что это, Глаша? – резко одернула ее Анна. – Неужто как актерки голову потеряла? Гляди, Ивану Фомичу пожалуюсь, тот мигом вернет ту на плечи!
– Что вы, барышня?! Да разве ж я…? – обиделась Глаша. Крепостные актрисы всегда были на особом положении в усадьбе – и грамоте их учили и языкам нерусским, и работы у них толком-то не было, кроме как за платьями театральными следить. Да еще лицом выбирали в театр самых пригожих, статных фигурами. Оттого и не любили среди дворовых их. А когда несколько актрис сбежало в Гжатск, пользуясь временным отсутствием хозяина в имении, и вовсе житья остальным не стало. Как проведали, что те в городе с французами спутались, так и вовсе люто возненавидели холопок театральных. Не смогли те выдержать, что отныне помогать посильно тех принудили по дому. Вот уж барышнями себя возомнили, фыркнула Глаша. По дому работать – это не на скотном дворе и не на птичнике! Белоручки!
Собирались в малой гостиной, чтобы идти к ужину, с каким-то тревожным молчанием. Даже Полин, обычно развлекающая Михаила Львовича разговорами, понимая, как тяжело это будет делать Анне, уставшей от бесед с холопами и Иваном Фомичом за день, была на удивление малословна. У всех читался в глазах единственный вопрос – чего им ждать от того, кого разместили в одной из гостевых спален, что принесет в Милорадово этот неожиданный «гость». Потому и затихли, когда в отдалении послышались шаги, замерли, едва дыша, косясь на дверь.
Мгновение, и створки дверей распахиваются настежь под руками Ивана Фомича, частенько выполняющего обязанности лакеев ныне, что ушли в лес в отряды. Он тут же отступил в сторону, открывая взглядам собравшихся в гостиной того, кто будет отныне разделять с ними трапезы, о чем просил хозяина еще по прибытии.
Первое, что заметила Анна со своего места – темно-зеленую ткань фрака глубокого бутылочного цвета, что был на офицере. Издали этот оттенок показался ей черным, особенно на фоне белоснежной перевязи, на которой уютно устроилась ныне правая рука офицера, и она поднялась с кресла, с трудом сдерживая дрожь в руках и ногах, когда ей тут же вспомнилось видение в зеркале этой зимой.
– Что с тобой, душа моя? – тихо обратился к ней Михаил Львович, намеренно игнорируя вошедшего, что шагнул в гостиную и поклонился собравшимся в ней хозяину и дамам. Анна даже голову в его сторону не повернула, все глядела расширившимися глазами на офицера.
– Je suis en retard, pardonnez-moi [326]326
Я задержался, прошу простить меня (фр.)
[Закрыть], – проговорил тот, улыбаясь извинительной улыбкой, стараясь сделать ее при том привычно очаровательной, чтобы появились маленькие мочки на щеках, которые, как он знал, так нравились в его улыбке женщинам. Он уже заметил, как невольно потеплели от этой улыбки глаза и женщины, которую он видел только издалека в тот день, и кудрявой рыженькой девицы, что была ему незнакома на лицо. – И прошу простить мне не совсем подобающий для скромного ужина вид…
Он прошел в середину комнаты и отдельными кивками поприветствовал каждую из дам и хозяина, которому поспешил представиться:
– Пан Влодзимир Лозинский из фольварка Бельцы, что под Гродно, капитан 2-го эскадрона 12-го полка польских улан Его Императорского Величества, vive le empereur! Благодарю вас, сударь, за оказанное мне гостеприимство.
Михаил Львович тоже не сумел сдержать презрительного холода, как когда-то его дочь, позволил тому мимолетно скользнуть в его серых глазах, прежде чем спрятать тот за маской холодной вежливости.
– Шепелев Михаил Львович, – не мог не ответить он. А потом прибавил. – Не могу сказать, что очень рад оказывать сие гостеприимство вам.
Владимир только усмехнулся мимолетно при этих словах. Теперь ему стало ясно, в кого уродилась с таким горячим норовом эта русоволосая панна, что так побледнела, едва он ступил в комнату. Значит, она помнила его, как он хранил в памяти все это время ее дивный образ! Значит, не забыла ту встречу на реке, когда сама судьба свела их. Именно судьба! Недаром же он попал в Гжатск, а не в Можайск после ранений при сражении у Бородино, недаром уговорил коменданта дать ему квартиру на время выздоровления именно в Милорадово, название которого так врезалось в память.
Тем временем Владимиру коротко представили женщин: мадам Марию – миленькую на лицо женщину в темно-синем шелковом платье, Полин – девицу с рыжими кудряшками, скорее всего, какую-то бедную родственницу или воспитанницу, судя по простоте наряда, мадам Элизу – мать рыжеволосой, сходство было очевидно. И Анну. Дивную прелестницу, речную нимфу, что являлась к нему в грезах ночной порой. Ему казалось, он может утонуть в ее серо-голубых глазах, настолько те были схожи с бездонными омутами… Такими равнодушными ныне, что он не мог не заметить:
– Nous nous sommes déjà vus, mademoiselle [327]327
Мы уже встречались, сударыня (фр.)
[Закрыть]. Не припоминаете, на реке в один дивный летний день, – а сердце замерло, когда хозяин дома, представляя дочь, заявил о ее незамужнем статусе. Быть может, кольцо и означало помолвку, но помолвка – это еще не венчание!
– Господин капитан помог нам как-то в пути, – проговорила Анна, видя удивленный взгляд отца. – Дормез застрял в речном иле при переправе. Я говорила вам о том, папенька, как-то.
– А где же пани графиня? Где же ваша тетушка? Надеюсь, она в добром здравии? – осведомился Владимир.
– La tantine de mon fiancé [328]328
Тетушка моего жениха (фр.)
[Закрыть], – заметила Анна, спеша расставить тут же акценты, осведомляя о своем положении невесты. Выставляя преграды, отметил Владимир про себя, с трудом сдерживая довольную улыбку. – Она захворала пару седмиц назад по возвращении. Ее имение, что по соседству с нами, за время отсутствия было разграблено и сожжено. Неудивительно, vu que [329]329
Принимая во внимание (фр.)
[Закрыть]кого в нынешнее время должна выносить русская земля.
– Прошу в столовую! – громко возвестил Иван Фомич по знаку барина, явно обеспокоенного тем разговором, что велся ныне в гостиной. Владимир поклонился Анне и предложил ей руку, чтобы провести к столу, но Михаил Львович сам взял ладонь своей дочери и положил к себе на сгиб локтя, показывая поляку взглядом, чтобы и смотреть не думал даже в сторону его дочери. За ними медленно потянулись из гостиной женщины, аккуратно проскальзывая мимо Владимира, не поднимая на него глаз, вызвав у него легкую усмешку.
Он был враг здесь. Его ненавидели. Это было ясно как день еще по его прибытии сюда. Но видит Бог, разве не интереснее игра при таких условиях? Покорить не только Россию, о чем мечтал с самого отрочества, ведь ненависть к этой стране-хищнице в нем пестовали едва ли не малолетства. Но и само олицетворение этой земли – русоволосую гордячку с сине-серыми глазами, так яростно сверкающими при свете свечей в ответ на каждый его взгляд. И так будет! Или он не Влодзимир Лозинский!
Глава 18
Он определенно нервировал ее, нельзя было не признать этого. Этот поляк преследовал ее везде, куда бы Анна ни пошла. Была ли она на хозяйском дворе, он шел к псарням. Садилась ли с работой в доме – щипала ли корпию или резала полотно для госпиталя, он был тут как тут: присаживался в свободное кресло или стул, предлагал женщинам беседу на разные темы.
Обычно пан Лозинский говорил о своей родной земле и фольварке, что оставил в Литве. Об ивах над прудами, что были в его землях, о старом замке, от которого осталось в целостности только основное здание жилое, части стен и брама с выбитым в камне родовым гербом, о просторах полей и топях болот, о длинноногих птицах, что вили гнезда на холопских крышах из дранки. Рассказывал об истории рода Лозинский, об их гербе. Любил истории не только о славных предках своих, но и о мистических происшествиях, которых было немало в таком старом и почти разрушенном ныне замке, как его родной дом.
Эти таинственные рассказы для Анны были более привлекательны, чем повествования о той доблести, которой отличались предки пана улана, и тех ратных подвигах, что те совершили. Мыслей о крови и сражениях ей хватало и без историй о прошлом некогда славного шляхетского рода. И так с трудом засыпала вечерами, проведя долгое время перед образами.
Зато история о привидениях Белой Паненки и Темного шляхтича в старомодном ныне жупане ей нравилась гораздо больше. Анна была готова слушать ее снова и снова, несмотря на печальный конец: Белая Паненка, будучи юной невестой, не дождалась своего суженного с войны времен Потопа, – он умер на нее руках от полученных ран, испуская последний вдох на пороге замка, где она ждала его. Панна зачахла от тоски спустя год после его погребения и была схоронена в подвенечном наряде, как просила. Чтобы за той чертой все же пойти под венец. И, как говорил пан Лозинский, ей это удалось – она появляется на стенах замка часто, но только раз в несколько месяцев ее ведет по привычному пути к замковой часовне Темный шляхтич в жупане и кунтуше с длинными рукавами.
Но эта трагичная история всякий раз напоминала Анне о том, как далеко от нее ныне Андрей, как неизвестна для нее судьба его. Жив ли он? Здрав ли? Оставалось только гадать о том. И она откладывала в сторону работу вскоре и уходила, извинившись, в сад, если не лил промозглый дождь, чтобы снова пройти той самой дорогой, столь памятной для нее. До самой лесной тропинки, уходящей в буйство красок осеннего леса и далее – до заветного луга с покосившимся сараем на нем.
У края леса Анна обычно останавливалась и шла обратно к дому, стараясь не замечать поляка, тенью идущего за ней. Его присутствие почти не ощущалось подле нее – расстояние между ними было довольно приличным, да и попыток сблизиться он совсем не предпринимал. Только наблюдал за ней издалека, словно примеряясь с какой стороны к ней подойти, обогнув преграды, что она так тщательно выставляла меж ними.
Но все же Анна чувствовала его помимо воли. Учащался пульс в присутствии этого поляка на злость Анне, нервы обострялись, будто в ожидании подвоха. И ей это совсем не нравилось…
– Вы так часто стали меня навещать в последнее время в моем заточении, – стала замечать Марья Афанасьевна, не желавшая выходить из отведенных ей покоев, дабы и мельком не встречаться с нежеланными для нее соседями по дому. Даже прогулки совершала отдельно от остальных, чтобы ненароком не встретить улана. Каким бы любезным ни был молодой темноглазый поляк, для нее он был тем человеком, что мог пустить пулю или задеть пикой ее Андрея. И даже его помощь в том досадном происшествии не помогла Марье Афанасьевне принять Лозинского, когда тот просил ее о вежливом визите в ее будуар.
Темноглазая шельма, негодовала графиня, замечая, как тот следует на прогулках за Анной в парк. Уж слишком пытался прийтись по нраву всем живущим в усадьбе! Не любила Марья Афанасьевна таких изворотливых. И ей не нравилось, как краснеет Анна, когда Мария упоминала в разговоре имя раненого улана. Очень уж это не нравилось! Уж слишком схоже было то с ее историей, слишком известны подобные ошибки и их последствия!
– Я рада, что вы находите время для визита ко мне, ma chere, – хлопала она ласково по руке Анну, гадая, стоит ли ей поведать о том, по какому краю та ходит ныне. И о своем так и не сложившемся счастье. – Я даже рада в какой-то мере, что хлопоты заготовок уже закончены, а значит, вы сможете уделять мне поболе минут, чем прежде. Мы же родственницы в будущем, а так мало я ведаю о вас, Анна. Непозволительно то…
– Вы думаете о нем? – вдруг спросила Анна, едва не поставив Марью Афанасьевну своим вопросом и его интимностью в тупик. Ее глаза так блестели странно в скудном свете осеннего дня, и графиня распознала в этом блеске невыплаканные слезы, сжала ладонь девушки в ободряющем жесте.
– Каждый Божий день, моя милая Анна, – тихо ответила девушке, ничего не скрывая. – И молюсь неустанно за него. Не станет его, и мне нет места боле на этом свете. Вы молоды и красивы, еще сумеете устроить свое счастье. А мне мое уже не получить боле в случае…
– Нет-нет, – горячилась Анна, цепляясь в волнении за руки графини. – И я не смогу без него! Я так люблю его! Ах, если бы знали! Так люблю! Не корите меня за открытость мою, но ни с кем другим я не могу говорить о нем, кроме вас. А мне это так надобно! Так надобно!
И Марья Афанасьевна легко угадывала страх за этими словами, сказанными так бурно и запальчиво. Страх, что забудется, сотрется из памяти облик и слова, страх, что ныне начинает нравиться другой мужчина. Глупая девочка, улыбалась графиня, гладя болонок, лежащих подле нее в кресле. Пока не знает границы между влюбленностью и истинной любовью, пока не умеет читать сердца, и уж тем паче, свое собственное. Разрывалась Марья Афанасьевна ныне: стоит ли ей отпустить судьбу на волю, позволить нити вертеться, как та желает, или все же попытаться удержать Анну возле себя, бережно храня и подпитывая своими воспоминаниями чувства Анны?
И она рассказывала той о детстве Андрея и его юности, о его семье, впрочем, аккуратно обходя скользкие темы, которые есть в любом роде, в любой фамилии, даже в царской, ведь человеческая натура так слаба и уязвима. Говорила и любовалась тем светом, которым озарялись глаза Анны при упоминании имени Андрея. И за этот свет графиня была готова даже полюбить эту девушку, ставшую ныне ей такой незнакомой, совсем не той кокеткой и злой насмешницей, которой царила в уезде еще несколько месяцев назад. Люди ошибаются, и теперь Марья Афанасьевна была готова признать, что Андрей оказался гораздо проницательнее ее самой, умудренной годами.
– Мой вам совет, моя милая, – пыталась графиня оградить Анну от общества улана, как могла. – Держитесь подальше от поляка. Нельзя усидеть на двух стульях. Подумайте о том.
– Он не поляк, он литвин, – рассеянно отвечала Анна, глядя, как бьется тонкими струйками в стекло окна осенний дождь. Проговорила, совсем не подумав, помня, как яростно повторял это Лозинский всякий раз, когда его называли поляком. Нахмурилась невольно графиня при ее словах, улыбнулась мимолетно Мария, сидящая за пяльцами.
– Да по мне хоть сам черт! – резко заметила Марья Афанасьевна, а потом сбросила с колен болонок, раздосадованная своими подозрениями. Надобно уже выходить из покоев своих, выезжать с Анной даже в церковь. Чем ближе она будет к той, тем дальше сумеет удержать поляка. Было бы только ради кого творить это, грустно вздохнула графиня, коря себя тут же за худые мысли.
В то воскресенье поехали в церковь на службу впервые все вместе в двух колясках. От души отвечали положенными по ходу службы «Господи Помилуй!» отцу Иоанну на молитву, каждое слово из которой падало в самое сердце.
– …О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся…. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся…. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию…
Каждый из тех, кто стоял под расписным куполом храма, молил от всего сердца Создателя о скором избавлении от французов, об освобождении земель русских от армий неприятельских, о возвращении в дома тех, что ныне с оружием бился за это где-то в сотнях верст от Гжати. А что это так и есть, хотелось верить ныне любому – от барина до простого холопа. Верить, несмотря на то, что Наполеон по-прежнему сидел в Кремле на пепелище уничтоженной им первопрестольной.
– Заступи, спаси, помилуй, сохрани, – шептала Анна, крестясь и склоняя голову. Только в церкви и в покоях графини за ней не маячила тень поляка, только в этих местах она могла думать только об Андрее, а душа ее не металась в сомнениях и тревогах. Снова проснулось женское тщеславие, требовавшее не только поддерживать интерес улана, но и не дать ему угаснуть. К чему ей это, корила Анна себя, а потом сама же себя уверяла, что лишь для того, чтобы и думать тот не мог об остальном, что происходило в имении.
Лозинский, как обычно, встречал ее коляску у крыльца, чтобы помочь сойти из экипажа, опередив медлительного из-за возраста швейцара. Чуть погладил пальцем ее ладонь при том, заставляя Анну сдвинуть брови недовольно – такая вольность! Хорошо, что Михаил Львович чем-то явно расстроен вот уже пару дней, не обратил внимания на них. И хорошо, что Марья Афанасьевна осталась на исповедь, уж она-то непременно заметила бы!
– Вы забываетесь, – только и сказала Анна тихо, вынимая пальцы из широкой мужской ладони. Владимир только улыбнулся ей в ответ своей привычной улыбкой, от которой образовывались ямочки на щеках, щелкнул каблуками, склоняя голову в поклоне. Хитрец! Нисколько ему не было стыдно за свой проступок, каким бы виноватым не выглядел в эту минуту.
Анна ясно видела, что этот невинный вид, который принимал так часто Лозинский, обманчив. Он очаровывал как мог, как умел, и часто – довольно удачно, ему нравилось прельщать, нравилось получать сердца в свои руки, распоряжаться чужими чувствами. Как когда-то самой Анне, вернее, той хладнокровной и насмешливой Аннет. И он видел в Аннет достойную пару себе, ему была близка эта ее сторона. Но это всего лишь часть натуры Анны, маска, личина, под которой ей так спокойно. Видел ли Лозинский ее истинную, во всех гранях, как разглядел ее Андрей? Анна сомневалась в том.
Может быть, от того, что она вспомнила Андрея, ей стало видеться всякое. Определенно так и было. Но на груди одной из девушек, что ранее пела в хоре на сцене крепостного театра ее отца, в узком проеме расстегнутого ворота простенького ситцевого платья Анна вдруг заприметила краем глаза блеск камня, когда холопка тщательно натирала мраморные балясины лестницы. Камня, так похожего на аметист или сапфир. Хотя откуда у холопки он?
Анна уже миновала несколько ступеней, удаляясь от полирующих мрамор девушек, как неожиданно для себя самой вернулась к той холопке и резко схватила за тонкую нить шерсти, на которой висело то, что прятала под сорочкой и платьем крепостная. Холопка резко вскрикнула от страха, когда на ладонь барышни скользнуло серебряное кольцо, подняла на нее виновато-испуганные глаза. Но Анна не смотрела на нее, только на кольцо на своей руке. Четыре камня в серебре. Два аметиста и два нефрита по числу букв в имени Анна…
– Где ты взяла его? – прошептала глухо Анна холопке, и та упала на колени, стала плакать в голос, предчувствуя кару за то, что позволила себе иметь такую дорогую вещицу. – Где ты взяла его? Где? У кого?
На крик барышни и рыдания холопки вернулся в вестибюль Иван Фомич, застыли, бросив работу, остальные, стали перешептываться, со страхом и любопытством глядя на картину, что видели перед собой.
– Где ты взяла это кольцо? – Анна вцепилась свободной рукой в плечо холопки, намеренно причиняя ей боль, стала трясти ее с силой. А внутри груди уже сворачивались тугие кольца вокруг сердца, сжимаясь с каждой минутой все теснее и теснее.
– Лодзь! Лях… что с сударем офицером приехал… подарил…,– сумела только и выдавить холопка, и Анна отпустила ее плечо. Резко сорвала с ее груди кольцо, побежала, перепрыгивая через ступени, к покоям, отведенным улану, толком ничего не соображая в этот момент, чувствуя, как жжет огнем ладонь, сжимающую серебро. Толкнула дверь в спальню поляка, развернулась резко, поняв, что та пуста. В дверях ее и поймал за плечи Владимир, недоумевая, что ей понадобилось в его покоях.
– Где ваш денщик? – спросила Анна. Ее глаза ныне казались темно-синими, так побледнело лицо, резко обозначились скулы, словно она вот-вот разрыдается.
– У подъезда, – ответил Лозинский. Лодзь действительно был в парке, где чистил мундир и сапоги своего пана, даже не догадываясь, что скоро будет атакован русской барышней, что сбежала по ступеням вниз, едва не упала на скользком мраморном полу вестибюля.
– Лодзь! – крикнула в голос, забывая о приличиях, сжимая до боли в ладони кольцо с камнями. Следом за ней спешил Лозинский, гадая, что могло понадобиться Анне от его денщика, и отчего она так бледна ныне.
– Тутай я! – ответили откуда-то справа. Лодзь сидел чуть поодаль от подъезда на низком табурете, чистил сапог. Он совсем не ожидал, что ему под нос сунут спустя миг серебряное кольцо, замер удивленно, а потом посмотрел на пана своего, что глядел на происходящее через плечико панны.
– Где взял его? Кольцо! Где взял? Откуда оно у тебя?! – едва ли не кричала Анна, протягивая кольцо поляку.
– Тише, панна, тише, – коснулся ее локтя Лозинский, но она стряхнула его пальцы, словно надоедливое насекомое. – Лодзь дурно понимает по-русски.
Владимир, видя по глазам денщика, что он толком не понимает, что от него хочет барышня, поспешил перевести вопрос. Тем более что в крике Анны, который привлекал к происходящему у подъезда любопытных, уже ясно слшались истерические нотки.
– Он говорит, что выиграл в карты у солдата пехотного полка. Что игра была честной, а своим имуществом он может распоряжаться, как пожелает, – перевел ответную речь денщика Лозинский. – Лодзь просит не винить девушку и не наказывать ее за то, что… что она приняла его подарок.
Анна сжала губы и закрыла на миг глаза, пытаясь обуздать эмоции, рвущие душу, и Владимир продолжил расспросы денщика, желая разгадать, что за кольцо у нее в руках, и отчего она так открыто показала свои чувства ныне.
– Француз снял его с убитого кирасира, пан Влодзимир, – проговорил Лодзь. – С офицера, как он сказал. Стало быть, тот офицер…, – и он смолк, кивнул на бледную Анну, что поняла только несколько слов из его речи. Что такое – «забитый» по-польски? Раненый…? О Господи, пусть будет «раненый»!
– Полагаю, так и есть, – кивнул Владимир, а потом взглянул на Анну, заметив надежду в ее глазах, устремленных на него. Жестокая правда, которая пойдет ему только на благо. Поддержать в горе – отменный шанс стать ей ближе, чем ныне. Падет столь возводимая преграда, когда истерзанная душа будет стонать молчаливо от потери, что случилась.
– Тот француз снял его с убитого офицера кирасирского полка в ночь после сражения у Бородино.
Вмиг потускнели глаза Анны, и он даже сперва решил, что она вот-вот лишится духа, потянулся к ней.
– Нет, – покачала она головой, и Владимир замер, не понимая, то ли она не верит в услышанное, то ли отвергает его помощь. А потом перевела взгляд на Лодзя, глядящего внимательно на нее снизу вверх, заметила, как покачал головой сочувственно, проговорил ей на польском: «Мне жаль, панна…».
Глухо ударилось о гравий аллеи подъездной кольцо, которое выпало из ставших такими безвольными пальцев, но Анна даже не взглянула на свою потерю. Оно ей было уже не нужно. К чему оно ей ныне? Она желала, чтобы это кольцо с ее именем уберегло Андрея…. К чему оно ей ныне?!
Его светловолосая голова поверх остальных на той службе на Рождество. Его пристальный и внимательный взгляд среди других устремленных на нее на той мазурке, которую Анна танцевала с братом. Его улыбка, чуть трогавшая уголки губ, от которой становилось так тепло на душе. Его руки на ее коже, его губы на ее губах, запах его кожи, его тихий шепот:
– Моя милая… моя девочка… моя милая Анни… Анни…
Калейдоскопом воспоминания перед глазами мелькали. Такие дивные, такие приятные и по-летнему теплые. От счастья, разрывающего грудь, от горячих губ, от сладости поцелуев.
– Нет, – снова покачала головой Анна, отказываясь верить в происходящее. – Нет…
А потом развернулась медленно и пошла по аллее прочь от дома, не обращая внимания ни на оклик Ивана Фомича, ни на зов Лозинского, который зашагал следом за ней. Шла, не обращая внимания на легкую боль от острых камушков гравия, терзающую ступни через тонкую кожу подошвы туфелек. Что значила та боль по сравнению с той, что рвала ныне сердце, сжималась обручами железными вокруг него, мешая дышать полной грудью?
Анна вдруг остановилась, подняла глаза на ветви, шуршащие над головой пожелтевшей листвой, словно пыталась найти что-то в этом переплетении ветвей над аллеей. Хотелось крикнуть вверх, прямо в небо тому, кто вершит судьбы людские, что она не верит. Не верит, ибо разве может быть он так жесток?!








