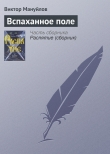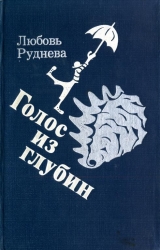
Текст книги "Голос из глубин"
Автор книги: Любовь Руднева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
15
Среди действующих лиц детства вперемежку существовали сапожник и вороны, жуки и старьевщики, продавцы игрушек и бродячие циркачи.
Холодный сапожник сидел возле рынка, он легко раскидывал свое маленькое хозяйство и еще быстрее собирал его: табурет, скамеечку повыше, рабочий столик, скамеечку пониже – свое сиденье, коробку с гвоздями, обрезками кожи, резины, клей, молоток.
Амо подолгу наблюдал за ним.
Старик Мокей был молчун, но добрее, чем выпивоха Степанчиков, живший неподалеку от Амо. Работал Мокей быстро, никогда не поднимал глаз на заказчиков, садившихся на табурет, только пронзительно, сдвинув на лоб очки, подвязанные толстым шпагатом на затылке, чтоб не падали, разглядывал стоптанные ботинки, сапоги, женские туфли.
Он, набычившись, глухим голосом, отрывисто сообщал владельцу «обнов», какая работа потребуется и во сколько копеек она обойдется. Если тот, кто стоптал обутки, ему возражал, торговался, Мокей возвращал обувь и молча продолжал работу. Он лишнего не просил и в препирательства не вступал.
Был он единственным существом, которое не торговалось у рынка или на самом рынке.
Подолгу Амо мог наблюдать и за жуками, они никогда ему не надоедали, особенно его любимицы – божьи коровки.
Еще водились забавные создания за маленькими выпасами, где в дождливые месяцы образовались непросыхающие лужи, – лягушки и их детеныши – головастики.
За той мокрелью в самой скособоченной хибарке жила старуха с лицом, смахивающим на лунный серп. Звали ее диковинно – Тикуся Кривая. Ее промысел – сбор бутылок и ветоши – начинался на рассвете, летом раным-рано, зимой уже после прохода молочниц, часов в девять утра. Амо казалась и она молчуньей, потому он долго ее побаивался. Как-то повстречал ее с пустым мешком днем, она, видимо, уже отнесла по назначению все, что насобирала, и Тикуся остановилась поперек тропки меж двумя огородами.
Пристально смотрела она не на Амо, а на большого темно-коричневого жука, Амо нес его на ладошке, вытянув руку вперед, будто в лодчонке. Черенком тополиного листа перед тем запрокинул жука на спину. Амо не знал, крылатый он, не улетит ли, кусачий, не ущипнет ли за палец. Но длинные рога его, крепкая спинка, челюсти не на шутку нравились мальчишке.
Амо хотел, наткнувшись на Тикусю, дать обратного ходу, но молчальница вдруг заговорила как-то по-голубиному гортанно и тихо:
Ворон, да не конь,
Счерна, да не медведь,
Рогат, да не бык,
Ноги есть, да без копыт.
Летит – так поет,
Сядет на землю – землю роет.
Он понял, она толкует о жуке сочувственно и складно. А все натянутое на ритмическую ниточку уже и тогда притягивало Амо.
Мальчишка, верно, удивил ее, кивнув согласно головой. Она воскликнула на этот раз петушиным голосом:
– Смекалист, а сам от горшка всего-то три вершка! Шустер на отгад. Но закинь жука в кусты, он к земле притиснут и пашет свое. А у нас и всяка бабочка над огородишками вьется, и лимонница.
Старуха закрыла глаза и перешла на шепоток:
– Радугу вчерась пополудни заметил? С того небесного коромыслу, из самой радуги, бабочки и сыплются. Приметь, загадай на них, все сполнится.
Она как бы спохватилась, остро взглянула на Амо зрячим, осколочным глазом и круто повернулась спиной, скругленной старостью и обкатанной тяжелыми мешками.
Уходила она поспешно, но шагом легким, будто скользила по воздуху, а он точно помнил, наблюдая за ней обычно издалека, когда таскала она мешки, наполненные чем ни попадя, тогда она волочила ноги, обутые в самодельные тряпичные туфли или же в подвязанные толстой веревкой глубокие калоши.
Один только разок и заговорила Тикуся, а осталась памятной. С той поры начал примечать Амо паренье бабочек, танец мотыльков, их кружение в палисадах. Занимало и озадачивало, как это в самые визгливые, скандальные подвечерья скользили они над чахлыми зарослями, радуя и приманивая: «Рассмотри травье-муравье, повернись спиной к тем, кто сцепился в пьяной, мертвящей драке».
Нет, Марьина роща и одаривала нередко, порой даже щедро, подталкивала на загад, пусть сразу и не оказывалось под рукой отгадки.
Так лет с четырех он хоть и побаиваясь, но хотел поближе свести знакомство с воронами. В ту пору чудилось – они переодетые в птиц очень серьезные существа. Куда-то они улетают, становятся самими собой, как и какими, точно он даже и не представлял, а потом снова сжимаются до своих вороньих размеров, делаются меньше его, натягивают свою строгую одежду и расхаживают по дорогам, переговариваются резкими, решительными, ни с кем не схожими голосами, говорят на отрывистом, может, потаенном, для их дела предназначенном, языке.
Большие, они не обращали внимания ни на собачий лай, ни на пьяные крики, потасовки, базарные гульбища. Иной раз в самой толчее они проходили или низко пролетали, независимые, хотя могли жадно схватить на лету брошенный им или голубям хлеб.
Однажды повезло, Амо увидел, как сидели на нижней ветке тополя две больших вороны клюв к клюву, молча и долго. Он притаился поблизости, прислонясь к стволу березы. Ему казалось, еще немного – и вороны проговорятся о своем, он поймет, зачем они живут и так, и эдак. Может, им, как ему, когда они были еще серьезными, важно расхаживающими людьми, захотелось полетать. И так теперь они летают, а то живут похоже на людей, но уже не совсем по-людски. И тут, когда он приблизился к разгадке, а вороны все еще сидели оборотясь друг к другу клювами и вокруг растекался сумеречный час, он услышал сладостный голос соседки Ираиды:
– Какой же умничек, выслеживает этих гадких ворон? Вражью птицу не боишься, о храбренький какой!
Ее тень упала на него, сама Ираида наклонились над Амо, стараясь разглядеть, какое такое у него выражение лица. Первая тень соглядатая в его жизни, она упала на него и разрушила первое же и, может, лучшее его архитектурное сооружение, воздушный мост, по которому он, пусть еще и неверными шагами, приближался к отгадке вороньей тайны.
Указующий палец, разговоры вслух о едва брезжащем для него, навязчивые вопросы: «А мамку любишь? Хочешь, чтоб у тебя был новый папка?» – отпугивали его и вызывали желание убежать куда глаза глядят, спрятаться.
И почти всегда в такой момент появлялась Аленка.
– Когда ты только уроки успеваешь готовить? – удивлялась мать Амо, забежав домой на скорую руку покормить сына, и увидала, Алена уже его уводит к себе. – Говорят, ты и дома пособляешь, а зачем вам лишний рот? Тебе с ним морока, он же непоседа, вертится без прерыву.
Алена ответила тихо, будто извинялась невесть за что:
– У нас ему рады, я так по нем скучаю, вы уж простите меня, тетя Зоя, а вам недосуг. Только вот у нас беда, часто гуляют дружки соседа Соломы, или, наоборот, его, заполошного, ищут кому надо, и опять тогда не пройдешь в калитку. – Она огорченно покачала головой, как совсем взрослая, и увела к себе Амо. Ей-то он по дороге и открыл свою тайну, как почти дознался наверняка о превращениях ворон.
Аленка слушала его, кивала головой, а после того, как он уже рассказал обо всем, что видел и о чем только догадывался, она проговорила:
– Должно быть, все так и есть.
Но едва вошли они во двор того дома, где жила Аленка, как попали на большое чаепитие. В центре двора стоял длинный стол, вокруг него, покрытого огромной цветастой клеенкой, сидели все соседи, как одна семья, а над столом возвышался осанистый самовар. Аленку и Амо усадили, потеснившись на две табуретки, в противоположном конце от самовара.
– В Марьинороще жить – Москве-матушке честно служить, – приговаривал столяр Деянов, отец крупного вора Соломы.
На Солому – ведь и он тоже, как и Кузнечик с белой лошадью Маруськой, жил в одном дворе с Аленкой – устраивались время от времени облавы. Но Солома исчезал, а появлялся он украдкой и много месяцев спустя.
От щедрот своих он дарил детворе свежие французские булки, карамельки в ярких обертках и леденцовых зверят на палочках.
Его мать, запуганная и богомольная, выходила после его исчезновения во двор, на общее чаепитие, и, усаживаясь поближе к самовару, пришепетывая, твердила:
– Детев любит, гостинцы эн какие приносит, корзинками, не жаден, ох не жаден…
Тут же она обильно роняла слезы и так же обильно запивала свою тоску по Соломе огромными чашками чая.
Маленький Амо смотрел на самовар о пяти ведрах, такая слава у гиганта водилась, на опадание крошечных угольков в его под и втягивал в себя запах дымка угольного, и чая, щепотьями щедро бросаемого в большой, с разрисованными боками, фаянсовый чайник.
Тут-то и начинались подробные толки: на каком месте стародавнем вон еще с какого «поконвека» селились тут люди рукодельные, рукотворные, ну, и меж ними если шантрапа вклинивалась, то как же может и цвет расти без кругового хоровода сорняков?!
И Кузнечик подавал, напившись крепкого чая, свой дребезжащий голос:
– Заезжий седок от своей личной тоски интересуется иной раз, откуда сам я со своей белой Маруськой. Где вопрос, там другой. А какая такая сторона роща Марьина? А я от достоверных стариков слыхивал, на нашем месте да по всей округе тутошней сильно густой лес разросся, ну, так годов двести с той поры минуло. А чего добрые люди не сводят на нет? Да еще бедуя среди войн и всякого другого стихийного?
У Кузнечика на небольшом личике черты обозначались правильные, но мелкие. Издали, если б не сутулая спина, он мог показаться ребенком. Но изредка от щедрот Соломы, когда тот подносил винца да пивца дворовой бедноте, Кузнечик вдруг впадал в кураж и представлялся самому себе, по его собственному признанию, великаном.
Он выбегал, семеня ножками, в центр двора, махал руками, как игрушечный ветрячок, и, пытаясь выбрасывать коленца, тонким голосом выводил:
Когда я во хмелю, чего хочешь намелю.
А как просплюсь, от всего отопрусь.
Скажу: я – не я, и лошадь не моя,
И я не извозчик!
Алена, самая отзывчивая, крепко ухватив Кузнечика, тащила его к сарайчику. Выкрики «Я не извозчик!» слышать было невмоготу. Известно ж, как Кузнечик из последних своих силенок не сдавался, гордясь тем, что он-то и есть потомственный владелец лошади Маруськи, пролетки, и пусть и гроши зарабатывает, хоть на слабое, но свое пропитание, и притом своим делом, извозчицким, требующим терпения и уважительности к животному и седоку.
Принимая все попытки Алены спасти его от унижений за игру, он начинал ее кружить, и откуда прыть бралась. И уже выкрикивал:
Пошло, поехало ходом, бродом.
В труски, в скачки, вдогонку, вперегонку!
…Сивые, буланые и постромки рваные.
Внезапно он осекался.
– Ну, выдохся, куражист, – сам себе горько вдруг, совсем трезвым голоском сообщал он и покорно брел за Аленкой. Она отводила Кузнечика в его каморку.
Но, будто запнувшись о порожек, Кузнечик, чуя конец своего представления, почти прокукарекивал дискантом, оборотясь к соседям, чьи любопытные головы торчали из окон:
– До свидания и прощайте, лихом не поминайте!
Может, оттого, что Амо вырос без родни, у соседских ребят водились не только отцы, но деды и бабки, дядьки и тетки, он считал Кузнечика немножко и своим дедкой, не совсем заправдашним, но все ж!
Говорливым Кузнечик становился, лишь разомлев от большой дворовой компании, рюмашки перед чаем, поднесенной жалостливой матерью Соломы, от обильных гостинцев, подаваемых к чаю. Все соседи знали назубок его притчи о Марьиной роще, но всегда слушали их, уважительно кивая головами, и, унимая егозливых детей, их самих как бы поднимало до парения такое славословие родимому краю. А они всерьез считали себя жителями особой стороны, чуть ли не острова. Подрастая, и Амо – а у него завелись свои сложные счеты со всем окружающим – соглашался с земляками – тут складывалась издавна жизнь со своими извивами, наособицу.
Ну, что общего, казалось бы, как вспоминал он потом, могло быть меж Аленушкиным отцом-чеканщиком и его антиподом – крупным жуликом Соломой? Ничегошеньки вроде б.
Самсонов работяга, артист в своем ремесле-художестве, честности неподкупной, Солома, до одури влюбленный в себя, всю карьеру строил на бесчестности. Но в окружении, подобном ему, и он числился, и наверняка не без основания, артистом по жульническим аферам.
Общей у них оказывалась хоть и разная, но привязанность к Марьиной роще, к детворе, к своему двору, даже к белой лошади Маруське.
Солома покупал для нее, как и ребятне, гостинцы, подарил Кузнечику новехонькую, отличную сбрую. Самсонов собственноручно украсил ту сбрую чеканными бляшками. Отдыхая от нелегкого ремесла, иной раз помогал старому Кузнечику чистить лошадь, чинить пролетку.
Уже взрослым Амо, возвращаясь мысленно в свое детство, совершал открытия, устанавливал неожиданные параллели, связи меж теми, кого, казалось бы, сопрячь в той жизни и невозможно было.
Он и самостоятельно, подростком, выяснял и подробную родословную марьинорощинской стороны, интерес к которой первым разбудил в нем старик Кузнечик. Чего не успевал старый наговорить за общим чаепитием, он рассказывал неторопливо Аленке и ее питомцу Амо, возясь с пролеткой, она-то требовала ежедневных забот.
А про что он наборматывал, Амо даже не просто слушал, а видел. В темном сарае вдруг вырастало как бы воочью средь леса село Останково. И князя Черкасского мог даже разглядеть в углу, за пролеткой, владельца леса и села. Отчего-то тот князь рисовался ему сильно смахивающим на стройного, русокудрого Солому, в шикарных сапогах в гармошку, штанах с напуском и в шляпе.
Известно стало пятилетнему Амо от того же Кузнечика, как меж селом и городом, в восточной стороне леса, на речке Копытовке, расположилась другая деревня, получившая княжье имя – «Князь-Яковлевское».
– Но в году то было… – Тут старичок надолго умолкал, придавая значительность себе и своему сообщению.
Кузнечик знал про год точнехонько от какого-то местного дьячка, сильного грамотея, – в 1678 году. По переписным книгам, она имела и другое название – «Слобода Марьино, Бояркино то ж».
Ни определение «восточная сторона леса», ни древний год, ни чудны́е подробности про неведомые переписные книги не затрагивали воображения маленького Амо, он не владел в ту пору временны́м пространством, совсем не умел в нем передвигаться, тем более с легкостью, какая пришла к нему потом. Но запомнились тихие речи Кузнечика слово в слово, тем лучше запомнились, что иной раз чудилось ему, старик все рассказывал про их марьинорощинскую сторону не Аленке, не тем более несмышленышу Амо, а лошади Маруське белогривой.
Кузнечик, доподлинно помнили старожилы, привел Маруську из мест не ближних, но твердил, что ведет она свою родословную из княжеской конюшни рода Черкасских. Отчего он забрал такое в голову, неведомо, но верил в свою выдумку свято. Верно, через то ему и хотелось Маруське напомнить, откуда тут вся жизнь завелась.
– Населениев тут спервоначалу и числилось до ста человек, – у самого уха Маруськи почти шептал старик.
А уж полувзрослым Амо прочел: в восемнадцатом веке места его родные и – только тогда он понял – дорогие Кузнечику, старик через историю прибавлял себе значения, величался в меру слабеньких сил своих, – принадлежали канцлеру Анны Иоанновны и дочери Петра I – Елизавете. А дочь канцлера вышла замуж за Шереметева и принесла ему в приданое и тот кусочек земли, на котором вырос позднее Гибаров. Уже тогда она, в восемнадцатом веке, располагала, владетельница, крепостными: резчиками, позолотчиками, иконниками, котельниками, слесарями, столярами, оловянишниками, точильщиками шпаг, сапожниками, чеканщиками, ткачихами, вязальщицами. Ведь правду говорил и отец Алены, что род его – древних чеканщиков.
А в году 1742-м, узнал Амо уже старшеклассником, – но то было знание, добытое им самостоятельно, ему лично нужное, – недалеко от деревни Марьино провели Камер-Коллежский вал – он и оказался таможенной границей Москвы. Так вот меж валом и деревней Марьино лес по-расчистили, и образовалась роща, ее, вполне естественно, и окрестили по имени ближайшей деревни Марьиной рощей…
16
Среди ремесленников и местных хлебопашцев селилось, должно быть, еще в Петрову пору немецкое, тоже ремесленное, сословие. Своих мертвых они хоронили в роще, так возникло там небольшое немецкое кладбище.
Чуть позже, года через четыре, перевели в эту сторонку печальный приют убитых и неопознанных людей, «Убогий дом» – морг и кладбище. По странному обычаю, раз в год устраивали похороны всех неизвестных в седьмое воскресенье после Пасхи, в Семик, и пышно отмечали поминки.
Вскоре на месте «Убогого дома», посреди века восемнадцатого, открыли обыкновенное кладбище – Лазаревское, оно сохранилось по сю пору, вокруг церковки Лазаря, и на нем играли мальчишки в казаки и разбойники или в белые и красные.
А Семик отмечали те, кто наезжал из малых городков и сел на базар, что лбом упирался в Лазаревское кладбище. Они-то и привечали рощинскую ребятню, маленького Амо.
Говорили они на свой лад и еще нередко одаривали хоть какой малостью. Среди базарной сутолоки, гама каждый оставался со своей выходкой, обличием, горластый или тихий.
Как-то старушка в синем платке слезла с воза, где в кадушках у нее разные соленья распускали укропно-ленивые, манящие запахи – огуречного рассола, помидорного. Подошла она к Амо, погладила, в глаза ему заглянула.
– Чернявенький, а лицо-то твое хрупенькое, одни глаза и дрожат на нем. – Голос ее обволакивал тихостью. – Пойдем, что нужное обскажу тебе.
Сунула отрубевую лепешку, наклонилась, протянув сухонькую ручку, взяла осторожно за руку, повела на кладбище, к березкам.
Говорила она, переходя в шепот, будто словом гладила его по щекам, располагала к доверию:
– Приметил ты, махонький, всякие диковины селятся рядом с нами хоть на день, а то на час, кому как повезет. Могут присесть на бревнушке, где ты притулился, хоть на минутку. Но любят они особо Семик на вашем-то, на Лазаревском, за базаром. Не упускай такого вещего, ежели уж случится встретить.
Амо подумал: «Вот ты, бабушка в синем платке, и есть такая диковина, добрющая».
– Глаза твои приметливые, даром что в них свет дрожит, в большущих, переливается, как озерко, да не одно, а целых два, оба, значит, плещутся. Хоть махонький, а понимаешь много. Заметил? Сюда не только что приходят, а наезжают и иногородние, у всех в горсти свои прикормки птице, за пазухой свои прибаутки. Ты мимо ходи сквернословов, охальников, пьяни, а останавливайся около играньица песельников, грустных иль веселых, они сроду тебя, дитё, не обидят. Ты погляди, как наши наезжие девки-то будут сейчас песни играть, загады строить.
На кладбище и сохранились такие толстоствольные, крепкие березы, они первыми распускались, к ним в гости и приходили в Семик разодетые девушки, плели венки из веток березы, раскладывали под деревьями сласти, яйца, пироги, печенюшки.
Только старушка привела Амо, а сама отошла к знакомым женщинам, чтобы помочь им опростать корзиночку с домашними сладостями, запела толстушка, а пятеро подружек подхватили:
Под тобою, березонька,
Все не мак цветет,
Под тобою, березонька,
Не огонь горит,
Не мак цветет, —
Красны девушки
В хороводе стоят,
Про тебя, березонька,
Все песни поют.
Пели девушки и вроде б кормили каждое дерево по отдельности, сами откусят и суют в листву крошащееся печенье. То-то птицам будет пожива, да и он бы, Амо, не отказался сейчас превратиться в березу и наесться до отвалу пирогов и яиц.
Чудно́ казалось Амо, как среди пьяных криков, доносившихся с разных концов, меж могильных камней играли заезжие, то ли кружевницы, то ли песенницы, он видел, некоторые из них свои изделия только что продавали, стоя в плюшевых платьицах, близ возов, не то костромские, не то вологодские, как толковали о них покупательницы.
Девушки, называя свои изделия, их цену, окали, строго и в то же время открыто глядя в лица егозящим покупательницам. Верно, теперь они отказались от своего скучного торгового занятия и резвились, глядя лишь на березки да себе под ноги, чтоб не споткнуться, все играли и пели в чужом месте.
– Мотри, мотри, маленький, – приговаривала старушка, она опять оказалась рядом, положила свою легкую руку на плечо Амо, – березка, может, того не знаешь, живьем живая, она в сочувствии девкам. И кумой скажется, если я через тот венок поцелую сродственную душу. С ее благословения и дружится крепко, кто через венок поцеловался, принял зарок дружбы до самой кромки.
А совсем еще девчонка, откуда-то выскочившая из густеющей толпы женщин, принялась надвязывать на ветвях, как в косицах, разноцветные банты и развешивать яркие лоскутки, Ситцевые, бархатные, пестрядь среди зеленого колыхания.
Его самого так и подмывало закружиться, сквозь березовое мельканье пролететь опрометью, но он стоял не шелохнувшись под ласковой, спокойной рукой старушки.
Девушки, подталкивая друг друга локтями, запели, оглядываясь на деревца:
Березка шествует в различных лоскутках,
В тафте и бархате и шелковых платках,
Вина не пьет она, однако пляшет
И, ветвями тряся, так, как руками, машет,
Пред нею скоморох неправильно кричит,
Ногами в землю бьет, как добрый конь, стучит.
Веселье рядом с могилами, крестами, памятниками, досками, шутки и пляс, переговоры с березками прогоняли ночные страхи, слухи о кознях призраков. Как просто и хорошо переговаривались девушки меж собой, а одна протянула Амо свою узенькую алую ленточку и попросила:
– Ну-ка, сам подари березке эту красоту!
А сзади, за его спиной, уже знакомая старушка поясняла девушке:
– Тут особенное кладбище, москвичи, что когда-то в предках своих вышли из Ярославля, Твери, а может, и костромские просили хоронить их у бывшей тутошней заставы, дорога из тех городов проходила ж совсем рядышком. Так вот на Лазаревском наши земляки и вошли в землю. А теперь через веселье березки и нас на жизнь благословляют.
Опять всплеснулись песни, а меж тем старушка в синем платке выбрала несколько ветвей из тех, что наломали девушки, протянула Амо, легко так повела рукой по густым листьям трех ветвей и присоветовала:
– Какой ни есть, и у тебя сыщется свой уголок, отнеси ветви домой, укрась комнату березой. Загадай свое желаньице, и, глядишь, оно сполнится.
Старушка и помогла заглянуть ему в самые светлые углы жизни, так, мимоходом. Ненароком будто, обратив его внимание на простое и удивительное, вовлекая в хороводные всплески жизни.
Ларчики с чудесами распахивались на самом базаре. Там и случилось важное происшествие в жизни Амо.
Своим младшим братом, едва увидев, сразу посчитал он Петрушку. Впервые тот предстал перед ним в остроконечном колпаке с кисточкой, в клоунском балахончике, а в руках у него оказались две медные тарелочки.
И заворожил Петрушка его – ударял тарелочкой о тарелочку.
Появился Петрушка над небольшой ширмой, а ширма возникла в базарном тупике, где только по воскресным дням толпились шабашники, предлагавшие свои услуги всем и каждому, плотницкие, малярные, штукатурные.
Амо видел подскок Петрушки, кружение, слышал задорные выкрики, и тут познакомился он с лекарем и собачонкой. Амо, глядя на них, чувствовал себя великаном; по сравнению с этой компанией он наверняка выглядел гигантом. У Петрушки возникли ссоры и свары с задиристым псом и его хозяином – лекарем. Петрушка не верил в его длинные рецепты и боялся докторской трубочки.
Но самым смешным оказалась дуэль Петрушки и цыгана – так объявил свой номер кто-то, кто прятался за ширмой. Цыган над ширмой явился расхристанным, в красной рубахе, со всклокоченной чернущей шевелюрой, ходил размахаем и вел на поводу хромую конягу. Петрушка тягался с цыганом, за хвост тянул к себе лошадь и наступал на широченного в плечах цыгана, хлопая его по голове своими тарелками так, что легкий звон стоял.
Самое же интересное случилось в конце представления. Откуда ни возьмись перед ширмочкой возник всамделишный цыган, одетый в клетчатый пиджак и рыжие туфли, он был тщательно причесан, наискосок по его маслом смазанным волосам бежал пробор-ниточка. Цыган громко и хрипло дышал, молча наблюдая до поры до времени, как Петрушка измывается над его сородичем. А потом настоящий базарный цыган наклонил голову низко-низко, сам согнулся дугой, и, как бык, ринулся на хлипкую ширму кукольника, «вперед башкой», как потом справедливо доказывал кукольник.
Ширмочка взлетела вверх, рухнула, цыган разодрал ее в клочья, но честной народ помог спастись Петрушке, цыгану-актеру и самому кукольнику. Потом возгорелась драка среди зрителей. Амо сразу же оттерли куда-то назад, к его горю, но во спасение.
Назавтра Амо побежал спозаранку на базар, но там и люд вроде б оказался другой, и никто не толковал о разгроме Петрушкиного театра. Не у кого и спросить было, чем же все то страшное дело кончилось. Только в следующее воскресенье увидел Амо на прилавке средь разных игрушек маленького Петрушку, но вовсе не такого, какой озорничал над ширмой. Только колпачок с бубенчиком смахивал на Петрушку-артиста, но в руках оказались сковородочки, а был надет на маленьком Петрушке балахончик с крупными красными кругами.
Толстые пальцы торговца мяли Петрушке-игрушке живот, и он жалобно изгибался, а хриплый голос выводил врастяжку:
– Веселый Петрушка! Смышлен да хитер, на язык востер…
Торговец повторял снова и снова свою прибаутку, потом бросил Петрушку посреди прилавка, и тот упал на утку и зайца, жалобно звякнув сковородочками.
Около прилавка, кроме Амо, стояли подростки и рассматривали пушчонку, не обращая внимания на то, как упал Петрушка.
Почему-то Амо догадался: такой равнодушный продавец уж наверняка не сам свои игрушки делает, выдумщик ни за что своего Петрушку не бросил бы безжалостно, только потому, что не нашелся сразу на него охотник, покупатель. Амо конечно же охотник, но вот у него ни копейки за маленькой душой, он и не знает, каких сокровищ стоит эдакий Петрушка-сковородочник, недоступный ему.
Вдруг торговец прикрикнул на него:
– Чего глазенапы вылупил, бесплатно я не шуткую, мотай, малявка! С таких проку нет, без родителев-то ничего не покупишь.
Амо быстро взглянул в последний раз на прилавок, почувствовав себя, может, впервые, трусом, оставляющим друга в беде, увидел беспомощную спинку – балахон заморщинился у загривка, колпачок жалобно свесился набок, вот и все, что успел заметить охотник, но не покупатель.
– Взялся за перепродажу чепухи, – меж тем орал уже своему соседу, торговцу горшочками, толстопальцый. – Ведь говорил же рукоделу: игрушку не уважаю, с нею коммерцию не поддержишь. А он сулил барыш, обманул. Ерунда чепуху и стоит, а тут на нее зарится голытьба да мелюзга.
Ушел Амо посрамленный, но призадумался. Тот Петрушка, что выпрыгивал из-за ширмы, наверняка не знал поражений, а этот, махонький, попал в переделку.
С трудом Амо уяснил, что Петрушка Петрушке рознь, а для игры нужны добрые, чуткие руки и никак для того не подходили жирные, короткие пальцы.
Брел понурясь, не спеша домой, поднимал то одну ладошку и подносил ее к лицу, то другую и, рассматривая свои пальцы, шевелил ими, будто видел впервые.
По дороге он встретил соседскую дворняжку, она дружелюбно ткнулась ему в живот мордой, на минуту припала к земле, завалясь на бок, предлагая почесать ей брюшко.
Присел на корточки, не в силах устоять против ее дворняжьего дружелюбия, и поглаживал песочную гладкую шерстку.
И в этот момент он догадался: из старой, драной занавески смастерит себе балахон Петрушки, натянет его на себя, кликнет доброго песика, что сейчас так ласкается к нему, и вместе с Шукшей пойдет не на базар, где всем торгуют и настоящие цыгане бьют маленьких куклят, прячущихся за ширмой, а по дворам. Он, Петрушка-Амо, понарошку будет ссориться с Шукшей, она начнет лаять, все подумают: она по-собачьи отвечает Петрушке. Еще сделает себе Амо свистелку-дудочку из бузины, возьмет маленькую сковородку на кухне у матери и станет то свистеть, то бить в сковородку, созывая народ, – кто взглянет на него, засмеется.
Лаская теперь Шукшу, Амо спрашивал у нее:
– Если стану Петрушкой, ты-то пойдешь со мной? Еще нам надо достать колпачок с бубенчиком, нет-нет, с кисточкой я не хочу, только с бубенчиком. И про себя же, Петрушку, кричать буду: «Сам ходит, сам бродит! Шумит, смеется, с цыганом дерется!» А почему тебе не взобраться на ширму? Ты ж мне подсобишь. Только рвать мои штаны взаправду не вздумай! У меня других-то нет. У того, базарного Петрушки дядька-кукольник мог и балахончик сменить, и зашить чего надобно, а я, Шукша, не сумею.
– Послушай, – говорил Амо, почесывая собакино пузо, – вот попугай какой маленький и клювастый, а может по-человечьи голос подать. А ты ж, большой и понятливый, отчего-то ленишься. Ты ж очень понравишься всем-всем, если вдруг хоть одно словечко скажешь: «Петрушка!» Ну давай попробуем вместе, не торопясь. А? Если чего очень захочешь, обязательно получится. Вот увидишь.
Амо выпрямился и пошел, собака увязалась за ним, а он все прикидывал свой будущий праздник.
Намалюет себе щеки желтым, отварит кожуру лука, как мать на пасху, когда яйца красила. И покрасит не только щеки, но и кончик носа, лоб. Будет потеха. Ну, а слова для выкрикивания он возьмет у Петрушки-рыночного самые презабавные. Вот Петрушка наклоняется над ларем с мукой, крупой, достает оттуда двумя ручками и сыплет добро прямо на глазах зрителей обратно в ларь. Визжит, сильно откачнувшись назад, трясет головой, да так, что бубенчик заливается во всю ивановскую. Он, видимо, и боится, и сердится: а вдруг кто ненароком на него и наскочит да пуганет!
Но Петрушка не таков, чтоб праздновать труса. И он враз, схватив свои тарелочки, колошматит ими над ларем, выкрикивая: «Из дробленого, толченого чертенята лезут! Рожи строят, рожками пинаются, копытцами дробно выстукивают. Языки высовывают. А ты на них, Петрушка, махни рукой, повернись спиной, кукарекни сильно, дыхни шумно, оборотись лицом, крикни: «Сгинь! Сгинь рог! Скинь два! Потеряй рога! Сбрось копытца, побеги топиться!» И нечисть исчезнет.
И Петрушка-Амо во все горло кукарекнул.
А после всех его заклинаний пробежали вверху вдоль ширмы маленькие, с рожками, черные, хвостатые и исчезли.
Еще из маминого старого чулка он сделает крохотного чертяку. Сгодится для головенки маленький круглый чурбачок, вывалянный в саже. А чулок набьет Амо стружками, прицепит шнурок-хвост – и готово. Он видел, как Аленка мастерила игрушки на елку, которую и устроила для Амо, узнав, что его мать никогда не справляла рождества с елкой.
– Но ты ж пионерка? – спросил Амо с укоризной, подученный матерью. – Тебе ж нельзя замечать рождество, да еще праздновать!
Аленка усмехнулась во весь крупный свой, добрый рот, показала очень ровные зубы, чуть желтоватые, и ответила серьезно, глядя в глаза Амо:
– Я тебе, что б ты ни спросил, всегда говорю правду, верно? Только не приучайся ни за что ни про что попрекать другого, ну, меня, к примеру. – Она потрепала его волосы и коротко рассмеялась. – Очень люблю я елки, и мне интересно с тобою украсить одну, маленькую, мы будем вокруг нее бегать и петь. Ну, а повторять все, что тебе скажут даже самые хорошие люди, как твоя мама, не нужно, Амо. Ведь подучивают и подначивают, чтобы поссорить нас, а я так хочу с тобой дружить.