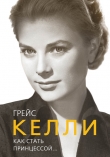Текст книги "Жизнь в белых перчатках"
Автор книги: Керри Махер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Глава 31
1960 год
– Возьмешь меня покататься по реке, Келл? – спросила брата Грейс.
Стояло великолепное весеннее утро, и зеленые листья только распускались на ветвях высоких кленов и дубов по всей Филадельфии. Пока Форди вез ее домой из аэропорта, Грейс смотрела в окно на длинную и широкую реку Скулкилл, на которой отец, а следом за ним и брат готовились к участию в олимпиадах. Грейс десятилетиями созерцала эту воду, не видя в ней ничего, кроме наказания и воздаяния, а теперь вот впервые почувствовала, что река ее зовет.
Келл поднял глаза от кофе, который пил за кухонным столом, где три десятка лет собиралась вся семья, чтобы разделить завтрак и в очередной раз поспорить, как следует провести такой замечательный день. Грейс всегда отдавала свой голос за поход в кино или уличный театр марионеток, но в результате неизменно побеждали теннис или парад.
Впрочем, в это утро отец снова лежал в своей спальне наверху, задремав от сильнодействующего наркотика, который сиделка дала ему, чтобы притупить боль, вызванную раковой опухолью. «Проклятый паразит, – говорил о ней отец, – жрет меня заживо».
– Серьезно? – спросил сестру Келл.
– Серьезно, – ответила она. – Как насчет каноэ? Можно взять детей и устроить пикник.
Все остальные – Пегги, Лизанна и мама – не захотели к ним присоединиться, поэтому на реку отправились лишь Грейс с маленькими Каролиной и Альби, а также Келл со своими карапузами, Джоном и Сьюзен. У жены Келла Мэри болела голова, и она, казалось, была рада немножко отдохнуть от детей.
Уже в лодке Келл настоял на том, что грести будет только он, и объяснил детям разницу между веслами лодок для академической гребли, байдарок и каноэ. Еще он рассказал им про экипаж лодки и должности, которые в нем есть. Альби захотел стать рулевым и немедленно начал выкрикивать приказы писклявым детским голоском:
– Быстрее! Быстрее! Подтянись! Мало каши ел!
Грейс и Келл обменивались удивленными взглядами и изо всех сил старались не рассмеяться.
Когда каноэ перестало раскачиваться и целеустремленно помчалось вниз по течению, Грейс уперлась локтями в колени и закрыла глаза. Она старалась вобрать в себя все это: ветерок, который обдувал лицо и ерошил волосы; смутный запах речной воды и мокрой земли на дне, которая изобиловала пахучей болотной живностью; звук деревянных весел, врезающихся в поверхность воды, а потом продвигающихся сквозь ее толщу – р-р-раз! – звякнув о металлический борт лодки. И хотя это не у нее горели плечи и руки, она все равно начала проникаться очарованием происходившего, ощущая себя одновременно и личностью, и частью реки, которая была куда больше и могущественнее, чем она сама. На миг она даже забыла о телохранителях, каноэ которых следовало за ними всего в нескольких ярдах.
Когда они вернулись домой, Келл смолотил свои сэндвичи с холодной курятиной, от которых отказался на пикнике, мотивировав это тем, что не хочет, чтобы его на обратном пути схватила судорога, и поинтересовался у Грейс, как ей поездка.
– Просто чудесно, – с благодарной улыбкой ответила она. – Спасибо, что взял на себя самое трудное.
– Всегда пожалуйста, – отозвался брат. Потом запил очередной сэндвич кока-колой и спросил: – Почему сегодня?
Грейс покосилась в сторону ведущей наверх лестницы.
– Подумала, может, станет легче.
Он кивнул.
– И стало?
– Отчасти, – признала Грейс.
Однако в ее жизни было много всего, что не могли унести воды Скулкилла.
– Не возражаешь, если я спрошу? – отважился на вопрос Келл, в голосе которого звучала опаска. – Почему не приехал Ренье? Я думал, они с папой всегда ладили.
– Ладили, – вздохнула Грейс, – и ладят. Но…
Ей приходилось так часто извиняться и находить оправдания! Она занималась этим всю свою жизнь. Возможно, это был ее самый полезный и отработанный навык, близкий родственник умалчивания, которое тоже было отточено до совершенства.
– Но он должен посетить несколько деловых мероприятий. У нас же там рядом Франция, сам понимаешь. Это как здоровенный сосед-забияка.
На самом деле Ренье даже не предложил поехать с ней.
– Он слишком молод, чтобы вот так уйти, – хрипло сказал князь жене, когда та сообщила, что ей надо нанести последний визит отцу.
У нее возникло жутковатое ощущение, что муж говорит не столько о Джеке Келли, сколько о своем собственном отце, Пьере, которого он любил больше, чем остальных членов семьи. Уж точно больше, чем мать, которая им не интересовалась, или сестру, которая неоднократно пыталась его свергнуть.
– Конечно, – кивая, сказал Келл, – я просто хотел убедиться, что у вас, ну, всё в порядке. Нам всем нравится Ренье.
Вспомнились давнишние жалобы Дона, что Келл его задирает и даже пригрозил избить, если он не оставит Грейс в покое. А теперь брату нужно было подтверждение того, что ее отношениям с Ренье ничто не угрожает.
Ах, если бы так и обстояли дела!
В эти первые четыре года замужества Грейс стало ясно, что она безнадежно несовершенна. Должно быть, именно по этой причине отец вечно сравнивал ее с Пегги. Теперь и муж явно думал, что ей требуется постоянный инструктаж. И это касалось не только уроков французского – они шли великолепно благодаря ее способностям к подражанию, которые учителя в Академии всегда описывали как безупречные, за что большое им спасибо, – или даже занятий с отцом Такером, где речь шла о европейских политиках и членах монарших семей (в результате Грейс полагалось усвоить, кто есть кто, откуда родом и в каких драмах были замешаны предки каждого упомянутого лица за последние несколько столетий). Необходимость такого обучения она понимала.
Нет, были еще и бесконечные тирады о неправильных букетах во дворце или неверной расстановке мебели в приемной, когда там требовалось разместить как можно больше гостей! Казалось, что муж все время собирается сказать: «Соображать надо, Грейс!» И эти постоянные вопросы, сделала ли она то-то и то-то, будто ей ничего не известно об этикете! «Ты уже написала благодарственные письма? Не хотелось бы, чтобы Ари или Виндзоры удивлялись, почему это мы до сих пор их не поблагодарили» или «Ты уже начала планировать празднование Рождества? Лучше бы с этим не затягивать».
В последнее время Ренье взялся за ее внешность. «Ты не думала отрастить волосы? Тебе не кажется, что короткие стрижки немного устарели.?!» Или: «Давай на этой неделе обойдемся без десертов, не возражаешь?» И это как раз когда она всего несколько недель назад родила Альби и чувствовала, что весь ее организм просто горит и вибрирует, вожделея единственного дозволенного ему удовольствия: шоколадного торта.
В этих критических замечаниях было что-то очень знакомое, почти утешающее, они словно подтверждали то, что она и так о себе знала: ей нужно многому учиться. Всегда. Знакомым казалось и раздражение, которое вызывали эти уроки; она злилась, чувствуя, что умеет больше, чем думают другие, хоть и считается, что ей не справиться как следует со своими обязанностями. Жалобы Ренье подпитывали уверенность, что все ее действия всегда будут недостаточны, а любые достижения слишком малы, даже если она из кожи вон вылезет.
Может быть, именно по этой причине Грейс так и не стала звездой Бродвея: она недостаточно старалась. Позволила себе отвлечься на Голливуд, погнаться за легкой славой кинодивы.
Однако – ах каким чудесным, каким свободным казался ей теперь этот отрезок жизни! «У каждого из нас есть свои ограничения, – сказал ей Кларк Гейбл примерно десять лет назад. – Когда-нибудь ты поймешь, что тебе незачем размениваться на то, чего у тебя нет. Достаточно того, чем ты обладаешь».
«Кажется, я начинаю понимать, о чем ты говорил, – мысленно ответила ему Грейс. – Надеюсь только, что это произошло не слишком поздно».
Однако, похоже, целый кусок ее жизни оказался стертым, когда Ренье запретил показывать в Монако фильмы с ее участием. Их нельзя было крутить ни в одном кинотеатре.
– Но почему?! – спросила она почти четыре года назад, ошарашенная и оплывшая, потому что под сердцем у нее уже росла Каролина.
– Я думал, ты поняла, когда мы говорили насчет жертв. И насчет того, чтобы начать с чистого листа, – ответил он.
«А от чего отказался ты? – подумалось ей тогда. – От каких грехов?»
– И посмотри, что ты получила взамен, – ласково сказал он, кладя руку на ее тугой округлившийся животик. Младенец внутри нее как по команде брыкнул ножкой. – Видишь? – с теплой отеческой улыбкой проговорил Ренье. – Это наше новое начало.
Что она могла ответить? Ведь муж был прав. В некотором смысле. Разве нет?
* * *
Проведя несколько дней с американской родней, дети с няней вернулись в Монако, а Грейс осталась в Ист-Фоллс с умирающим отцом. Обнимать на прощание маленьких Каролину и Альби было мукой. Грейс удалось не расплакаться, когда малыши поднимались по трапу самолета, но, когда они исчезли из виду, ей пришлось сильно прикусить кулак, чтобы не сломаться прямо в аэропорту. «Дети-дети…» – думала Грейс. Она так сильно любила их, что в их присутствии чувствовала себя незащищенной, полностью открытой. Иногда, как недавно в каноэ, это становилось чистой радостью, и она заражалась от ребятишек веселым легкомыслием. А иногда, вот как сейчас, будто падала со скалы, и сердце, сжимаясь, билось где-то в горле.
К счастью, у Форди сегодня был выходной, поэтому слушать, как она давится рыданиями всю дорогу от аэропорта до Генри-авеню, пришлось какому-то постороннему таксисту. Во всяком случае, дети радовались, что возвращаются домой, к отцу. Ренье был очень ласков с ними – временами даже слишком ласков, порой думала Грейс. Он покупал все, что они пожелают, и был готов в любой момент поиграть в щекоточного монстра или в лошадку, даже если мать собиралась их укладывать и не хотела, чтобы они снова разгулялись. После единственного круга по своей спальне на спине отца, издававшего конское ржание, дети не могли заснуть самое меньшее полчаса, на следующий день, не выспавшись, капризничали, а справляться с ними приходилось ей. Как-то раз она попросила Ренье перенести эти глупые игрища на утро, но он всего лишь сказал: «Не бери в голову, Грейс.
Мы же просто веселимся». Что ж, во всяком случае, он был демонстративно любящим отцом. В отличие от ее собственного.
– До чего же похоже на папу, верно? – сказала как-то вечером захмелевшая Пегги. – Умирать так, что мы в ожидании все ногти себе сгрызли. Он и жил в точности так же.
Неприязненные высказывания в адрес отца были так нехарактерны для старшей сестры, его дорогой Ба, на протяжении многих лет обожаемой и воспеваемой любимицы, что Грейс задумалась, какие еще обиды таятся под внешней идиллией. Однако она не задавала вопросов, потому что сомневалась, понравятся ли ей ответы.
Во время рейса из Франции в Филадельфию Грейс грезила, как будет сидеть у отцовской постели, протирать губкой его лицо и читать ему газеты, а он отдастся ее заботам и однажды, всего лишь один раз, скажет: «Спасибо, Грейс. Хочу, чтобы ты знала, что я тобой горжусь. Я знаю, все эти годы ты очень старалась». Совсем как Лир, который в конце концов осознал преданность Корделии, а в горячке даже принял ее за ангела.
Но отец никого не звал, и сиделка всегда сама протирала ему лицо, не допуская к этому никого другого. Как-то поздним вечером Грейс отправилась погулять в Макмайл-парк, располагавшийся через дорогу от их дома, и села на качели, которые так любила девочкой. Тогда она раскачивалась на них все сильнее и сильнее, взлетала все выше, отталкиваясь длинными худыми ногами и чуть ли не взлетая всякий раз, когда оказывалась в верхней части перевернутой дуги: ее неизменно подкидывало от сиденья минимум на дюйм.
Если бы она не держалась так крепко за цепи, то все могло бы кончиться печально, но искусство раскачивания было освоено ею в совершенстве.
В тот вечер Грейс, усевшись на качели, закрутила цепи вокруг своей оси, а потом позволила им раскрутиться, отчего ее слегка затошнило. Она уже собралась вставать, когда на соседние качели уселся не кто иной, как Форди.
– Твоя свита интересуется, куда ты девалась, – сказал он.
Это не было упреком. Форди скорее забавляло, что телохранители ошиваются вокруг дома семьи Келли.
– Ах, эти… – проговорила Грейс. – Иногда я прикидываюсь, что забыла о них, что моя жизнь по-прежнему принадлежит мне.
– Твоя жизнь всегда принадлежала тебе, Грейс. Ты доказываешь это снова и снова.
– Разве? – усмехнулась она. – Мне почему-то так не кажется.
Он с минуту помолчал.
Тогда она, кое-что сообразив, произнесла:
– Прости, Форди. Наверное, я выразилась, как жутко избалованная девчонка. Как твоя дочка?
Форди широко улыбнулся, и Грейс заметила, как за его спиной с жужжанием пролетел ярко-зеленый жук. Потом еще один и еще.
– У нее все отлично. Преподает, на акции ходит. Встречается с молодым человеком, он и правда славный. Нам с ее матерью очень нравится.
Грейс тоже улыбнулась:
– Я рада. Если он тебе нравится, значит, наверняка хороший человек. – И подумала: «А понравился ли тебе Ренье, когда ты его увидел?»
– Да, хороший, – согласился Форди. – Но, конечно, не князь, – засмеялся он.
Она тоже засмеялась, хотя ей было не смешно.
– Мне очень жаль, что ты не счастлива, Грейс. И очень жаль, что твой отец умирает. Я сочувствую тебе, но никакие мои слова ничего не изменят.
Грейс заморгала, пытаясь загнать обратно слезы, подступившие к глазам от этих слов, сказанных таким ласковым голосом, но они все равно просочились и покатились по щекам. Она хлюпнула носом и стала хлопать по карманам, но не нашла ни платка, ни салфетки. Форди вложил ей в руку безупречно выглаженный носовой платок.
– Спасибо, – хрипло проговорила она и вытерла нос.
– Хочешь верь, хочешь не верь, Грейс, но мне вовсе не кажется, что ты ведешь себя как жутко избалованная. Ты ведешь себя как девушка, которая любит своего отца, знает, что вот-вот его потеряет, и не понимает, как с этим жить. – Форди замолчал, и Грейс тихонько всхлипнула в его носовой платок, теперь уже мокрый и смятый, от которого исходил приятный запах их машины и мятной резинки, которую он всегда жевал.
– В жизни многое остается недосказанным, – продолжил он, – а вслух далеко не всегда говорятся самые лучшие вещи. Мы можем только учиться на ошибках тех, кого любим, и стараться быть лучше, чем они. У тебя это отлично выходит, Грейс. Я видел тебя с твоими ребятишками. Они тебя любят, а ты обращаешься с ними как с принцем и принцессой… ведь они и есть принц и принцесса. Вот и продолжай в том же духе. Это и исцелит боль, которую ты сейчас чувствуешь.
– Ты так думаешь? – икнула она.
– Я знаю, – ответил он, и это прозвучало так решительно, что его вера в собственные слова успокоила разыгравшиеся нервы Грейс.
Она перестала плакать и глубоко вздохнула. А потом неожиданно широко зевнула, выгнув спину и томно потянувшись с поднятыми руками.
– Спасибо тебе, – сказала она.
– Всегда пожалуйста, – ответил Форди, и они вместе направились к величественному кирпичному дому, три десятилетия назад построенному Джеком Келли своими руками в классическом федеральном стиле. Этот дом был больше всех соседских каменных домов в тюдоровском стиле, он будто заявлял всякому, кто проезжал мимо: «Я католик ирландского происхождения, но это вовсе не означает, будто я не понимаю, что значит быть американцем».
«Ах, папочка, – подумала Грейс, – ты ведь никогда не останавливался, правда? Даже и сейчас ты стараешься показать свой норов».
* * *
Ближе всего Грейс подошла к долгожданному моменту близости с отцом накануне его смерти, хотя была при этом не с ним, а с матерью. Они вдвоем готовили в кухне сэндвичи и холодный чай, когда Маргарет вдруг положила нож на разделочную доску, бросилась к дочери, крепко обняла ее и прорыдала:
– Я буду так скучать по нему! И по тебе тоже, Грейс. Пожалуйста, останься!
Подобное проявление эмоций было так несвойственно матери, что Грейс сразу поняла, какую власть имеет над людьми смерть близких. Крепко обнявшись, они вдвоем долго стояли на кухне, и Маргарет Майер Келли плакала, а Грейс благодарила Бога за то, что уже отревела свое раньше, в обществе Форди, и теперь могла быть сильной и стать утешением матери. Та проплакала до самого вечера и, когда настал день похорон, криво улыбнулась Грейс:
– У меня не осталось слез. Те наши сэндвичи вышли слишком солеными.
Она больше не просила дочь остаться в Пенсильвании, но, когда Грейс собрала чемоданы и Форди пора было везти ее в аэропорт, пришла к ней в комнату, опустилась на мягкую кровать с выцветшим розовым пикейным покрывалом и похлопала ладонью рядом с собой, приглашая Грейс сесть. Та села и, пытаясь наполнить легкие воздухом, почувствовала, как сердце понеслось бешеным галопом.
– Спасибо, что приехала. И что пожила тут, – сказала мать. – Это было… С тобой было легче… – Тут ее голос сорвался, и Грейс увидела, что глаза Маргарет увлажнились.
Взяв руки матери в свои, Грейс сжала их:
– Все в порядке. Я понимаю. Я вот тоже жду не дождусь, когда вернусь наконец к Каролине и Альби.
Она разговаривала с детьми утром, и ее сердце изболелось от любви и горя.
Маргарет тоже стиснула руки Грейс, и ее пожатие было сильным. Грейс чувствовала, что они с матерью связаны, причем не только прикосновением рук, и надеялась, что эта новая связь со временем станет только укрепляться. Маргарет окинула взглядом комнату и откашлялась.
– Что дальше? – поинтересовалась она вслух.
– Начинай планировать поездку в Монако, – предложила Грейс.
Мать вздохнула, и Грейс поняла, что слышит, как та вновь становится светской дамой из Ист-Фоллса.
– Рано или поздно, – покорно сказала Маргарет. – Хотела бы я позволить себе роскошь сбежать от своей реальной жизни, но есть вещи, о которых мне нужно заботиться.
Игнорируя неправомерный намек на ее собственную жизнь – она ни разу не «сбегала» ни от каких, черт их побери, трудностей, – Грейс поцеловала мать в щеку. Нельзя ожидать, что все переменится в один миг, правда же? Но теперь у нее появилась надежда, и этого было достаточно.
Глава 32
1962 год
Для вечеринки на вилле Онассиса Грейс выбрала голубое платье. Ренье нравилось, когда она носит голубое, к тому же в последнее время он стал таким раздражительным, что ей, пожалуй, было бы не вынести, если бы он вдобавок ко всему остальному раскритиковал еще и ее одежду.
«Прекрати говорить с детьми по-английски. Им надо практиковаться во французском ничуть не меньше, чем тебе».
«У тебя слишком приторные духи. Пожалуйста, прими душ».
«У Альфи найдутся дела поважнее дневных уроков музыки в городе. Я сам буду планировать его день».
«Почему ты больше не улыбаешься, Грейс? Я хочу только твоего счастья».
У Ренье сейчас напряженное время, напомнила она себе. Де Голль угрожает отключить в Монако электричество, если они не введут в княжестве определенные налоги на бизнес, а Аристотель Онассис вечно норовил сунуть свои пять центов в виде непрошеных советов и постоянных звонков, от чего у Ренье частенько портилось настроение. Внутреннему голосу, который твердил, что муж и до кризиса был не слишком мил с ней, она велела замолчать.
Однако управлять закосневшим в своих привычках княжеством весьма непросто, и Ренье горел желанием обновить страну. И Грейс считала своим долгом везде, где можно, облегчать ему жизнь и оказывать всяческую помощь. Проблема в том, что, если она принимала решение, не посоветовавшись с мужем, тот непременно находил в нем какие-то недостатки.
«Может, мы и живем во дворце, Грейс, но тратить столько на цветы для мероприятия в больнице недопустимо».
В такие моменты она чувствовала, как на кончике языка вертятся ехидные ответы, но усилием воли заставляла себя проглотить их. Конечно, Грейс не собиралась говорить, что считает многие решения Ренье (особенно относительно масштабного строительства в их маленьком княжестве) неразумными и недальновидными. С ее точки зрения, Монако природными красотами и относительной уединенностью уже давно привлекало богатых людей, которые подолгу жили тут и вносили свой вклад в экономику страны. Она считала, что развивать княжество надо, извлекая выгоду из прибрежного великолепия и туристов, предлагая им как можно больше культурных возможностей, а не застраивать каждый свободный пятачок все новыми отелями, апартаментами и банками.
Отчаяние и сумятица ее семейной жизни влияли и на ее обращение с детьми. Грейс ничего не могла с этим поделать и ненавидела себя за это. Будучи постоянно на взводе, она вырывала из рук Каролины и Альби взятое без спроса печенье или не разрешенные игрушки, сердито браня детей за непослушание. Однажды нервы сдали настолько, что она даже укусила Каролину, чтобы отучить ее кусать Альби, – пусть несильно, но все-таки укусила, а потом сказала:
– Видишь, как больно? Ты же не хочешь, чтобы твоему братику было так больно?
«Боже мой, я выражаюсь совсем как он!» – в слезливом настроении призналась себе Грейс за очередным бокалом вина в конце очередного бесконечного дня. И обещала себе утром подольше повозиться с детьми, подольше почитать им, чтобы загладить свое поведение накануне. Однако к концу следующего дня нетерпимость почему-то неизбежно возвращалась.
Трудно точно понять, когда именно их отношения с Ренье дошли до столь плачевного состояния. Это произошло не в какой-то определенный момент, скорее, в результате серии эксцессов, каждый из которых сам по себе не казался слишком, ужасным, у каждого имелась предыстория и объяснение. Но теперь, когда тяжесть из-за них накопилась, Грейс чувствовала себя совершенно вымотанной от постоянных попыток решить, как себя повести, чтобы не особенно разозлить Ренье. Она вышла за него, потому что ощущала себя рядом с ним любимой и защищенной, но теперь подобное случалось так редко, что, когда это все-таки бывало, с трудом верила в реальность происходящего.
Теперь Грейс понимала, что самой большой ее ошибкой было закрыть глаза на вопрос своей карьеры и не настоять на пункте в брачном контракте, который позволил бы вернуться к работе. По прошествии шести лет замужества невозможно было даже вообразить, что она поднимет эту тему. Месяц за месяцем неумолимо катились вперед, и казалось, что иначе не будет уже никогда, не будет ничего, кроме бесконечного «сейчас». «Сейчас» ей всегда приходилось тревожиться, сглаживать острые углы, льстить, суетиться. И это «сейчас» было совершенно непосильным и всепоглощающим.
Ренье никак не прокомментировал выбранное ею платье, и Грейс радовалась, что не раскритикована, пока не поняла, что ей не сказали и о том, как она хорошо выглядит. Когда муж в последний раз говорил ей, что она красивая? Вспомнить было невозможно. Она посмотрела вниз, на коктейльное кольцо с сияющим аквамарином, которое он подарил ей всего несколько месяцев назад, на шестую годовщину их свадьбы, и подумала: «Он меня любит. Может, он не говорит об этом так часто, как мне хотелось бы, но это же просто моя женская прихоть. Он демонстрирует мне свою любовь как может и очень старается».
В великолепном пентхаусе Аристотеля, где все мужчины были одеты в смокинги, а женщины щеголяли в роскошных платьях и массивных драгоценностях и все выглядели как нельзя лучше, Грейс получила множество комплиментов, но ни одного из них не сделал ее муж. Вечер тянулся, она играла свою обычную роль, постоянно следя, не нужно ли спасти Ренье от какого-нибудь неприятного разговора, принести ему стакан воды, придумать повод уйти пораньше и так далее, а его настроение постепенно портилось. Вначале она услышала, как он ворчит о «тисках игорного вымогательства» в Монте-Карло; час спустя прозвучало: «Я всецело за папу и его Ватиканский собор, но, надеюсь, его реформы не дадут нашим детям оснований думать, что теперь все будет сходить им с рук».
Ближе к полуночи они сидели на диване с Тиной Онассис и ее подругой Розалиндой Шанд, знакомой Грейс по Англии, втроем обсуждая телевизионную экскурсию, которую Жаклин Кеннеди провела по Белому дому. Хотя специальный выпуск и вышел в эфир несколько месяцев назад, он казался достаточно важным; чтобы до сих пор о нем говорить.
– Думаю, она справилась великолепно, – сказала Тина. – Ухитрилась быть просто женщиной, которая хвастается своим домом и рада гостям, хотя дом не какой-нибудь, а Белый и живет она в нем с Джоном Сердцеедом Кеннеди. Журналисты до сих пор не успокоятся.
– Все Кеннеди всегда отлично управлялись с прессой, – заметила Розалинда, которая, будучи несколькими годами старше Тины и Грейс, дебютировала в свете еще до войны. – Когда отец Джека был послом, то умудрился добиться всеобщей любви. Во всяком случае, на какое-то время. Пока по его политике не стало ясно, какой он змей.
– Ну, Роз, Англия вряд ли была райским садом, – с добродушным смехом попеняла ей Тина.
Грейс не хотелось, чтобы разговор свернул на политику военного времени, которую, как она успела понять, любили обсуждать в Европе. К тому же она немного знала Жаклин: несколько лет назад, когда та была женой сенатора, а сама Грейс – восходящей звездой кинематографа, они встречались в Нью-Йорке. Грейс было несколько неуютно в обществе Жаклин, которая все время казалась немного нервной. В то время она не понимала, почему эта красивая брюнетка словно постоянно произносит отрепетированные речи. Теперь-то это стало абсолютно ясно.
– Думаю, она старалась как могла, – сказала она Тине и Розалинде, – хоть и выглядела порой немножко бестолковой, как жизнерадостный щенок.
Розалинда фыркнула:
– Уверена, у нее не было вариантов. Ее папаша вынудил Кеннеди, готова деньги на это поставить.
– Ну, всем нам приходится совершать неприглядные поступки во имя доброго имени семей наших мужей, ведь так? – задумчиво протянула Тина, стрельнув глазами в сторону Ари.
– И наших собственных отцов, – добавила Розалинда, многозначительно кивнув Тине, отец которой был магнатом-судовладельцем вроде Аристотеля.
Тинино замужество скрепило союз двух этих могущественных мужчин.
– Ну да, – сказала Грейс, вдруг почувствовав себя неуютно, будто нечаянно выпустила пауков из банки. Ей захотелось вставить в беседу какую-нибудь более театральную реплику, о душевном состоянии Джеки, а не о том, что ту заставили или не заставили сделать. – Она сумела провернуть все это красиво, хоть и нервничала. Может, это заметила только я благодаря своей профессиональной подготовке.
– Думаю, большинство домохозяек смотрели не столько на нее, сколько на ее платье и макияж, – заметила Тина.
– А у кого она сейчас одевается? – полюбопытствовала Розалинда.
Грейс совершенно точно знала, кто из модельеров сделал первую леди Америки своей музой, но вовсе не собиралась сообщать об этом вслух. Она позволила Тине произнести имя Олега Кассини, после чего та с намеком устремила взгляд густо подведенных глаз на Грейс, которая надеялась, что ей удалось сохранить выражение лица загадочным, каку сфинкса.
Она сидела, откинувшись на спинку дивана, на подлокотник которого как раз в это мгновение опустился Ренье. Грейс резко выпрямилась и прижала ладонь к груди, а ее сердце испуганно зачастило.
– Я вовсе не собирался пугать тебя, дорогая, – усмехнулся муж. – Или ты встрепенулась от упоминания предмета твоей давней страсти?
– О боже… – обронила она, выравнивая дыхание и не смея что-то сказать об Олеге или о замечании Ренье, в котором явно слышалась насмешка.
«Актеры, евреи и модные кутюрье, – сказал как-то раз ей Келл, хотя сейчас она слышала у себя в голове эти слова, произнесенные голосом Ренье. – Такая разношерстная компания! Только посмотри, как далеко ты зашла».
– Мы разговаривали об экскурсии по Белому дому, которую устроила Жаклин Кеннеди, – пояснила Розалинда, живо включая Ренье в разговор.
– Ах да, жена и спасительница Джона Фицджеральда Кеннеди! – саркастично произнес Ренье, раскинув руки. – Всем известно, что у этого бедняги – брак по расчету. Он же все время сох по Мэрилин Монро, да, дорогая? Что за историю ты мне как-то раз рассказывала?
«Бедняга»? Грейс вдруг охватило желание выплеснуть содержимое своего бокала в лицо Ренье. Вот бы резко реагировать на неприятные высказывания в жизни было так же легко, как в кино! Ей бы хотелось получить удовольствие от тех пощечин, которые она давала на экране Кларку Гейблу и Уильяму Холдену.
Но, как обычно, винить за комментарий Ренье Грейс могла только себя: это она рассказала ему историю, которую с тех пор была вынуждена неоднократно повторять. Каждый раз, когда Ренье упоминал ее, Грейс хотелось что-то в ней смягчить, развернуть другим боком. Сегодня вечером с нее было довольно, и она холодно бросила:
– Почему бы тебе не рассказать ее самому, дорогой?
Явно не обратив внимания на ее тон и довольный тем, что мужья остальных двух женщин тоже присоединились к их компании, расширив аудиторию, Ренье улыбнулся:
– Ну, Джон, еще будучи сенатором, лежал в больнице после операции на спине, а Грейс, будучи Грейс, написала Жаклин, как она сочувствует ее мужу, и спросила, не может ли чем-то помочь. – Он сделал паузу, определенно чтобы насладиться выражением жадного внимания на лицах Тины и Розалинды. – А Жаклин пригласила ее навестить Джона, вроде бы в шутку, потому что он вечно жаловался на невзрачность больничных медсестер, и Жаклин подумала: что он скажет, если, надев медицинскую униформу, к нему явится Грейс Келли?
Он хохотнул и продолжил:
– Итак, Грейс надевает белый халат своей подруги и отправляется в больницу навестить Джона, а Жаклин очень тепло принимает такую идею. И что же видит Грейс, когда приходит в отдельную палату Джона? Что на потолке над его кроватью висит плакат с мисс Монро в натуральную величину!
Ренье разразился знакомым удовлетворенным смехом, и Грейс понимала, что сейчас, смеясь, он сбрасывает часть накопившегося за вечер напряжения. Ари и муж Розалинды Брюс присоединились к нему, пока Розалинда с невозмутимым лицом потягивала свой напиток, а Тина смотрела на Грейс широко раскрытыми глазами, в которых читалась насмешка. «Ну а чего нам было ожидать, cherie? – взглядом ответила подруге Грейс. – Я знаю».
– И что же он сказал, – поинтересовался у нее Ари, – когда увидел вас?
– Ничего, – ответила Грейс, стараясь говорить легким тоном. – Его так накачали успокоительными, что он не мог даже толком открыть глаза.
Но Ренье, Аристотель и Брюс так хохотали, что вряд ли услышали ее ответ.
В машине на обратном пути во дворец Грейс молча смотрела в окно, почти ничего не говоря мужу, пересказывавшему беседы, которые вел во время вечеринки, и наконец добрался до своего триумфального исполнения истории про Джона Кеннеди и Мэрилин. Когда Грейс ответила на это лишь мимолетной улыбкой и словами: «Да, здорово», Ренье на минуту примолк. Она чувствовала, как атмосфера в автомобиле сгущается, а температура стремительно падает. «Не обращай внимания, – уговаривала она про себя мужа. – Пожалуйста, просто ничего не говори об этом, и все».