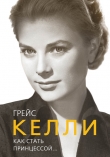Текст книги "Жизнь в белых перчатках"
Автор книги: Керри Махер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Глава 19
1975 год
По виду конверта нельзя было заподозрить, что в нем содержится нечто важное, но едва Грейс прочла напечатанное на пишущей машинке письмо от английской журналистки по имени Гвен Робинс, как остро ощутила, что сейчас у нее в руках новые возможности. Гвен связалась с Грейс, чтобы сообщить, что пишет ее биографию, сосредоточившись главным образом на годах, посвященных карьере в кино, и узнать, нельзя ли взять у нее интервью. Она предъявила все сведения о своей профессиональной квалификации и о будущем издателе книги, и все это вместе говорило о ней как о заслуживающей доверия писательнице, пусть даже Грейс никогда раньше не видела ничего из ее произведений.
К Грейс не в первый раз обращались с подобной просьбой, но, поскольку все публикации об их семье носили либо лубочный, либо поверхностный характер, они с Ренье стали весьма осторожно относиться к интервью. Однако не вся сплошь пишущая братия состояла из аморальных типов. Например, совсем недавно Грейс беседовала с молодым Дональдом Спото, серьезным американским историком кино, очарованным творениями Хичкока, и была под впечатлением от глубины и широты его знаний, а также оттого, какие умные вопросы о режиссере он задавал. Она даже предложила написать предисловие к будущей книге.
Грейс держала в руке хрустящий листок формата А4, сложенный в три раза, чтобы он поместился в конверт, и чувствовала странную тягу к женщине, написавшей это письмо. В его тоне было что-то молящее, даже самоуничижительное. «Я хочу убедиться, что располагаю верными фактами, – писала Гвен. – Лишь вам известна правда… Я не намереваюсь писать разоблачительную книгу. Я презираю бумагомарак, которые становятся лагерем перед вашей резиденцией».
Сразу отвечать Грейс не стала, но на следующий день выбрала время, вернулась к письменному столу и предложила Гвен прислать ей черновик рукописи. Она не очень понимала, во что ввязывается, и поэтому нервничала. В худшем случае, как ей стало известно за все эти годы, потом можно просто не ответить. Но, получив фотокопии нескольких сотен страниц будущей книги, Грейс с наслаждением в них погрузилась.
Гвен писала в том дружеском, разговорном стиле, который так нравился многим женщинам. Чтение ее книги напоминало обед с хорошим другом – и она определенно отлично подготовилась. Описание Генри-авеню было таким точным, что Грейс даже засомневалась, не слетала ли Гвен туда из Лондона, чтобы увидеть все своими глазами. Ее оценки ролей Грейс заставили ту рассмеяться – кинокритиком Гвен точно не была. Радовало и то, что не была она и голливудской жительницей, потому что, когда повествование дошло до Дона, Рэя Милланда, Джина и Олега, Грейс пришлось притормозить. Может, сама Гвен никогда и не жила в Голливуде, но определенно пообщалась с кем-то из тамошнего народа.
Грейс задумалась, кто мог столько всего о ней наболтать. «Скорее всего, это Дон», – с сожалением подумала она. С годами в нем появилось что-то от брюзгливого трепача, к тому же ей казалось, что он недоволен окончанием ее карьеры, приняв это событие чересчур близко к сердцу. После нескольких писем, где он оспаривал ее решение оставить актерство, Грейс была вынуждена несколько отдалиться от Дона и позволить их переписке заглохнуть.
Кого еще интервьюировала Гвен, на самом деле не имело значения. Многие знали, что происходило в начале пятидесятых годов, и по прошествии лет уже не считали нужным держать язык за зубами, поэтому их рассказов хватило на целую книгу. А Гвен – что ж, она просто пыталась сделать свою работу, это Грейс было ясно.
Однако она тревожилась по поводу Ренье. Он никогда не простит ей, если выйдет книга, описывающая ее добрачные амурные приключения, – особенно если станет известно, что Грейс читала черновик и ничего не сделала. Этот материал существенно отличался от тех интервью, которые мать дала во времена ее помолвки каждой крупной американской газете. Потом Ренье, в ту пору еще ухаживавший за ней, сказал: «Ты не можешь контролировать, что говорит о тебе мать» и «Право же, Грейс, может, у них там дурной вкус, но она едва ли говорила что-то гривуазное. В ее интервью сплошные недомолвки». А теперь, Грейс не сомневалась, он требовательно спросит: «Как ты выглядишь после всего этого? И как выгляжу я?» Он сможет увидеть в этой книге лишь прошлое, которое он изгнал из княжества вместе с ее фильмами, когда они поженились. Неважно, как там Гвен описала свой замысел: ее книга была откровенной и обнажала неудобную правду о любовных похождениях Грейс, на которые мать благоразумно напустила туману.
Грейс с удивлением обнаружила, что ей хотелось бы изменить книгу и ради себя самой. В конце концов, она ведь отреклась от всего, что когда-то любила, ради того, чтобы стать княгиней. Ничего хорошего не выйдет, если самые запутанные истории из ее актерского прошлого всплывут сейчас и затмят собой все ее труды на благо княжества в качестве Грейс Монакской или, хуже того, дадут ее дочерям право вести себя так же, как когда-то она сама! «У тебя были романы с женатыми мужчинами?» – скажет Каролина, а Грейс только и сможет смотреть ей в лицо, на котором прочтет обвинение, разочарование и облегчение разом. Нет, нельзя допустить, чтобы это случилось.
Выполняя свои обязанности на протяжении следующих нескольких дней, Грейс думала, что же ей делать с Гвен. Ей очень хотелось спросить у дяди Джорджа, как поступить. Бедный, непонятый, оклеветанный дядя Джордж! И бедный Уильям Уигли, которого год назад даже не пригласили на похороны Джорджа. Ему пришлось незаметно прокрасться в церковь, постоять в задних рядах и уйти до того, как все закончится, будто он вор, тайком явившийся вернуть украденный драгоценный камень. Грейс подумала, что надо бы не забыть написать ему и пригласить погостить летом в Рок-Ажель.
Нервы были натянуты, она избегала говорить на эту тему с Ренье и думала, что лучше бы ей не отвечать на письмо Гвен, не ввязываться в эту историю. Когда третье утро подряд началось с кусочка подсушенного хлеба и чая, потому что желудок больше ничего не принимал, Грейс решила, что у нее есть лишь один путь: попытаться воззвать к Гвен как женщина к женщине.
Она послала журналистке приглашение в Монако, которое та незамедлительно приняла. За неделю до ее приезда Грейс встретилась с Мари за обедом в Париже, где давняя подруга как раз отдыхала с семьей, и поймала себя на том, что за едой не переставая говорит и говорит, как беспокоится о дочерях, книге Гвен, возможной реакции Ренье и еще куче проблем, связанных с ее работой в княжестве. Неожиданно Мари положила вилку и пылко произнесла:
– Ты должна что-то придумать для себя, Грейс. Какое-то занятие, которое поможет тебе вспомнить, кто ты такая на самом деле. А то ты словно растворилась в тех, кто тебя окружает.
– Я знаю, кто я такая, Мари, – возразила Грейс, пытаясь перевести все в шутку, потому что иначе боялась расплакаться.
Знание о том, кто она на самом деле, пронизывало ее до мозга костей, тех самых усталых и измученных костей, которые ей так хотелось пристроить в каком-нибудь мягком и уютном месте. Она знала, кто она есть. Кем она была.
– Наверное, «вспомнить» – неподходящее слово, – проговорила Мари, размышляя вслух, – потому что люди меняются. Я знаю, что ты уже не звезда Голливуда. Но ты можешь быть кем-то большим, чем княгини Монако?
Грейс расхохоталась:
– Большим, чем княгиня?
– Думаю, ты отлично понимаешь, о чем я. – На этот раз подруга смотрела на нее серьезно, подняв брови и сжав губы в тонкую линию.
– Понимаю, – сказала Грейс. Потому что именно так оно и было.
Она до сих пор тосковала по актерской карьере и за минувшие два десятилетия не нашла ей никакой реальной замены: не годилось ни покровительство искусствам, ни благотворительность. Ни даже материнство, хотя Грейс никогда не признала бы этого вслух, ведь кто в этом мире способен понять, что, хоть она и любит своих детей – и ее любовь к ним, конечно, самая мощная сила в ее жизни, – материнские хлопоты никогда не давали ей того, что давало актерство?
Но в целом Мари была права. Грейс почти растворилась в своих ролях Матери, Княгини, Жены. Она сомневалась, что переживет следующие двадцать лет, если не найдет – и скоро! – новую роль, помимо роли сорокапятилетней женщины из Филадельфии, замужней матери троих детей, супруг которой, так уж вышло, еще и князь.
– Я подумаю об этом, – сказала она, пообещав это и себе самой, а не только подруге детства, одной из немногих, кому она доверяла, потому что они знали Грейс Келли, когда ничего еще не началось.
* * *
Однажды пасмурным днем, когда Ренье уехал по делам, Грейс встретилась с Гвен Робинс за чаем с булочками. Та оказалась лет на десять старше, и возраст был ей к лицу. В густых каштановых локонах появилась седина, теплые задумчивые глаза смотрели из-под густых бровей.
– Я очень благодарна, что вы согласились со мной встретиться, – сразу начала Гвен, пожимая руку Грейс.
– Нет, это вам спасибо за то, что вы спросили моего мнения относительно моей биографии, – ответила Грейс. – Текст очень хорош.
«Это важная роль, – пронеслось у нее в голове. – Смотри не провали ее».
Гвен, казалось, была удивлена:
– Это много для меня значит…
Грейс жестом пригласила ее сесть. Они расположились в самой простой комнате, где дети играли машинками и куклами, пока не выросли. Хозяйка надела тонкие шерстяные брюки, простой джемпер и очки, и выглядела куда менее официально, чем гостья, явившаяся в темно-синем платье по колено, – идеальный выбор, если понятия не имеешь, что надеть. Грейс почувствовала облегчение, увидев, что писательница немного волнуется, не зная, чего ожидать. Это должно было помочь Грейс с воплощением ее плана.
Наливая чай и предлагая Гвен блюдо с булочками и сэндвичами, она объясняла, в каком она – по большей части – восторге от книги, а Гвен краснела от смущения, благодарила и хвалила булочки с коринкой, лучшие из всех, что ей доводилось пробовать за пределами кафе при лондонском чайном магазине «Фортнум и Мейсон».
Потом Грейс перешла к делу:
– Но в вашей книге есть один момент, который меня беспокоит. – Она сделала паузу, и по напрягшимся плечам Гвен увидела, как к той вернулась отступившая было тревога. – Видите ли, я беспокоюсь о моих дочерях. Я потеряю в их глазах весь свой авторитет, если они узнают… некоторые вещи о моем прошлом. Например, про Джина Лайонса и Рэя Мил-ланда. То, что между нами было, право же, совершенно личное дело, и я не стала бы этим делиться ни с одним биографом. Мало того, я ни в чем не призналась даже лучшим подругам, ведь так и поступали леди в наши дни, верно? Но я отвлеклась. Суть вот в чем: как я могу просить дочерей держаться подальше от мужчин определенного типа, если они узнают, что у меня была совершенно противоположная привычка? Мне хотелось бы спасти их от тех душевных мук, которые испытала я сама.
– Но разве такое реально? Уберечь наших детей от ошибок? – с неподдельным любопытством спросила Гвен.
– Может, и нет, – признала Грейс. – Но я наверняка способна уберечь их от неловкого положения. И заодно Ренье с Рэем Милландом, раз уж это меня касается. Понимаете, мистер Милланд с супругой поселились во Франции, неподалеку отсюда, и мы время от времени встречаемся с ними в обществе. Мы все можем оказаться в весьма неудобной ситуации, если всплывет история о той давней ошибке, которую мы с мистером Милландом совершили. Уверена, вы понимаете, Гвен. У вас есть роскошь частной жизни, и я уверена, вы особенно это цените, будучи писательницей с воображением, способным так точно описать жизни тех из нас, кто почти не обладает этой роскошью.
«Хватит болтать», – велела себе Грейс. Она много чего еще могла сказать, но почувствовала, что пока на этом надо остановиться. Пусть усвоится уже сказанное.
Гвен задумчиво попивала чай, держа блюдечко под чашкой. Для такого случая Грейс использовала фарфоровый сервиз «Серебряный юбилей». Пусть сейчас Гвен и не смотрела на число «25», выведенное серебром на тонких чашечках (в очертании цифр угадывался профиль мужа Грейс), она явно заметила, из чего пьет. Сейчас ее непонятно что выражающий взгляд был устремлен на одну из розочек обивки дивана, на котором сидела Грейс: лодыжки ног скрещены, руки со сплетенными пальцами покоятся на правом колене.
– Я могу это понять, – сказала писательница, ставя звякнувшую чашку обратно на блюдце.
– Как я рада! – с улыбкой откликнулась Грейс.
– Это, должно быть… так сложно, – проговорила Гвен, явно тщательно подбирая слова. – Я наблюдаю за тем, как развивается современная журналистика. Она отбрасывает все приличия.
– Не все журналисты такие, – рассудительно заметила Грейс, увидевшая для себя возможность и моментально воспользовавшаяся ею, – только бессовестные папарацци и другие ловчилы.
Гвен кивнула. У Грейс усиливалось ощущение, что они на одной стороне: своенравные девчонки в школьной столовой, которые делятся сэндвичами и историями об учителях.
– Единственная проблема в том, что я не понимаю, как мне восполнить удаленные страницы, – сказала Гвен.
– Ну, – Грейс испустила глубокий вздох облегчения, – в этом я могу помочь. За громадную услугу, которую вы мне окажете, я дам вам эксклюзивное интервью. Вы сумеете заглянуть в мою настоящую жизнь. Я хочу, чтобы люди читали вашу книгу!
Проведя с Гвен два часа, Грейс чувствовала себя триумфатором. Она пребывала в таком воодушевленном и радостном состоянии, что даже решила посвятить во все детали Ренье, который на следующий вечер вернулся в Монако. Поэтому после ужина, когда он сказал, что хочет навестить свой зоопарк, Грейс вызвалась пойти с ним. Ренье подозрительно посмотрел на нее, ведь она годами не ходила туда по доброй воле, но не стал возражать. Когда он предлагал ей посмотреть то на попугая, то на обезьяну-игрунку, Грейс, как в первые годы их брака, изображала горячий интерес; впрочем, тогда она действительно хотела заинтересоваться всем этим. Сейчас притворяться было куда сложнее. Уже когда они медленно шли к выходу из зоопарка, она спросила:
– Угадай, кто пил вчера со мной чай?
Гордясь собой, она во всех подробностях рассказала Ренье о Гвен и ее книге, однако чувствовала себя все более обескураженной, потому что муж не улыбался, слушая ее.
– Откуда ты знаешь, что ей можно доверять? – спросил он, когда Грейс закончила.
Он остановился, и Грейс остановилась тоже.
– Я просто уверена, – ответила она.
– Женская интуиция, – саркастично заявил Ренье, переводя взгляд с жены обратно, на буйство листьев и воды вокруг его бегемотов.
Внутри Грейс что-то со звоном лопнуло, как перетянутая гитарная струна.
– Думаешь, у твоих драгоценных животных есть хоть что-то, кроме интуиции, Ренье? Ты выказываешь им больше уважения, чем мне, твоей жене.
Он издал на удивление многострадальный вздох. Выносить это сил не было. Наконец он неохотно согласился:
– Хорошо, если ты ей доверяешь, я готов тебе подыграть.
«А если нет… Ладно, лучше просто об этом не думать», – решила Грейс и почувствовала, как в душе у нее что-то сдвинулось.
Это немного походило на былую уверенность, на отвагу, которая в свое время привела ее в Академию, в Голливуд, на Ямайку и даже в Монако. Не об этом ли спрашивала Мари? «Ты можешь быть кем-то большим, чем княгиня Монако?» Способна ли она возродить ту женщину, которой была когда-то и которую так долго игнорировала?
Глава 20
1955 год
Фотографии, которые сделал Хауэлл Конант, и не могли появиться. быстро, но «Коллиерз Уикли» отложил их публикацию на июнь. Вернувшись с Ямайки в свою просторную, свежеотремонтированную квартиру на Пятой авеню, Грейс поразилась нахлынувшему чувству одиночества, несмотря на множество букетов по всем комнатам, присланных Олегом в качестве извинения за ту ревнивую тираду, о которой она думала неделями.
Подбежавший Оливер стал лизать ей ноги, и она, усевшись на один из красивых персидских ковров и прислонившись к бархатному дивану, стала трепать ему мягкие уши и целовать кучерявую макушку. Потом оглядела комнату, богато украшенную и обставленную, как и подобает комнате кинозвезды, – дизайнер интерьеров заверил, что все журналы захотят опубликовать у себя фотографии ее жилища. Оливер забрался на ее вытянутые ноги и млел От ласк.
– Я тоже скучала по тебе, малыш, – прошептала Грейс, чувствуя, как к глазам подступают слезы.
Не значит ли это, что из всех живущих в Нью-Йорке она больше всех скучала по своей собаке?
Не менее чем в четырех комнатах начал звонить телефон – она не могла припомнить, сколько именно аппаратов теперь у нее установлено. Испугавшись, что это Олег, она позволила своей горничной Грете ответить, и через минуту та вошла и тихонько сообщила, что ей звонит Эдит Хэд. Обрадованная Грейс сняла трубку и прижала ее плечом к уху, продолжая гладить Оливера.
– Я так рада, что это ты, – сказала она.
– Дор просто сволочь! – выругалась Эдит. – Слышала, они даже не оденут тебя для «Оскара».
Грейс вздохнула:
– Да. Они… ну, приостановили действие контракта.
– Потому что ты снимаешься в хороших фильмах, а не в той дряни, которую они тебе подсовывают? – Эдит пробормотала несколько отборных эпитетов, а потом добавила: – Тогда к добру, что моя швейная машинка на ходу. И у меня есть для тебя идеальное платье.
Грейс не решалась заговорить, опасаясь, что ее подведет голос.
– Ох, Эдит, – выдохнула она наконец, – спасибо тебе.
– Не позволяй им взять над тобой верх, Грейс! Ты всегда была очень сильной. Когда ты выиграешь приз за фильм, в котором они почти что запретили тебе сниматься, им придется сожрать свой контракт. – Я не выиграю, Эдит, – сказала Грейс. – Выиграет Джуди. Это всем известно.
– В этом городе ничего никогда нельзя знать точно, Грейс. Ничего и никогда. Посмотри хоть на Одри, которая выиграла в прошлом году с «Римскими каникулами», а роль Джорджи Элджин впечатляет куда сильнее, чем роль принцессы. Слушай, вручение «Оскара» всего через неделю. Когда ты сможешь прилететь?
Вдохновленная дружеским участием Эдит, Грейс не спускала Оливера с колен, пока заказывала билеты на самолет и звонила друзьям, приглашая их на ужин в честь новоселья, который она решила устроить перед тем, как лететь на Запад. Ей необходима была вечеринка перед следующим мероприятием: вечерней встречей с Олегом в «Баре Бемельманс». Впрочем, даже жизнерадостная стенная роспись создателя Мэдлин не могла поднять ей настроение.
Когда они с Олегом уселись друг напротив друга за угловым столиком, она произнесла:
– Пока меня здесь не было, я думала и думала, и я просто больше так не могу.
Олег плотно сжал губы, потом оттопырил нижнюю и выдохнул, а потом вытащил серебряный портсигар, прикурил сигарету, затянулся и лишь тогда ответил:
– Я приготовил для тебя платье.
Все перед ее глазами мгновенно затуманилось от слез.
– Я не смогу его надеть… иначе мне будет слишком грустно, – хрипло прошептала она, снова благодаря небеса за Эдит, единственного модельера, чье платье, возможно, позволит ей не думать о том, что сшил Олег.
Неожиданно Кассини словно воодушевился, затушил сигарету и сказал:
– Лучше не грусти. Будь счастлива со мной. Я люблю тебя, Грейс.
– Я знаю, Олег, – ответила она, чувствуя, как растет внутри решимость.
Ей не хотелось напоминать ему об истинных причинах, которые привели к нынешнему положению вещей, потому что не было сил переживать все заново. То, что хранила верность Олегу и даже ни разу не взглянула на другого мужчину с тех пор, как связала себя с ним во Франции, не играло для него роли. Или, во всяком случае, казалось ему недостаточным. Да, в прошлом у нее были другие мужчины, но она выбирала каждого из них и была ему верна до самого расставания. Даже отец не заставил ее сожалеть о принятых ею решениях, и уж тем более она не позволит Олегу это сделать.
– Мне больно представить, что ты выйдешь замуж за кого-то, кого выберут твои родители, – продолжал Олег. – За мужчину, который вынудит тебя отказаться от карьеры ради того, чтобы ходить босой, беременной и в допотопном фартуке.
Грейс рассмеялась:
– Я никогда не соглашусь на такое, Олег. Тебе следовало бы знать меня лучше.
– В том-то и проблема, Грейс. Я слишком хорошо тебя знаю.
Грейс тихо закипала, сидя на своем стуле. Проклятье, да где же ее выпивка?
Ага, вот и она! Едва официант отошел, она сделала большой глоток текилы со льдом, думая о Кэти Хурадо. Что та сказала тогда о разнице между «сильной» и «крепкой»? Грейс не могла припомнить, но благодаря текиле чувствовала, что сочетает в себе оба этих качества, которые уж точно сегодня ей понадобятся.
– И кто же тогда оденет тебя для «Оскара»? Эдит, наверное?
«Вот оно, – подумала Грейс, как будто нуждалась в напоминаниях. – Вот почему между нами все кончено». Олег терпеть не мог присутствия Эдит в ее жизни точно так же, как не выносил мужчин, с которыми она играла в кино, и приходил в ярость из-за ее старых романов. Он хотел быть единственным на все времена человеком, у которого есть право одевать ее и укладывать в постель.
– Я не твоя кукла, Олег, – сказала Грейс.
Олег прикурил новую сигарету и глубоко затянулся.
– Тоже верно. Ты не моя кукла, – наконец проговорил он. – И, надеюсь, никогда не будешь чьей-то еще.
Едва она открыла рот, чтобы сказать, что его ревность не знает границ, он поднял палец, останавливая ее, и добавил:
– Это не потому, что я хочу, чтобы ты принадлежала мне, – хотя я хочу, но это уже неважно, – а потому что вопреки себе я восхищаюсь тобой, Грейс. Мне бесконечно больно, что тридцатого марта ты не наденешь мое платье, но я уважаю твое решение. Я понимаю причины, по которым ты его приняла, и то, что за ними стоит, даже если ты сама не понимаешь.
Этот ответ, который показался Грейс одновременно и достойным признанием поражения, и раздражающе покровительственной отповедью, напомнил Джеффа Джефферса из «Окна во двор». И Берни Тодда из «Деревенской девушки». Черт, да он напоминал ей чуть ли не всех главных героев всех фильмов, которые она видела или в которых снялась. Уж конечно, он мог бы сказать что-нибудь получше.
Не желая продолжать все тот же старый спор с мужчиной, которому она была всем сердцем предана больше года и которого, вопреки всему, все еще любила, Грейс изобразила на лице грустную улыбку и произнесла:
– Спасибо, Олег.
Она уже не могла дождаться, когда вернется домой, к Оливеру, сядет на полу в кухне и возьмет его на колени, хотя ее разбитое сердце будет истекать кровью. Но вместо этого она заказала еще текилы и завела натужную светскую беседу о летней коллекции Олега, пока они не распрощались, глядя друг на друга остекленевшими глазами и обменявшись поцелуями в щечку, почти так, словно всегда были всего лишь близкими друзьями.
* * *
Солнечный свет и привычный порядок жизни в Лос-Анджелесе сразу начали подлатывать ее разбитое сердце. В Нью-Йорке она уходила из дому и часами гуляла с Оливером, чтобы только не снять трубку и не позвонить Олегу. «Это не приведет ни к чему хорошему», – твердила она себе. Если они воссоединятся, то за первоначальным всплеском облегчения и романтики – к которому она стремилась, как умирающий от жажды стремится к воде, – для них обоих последует возвращение в прежнее несчастное состояние.
Надев солнечные очки, Грейс выбрала время, чтобы встретиться за трапезой с дорогими друзьями и поплавать в сверкающей бирюзовой воде бассейна «Шато». Направляясь на примерку к Эдит, она чувствовала себя радостной и даже воодушевленной, но платье цвета розовой гвоздики, которое отложила для нее дизайнер, показалось до странности ярким.
– Не могу поверить, – сказала Эдит, отступая и с изумлением глядя на Грейс.
– Это платье лучше подошло бы Рите, – согласилась Грейс, внутри которой поднималась паника. – Но что же тогда надеть мне?
– Твое платье мятного цвета, – без колебаний заявила Эдит.
– То атласное, которое я надевала на премьеру? – спросила Грейс. Она любила это платье. Возможно, оно было самой любимой ею вещью из наколдованных Эдит, ее феей-крестной.
– А к нему вот это, – сказала Эдит, протягивая пару длинных белых перчаток. – И те твои висячие жемчужные сережки. И никаких ожерелий, – добавила она, постукивая по губам авторучкой. – Мы хотим подчеркнуть эти молочно-белые плечи и ключицы. А волосы зачешем назад и поднимем.
– Биббиди-боббиди-бу! – сказала Грейс.
Эдит нахмурилась:
– Думаешь, фея-драже могла вырасти на завтраках из маринованной селедки и рогаликов? Я так сильно сомневаюсь.
– Волшебство есть волшебство, – отозвалась Грейс.
Эдит наставила на нее тонкий палец:
– Чтобы мне до главного события никаких вечеринок! Пей много свежевыжатого апельсинового сока и воды. Выспись. Похоже, тебе это необходимо. У тебя все в порядке?
– Мы с Олегом расстались, – мрачно буркнула Грейс.
– Хорошо, – похвалила Эдит, недолюбливавшая Олега. Сама она вышла замуж во второй раз – за художника-постановщика Уиарда Инена. – Ты не была его музой, и все же он был тобою одержим. – Она поцокала языком и покачала головой. – Пусть найдет себе другую девушку, чтобы ее одевать. Какую-нибудь более покладистую.
– Эдит, я когда-нибудь встречу мужчину, который будет меня понимать?
– Возможно, – осторожно ответила Эдит, и Грейс услышала сомнение в ее голосе. – Но вначале ты должна сама себя понять.
– Но я понимаю, – заявила Грейс.
Элит ласково провела ладонью по ее руке, сперва вверх, а потом вниз.
– Ты еще слишком молода, чтобы действительно понять себя, – с теплом в голосе сказала она. – Но сейчас не нужно ни о чем таком беспокоиться. Сон и сок – вот все, что тебе надо на ближайшие два дня.
Грейс постаралась следовать совету подруги, добавив в распорядок дня еще несколько купаний в бассейне, долгую прогулку среди холмов и ужин (стейк и салат) с Ритой в «Муссо и Фрэнк».
– Мы едим с божьими одуванчиками, – пожаловалась Рита.
– Шесть вечера – самое разумное время для ужина, – сказала Грейс, отрезая себе кусочек мяса.
– Если тебе шестьдесят, – возразила Рита, гоняя свой салат по тарелке.
– Мне надо сегодня рано лечь, – объяснила Грейс, – Не хочу завтра выглядеть как чучело.
– Ты никогда не сможешь выглядеть как чучело, Грейс, – заверила Рита.
– Будь реалисткой, Рита.
– Ладно-ладно, – согласилась подруга. – Не могу поверить, что Джуди здесь даже не будет. До чего не вовремя решил родиться этот ее младенец!
– Я слышала, что ей в роддом пришлют целую съемочную группу, прямо в палату, – сказала Грейс. – Представляешь себе? Это же ужасно. Если бы я не могла красиво пройти по проходу в одном из платьев от Эдит, то предпочла бы сделать заявление постфактум.
– Наверное, она пытается продемонстрировать, что она – живой человек, а не картинка из модного журнала, – предположила Рита.
Грейс с большим сомнением посмотрела на нее.
– Чего ты? Я всегда стараюсь хорошо думать о людях, – сказала подруга. – Кроме того, мне ее жаль. У нее были трудные времена.
– Это точно. Как ты думаешь, неприятности Джуди – от ранней славы? Или они все равно бы начались, независимо от обстоятельств?
– Судьба или свободная воля? Я всегда склоняюсь к свободной воле, – проговорила Рита.
– А я вот не уверена, – протянула Грейс, думая о своих родителях. Они создали ее из себя, из собственных плоти и крови. Но они еще и воспитали ее. Отделить одно от другого было сложно.
Она зевнула.
– Не пора ли тебе в постель? – спросила Рита. – Я иногда пропускаю этот момент, и тогда, даже если придавлю подушку еще до восьми, к полуночи как штык просыпаюсь.
– Хорошая мысль, – признала Грейс, снова зевая и прикрывая рот тыльной стороной ладони. Она совершенно вымоталась.
Однако стоило ей лечь в кровать, как сон улетучился, и Грейс принялась ломать голову над вопросами, которые остались после разговоров с Эдит и Ритой. Она ведь понимает себя, разве нет? И она отличается от своих родителей, не правда ли? Она – Грейс Келли, вопреки всему, что бы там Джон и Маргарет Келли ни думали о своем третьем отпрыске. Или она – Грейс Келли благодаря тому, что они о ней думают и какой ее сделали?
В конце концов ее совершенно неожиданно утешил и погрузил в сон образ Джуди Гарланд, получающей «Оскар» за лучшую женскую роль в больничной палате, с новорожденным младенцем на руках.