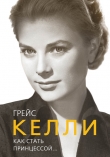Текст книги "Жизнь в белых перчатках"
Автор книги: Керри Махер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
– Ты всегда была очень доброй, Грейс.
– Мне хотелось бы быть не только доброй. Лучше бы я была более надежной подругой, – отозвалась Грейс.
– А ну цыц! – цыкнула Жозефина. – Теперь вот что. Обратиться к тебе с просьбой разместить у себя весь мой выводок я не могу, хоть ты и живешь во дворце.
– Но что, если я подышу тебе другое жилье? Достаточно большое, где-нибудь неподалеку и…
– За разумные деньги.
– С этим мы разберемся попозже. Я бы хотела помочь тебе, чем только сумею. – Грейс помолчала. Сердце громко колотилось в груди, отдаваясь в ушах. – Если ты примешь помощь, – добавила она. – Я пойму, если ты не сможешь или не захочешь этого сделать.
Несколько мгновений на другом конце провода было тихо. Ожидая ответа, Грейс сжимала трубку. Когда Жозефина заговорила, ее голос стал тише, грустнее, тверже:
– Я не могу думать об этом как о милостыне, Грейс. Я должна буду тебя отблагодарить.
– Ты отблагодаришь меня, если снова станешь петь. – «Это я должна тебя отблагодарить, Жозефина» – вот что, если начистоту, ей следовало бы сказать. Но она понимала, что тогда возникшая между ними неловкость лишь усилится. – Ты пела в последнее время?
– Ну… я как раз собиралась снова начать.
– Очень рада это слышать, – проговорила Грейс, и все ее тело наполнилось чувством благодарности, от которого хотелось мурлыкать.
* * *
Собрав достаточно информации, Грейс решила попытаться обработать Ренье. Она оставила эту тему до того времени, когда дети будут уже в постелях, и подала мужу ужин из его любимых блюд.
За жареным цыпленком он заметил:
– На этой неделе ты выглядишь повеселее. Уже подумала насчет дня рождения?
Грейс аккуратно вытерла с нижней губы блестящую каплю соуса из эстрагона и положила наглаженную белую салфетку обратно к себе на колени. Она нарочно не сняла костюм из букле, в котором до этого посещала Красный Крест, желая напомнить мужу о пользе, что приносит Монако от его имени.
– Кажется, я чувствую себя более счастливой, когда помогаю людям. – Грейс улыбнулась, потом испустила глубокий вздох и спросила: – Ты помнишь Жозефину Бейкер?
Конечно, – кивнул он. – Мне всегда нравились ее песни, и она прекрасно себя показала во время войны. Вы с ней вроде бы дружили раньше? – Он улыбнулся жене, и в этой улыбке промелькнуло все лучшее, что только было в его сердце: милосердие, пламенное стремление изменить Монако к лучшему, отцовские чувства к детям, желание дать им самое лучшее.
– Да, дружили, и мне очень жаль, что я не поддерживала эту дружбу, во всяком случае до недавнего времени, – ответила Грейс. Муж вроде бы был в доброжелательном настроении. Казалось, сейчас самое время обратиться к нему с просьбой. – Недавно я узнала, что ей нужна помощь. Понимаешь, ее вместе с детьми выгнали из дома в Дордони.
Ренье нахмурился:
– Ты о ее радужном племени?
– Не надо так их называть. – «Ну вот, начинается, – сказала она себе. – Сохраняй спокойствие».
– У нее двенадцать детей разных национальностей. Ей приходилось продавать билеты в свой замок и демонстрировать этих детишек, как зверей в зоопарке, лишь бы сводить концы с концами.
– Вряд ли она обращается с детьми как со зверями, Ренье. И вообще, как ты можешь такое говорить? Разве животные аз твоего собственного зоопарка для тебя не важнее всего на свете? – «Осторожнее, Грейс, – мысленно предупредила она себя. – Ему известно, что ты не разделяешь его любви к дворцовому зоопарку, и тебе совершенно не нужно, чтобы он занял оборонительную позицию». – В любом случае, – продолжила она, тряхнув головой, чтобы отогнать рассуждения о зоопарках, – Жозефина старается наглядно продемонстрировать, что люди всех цветов кожи и разного происхождения могут счастливо жить вместе. Очень правильная идея, с моей точки зрения. А билеты она продавала в свой сад.
– Раз тебе так нравится, дорогая, можешь в это верить, но это будет всего лишь твоим убеждением, а не истиной.
Ох, до чего же он бывал норой высокомерным и снисходительным! Грейс велела себе не терять самообладания.
– Ты всегда говоришь, – осторожно продолжила она, – что хочешь, чтобы в мире и процветании жил весь народ Монако, а не только те, у кого много денег. И я разделяю с тобой эту миссию.
– И еще ты хочешь помочь Жозефине Бейкер. – Трудно было понять выражение его лица. На нем читалась смесь презрения к взглядам певицы на материнство и задумчивости. Он явно размышлял над словами Грейс.
– Да, – произнесла она, наконец разыгрывая свою козырную карту. – Для меня это стало бы самым замечательным подарком на день рождения. Дом для моей подруги неподалеку от Монако, гарантирующий, что национальное достояние Франции и Америки будет в целости и сохранности.
Она попала в нужную тональность: Ренье откинулся в кресле, прижав указательный палец правой руки к губам. Его взгляд затуманился, как всегда в минуты раздумий.
– Я посмотрела кое-какую недвижимость, – рискнула Грейс.
Ей нравилось быть хорошо подготовленной к разговору. Ренье выслушал ее рассказ о прелестной вилле в Рокебруне, расположенной на том же холме, что и Ларвотто, но чуть выше. Потом Грейс медленно выдохнула и замолчала в ожидании.
– Хорошо, – наконец согласился он, – если это тебя обрадует… Но нам следует придумать и еще какой-нибудь подарок, который я смогу вручить тебе в присутствии наших подданных.
Грейс вскочила со своего места, обежала вокруг стола и поцеловала Ренье в щеку, а потом опустилась у его кресла на колени, держа мужа за руку. Она чувствовала себя по-настоящему счастливой, грудь словно наполнилась пузырьками, которые шипели и поднимались вверх, будто в бокале шампанского.
– Можешь подарить мне все, что тебе захочется.
Он улыбнулся и провел пальцем по ее подбородку. Впервые за долгое время от этого прикосновения по ее спине пробежала дрожь, похожая на дрожь вожделения; Она поцеловала мужа в губы и сильнее сжала его руку, прошептав:
– Спасибо тебе.
Князь повернулся в кресле, потом соскользнул с него на пол. Теперь они оба, коленопреклоненные, стояли лицом друг к другу. Ренье обнял Грейс и прижал к себе, они снова поцеловались. Она закрыла глаза и глубоко погрузилась в воспоминания, ища похожий момент, похожие ощущения, а когда нашла, то крепче поцеловала мужа и позволила ему уложить ее на пол.
Глава 2
1949 год
Ее голос по-прежнему отказывался ей подчиняться. Проклятье! Он все еще звучал очень гнусаво. Грейс снова включила электрический чайник и положила ложку соли в белый с голубым фарфоровый заварник, который купила в Чайна-тауне почти сразу после того, как перебралась в Нью-Йорк. Он совсем не подходил к чашкам из настоящего китайского сервиза, привезенным ею из дома матери (изящных, из тонкого фарфора с розовыми и золотыми цветами), но ничуть не хуже служил с тех самых пор, когда она переехала в эту каморку на Шестьдесят третьей улице. Пусть на деньги, заработанные ею в качестве модели, можно было позволить себе целый чайный сервиз от «Тиффани», эти разнородные посудины полностью ее устраивали, будто иллюстрируя сочетание двух образов жизни: на Генри-авеню и куда более авантюрного, городского.
Когда вода закипела, Грейс наполнила ею заварочный чайник и помешала в нем палочкой для еды, приобретенной в том же магазине Чайна-тауна, самого южного района острова Манхэттен. Магазин находился над рыбной лавкой, там ужасно воняло водорослями и треской, но зато, как всем было известно, в нем продавались самые дешевые предметы домашнего обихода, необходимые каждой девушке из «Барбизона», чтобы обустроить свое жилище.
– Нет смысла подбирать утварь с одинаковым орнаментом, пока не встретился подходящий мужчина, – рассудительно заявила Пруди за завтраком прошлой осенью, обращаясь к Грейс и еще нескольким девушкам.
Грейс налила себе полную чашку соленой воды, набрала немного в рот, потом запрокинула голову и прополоскала горло, затем сплюнула в поджидавшую миску. Повторила это два раза и снова попробовала декламировать, начав с давно любимого монолога Корделии из «Короля Лира», чтобы вложить себе в уши и в голосовые связки английское произношение:
Потом она переключилась на «Факелоносцев» дяди Джорджа, стараясь приспособить к роли американки Флоренс Мак-Крикет эти протяжные гласные и рубленые последние слоги. Как всегда, Грейс старалась произносить звуки от живота, находившегося ох как далеко от всех отверстий, которые промыла соленая вода. Она полоскала горло, чтобы через него проходило как можно больше голоса. Самым главным было «перестать говорить от носовых пазух», как это сформулировал Дон. Он предложил ей пачку сигарет, чтобы добиться более низкого, утробного звучания, но она вежливо отказалась. Голос можно тренировать, а вот белыми зубками и чистой, по счастью, кожей рисковать никак нельзя. Грейс довелось повидать на своем веку слишком много красивых молодых женщин, которые прямо-таки пожелтели от этих табачных палочек. Чего уж там, если бы ей давали пенни за каждую мать подружки, в которой стало практически невозможно опознать обворожительную невесту с фотографии двадцатилетней давности, то работать моделью, чтобы заплатить за квартиру, стало бы незачем.
Она делала успехи и без сигаретного дыма. Голос определенно вибрировал в ушах и в груди на октаву ниже, чем год назад. А сегодня в произношении и интонациях внезапно зазвучало нечто новое, возможно напоминающее голос Кэтрин Хепбёрн, но все же не совсем. Этот голос по-прежнему принадлежал Грейс Келли, только какой-то улучшенной. Улучшенной, более взрослой, более сексапильной, уверенной, утонченной. Более.
На этом, пожалуй, лучше остановиться, чтобы нечаянно не сглазить. А еще перед свиданием с Доном обязательно нужно вымыть голову и сделать прическу. Вот бы ей такую же роскошную гриву волос, как у Хепбёрн, вместо собственной унылой швабры! Благодарение богу, что существуют бигуди. Она намерена использовать все способы прихорошиться, которые только сможет найти.
Выйдя из-под душа в отделанную розовой плиткой ванную комнату, наполненную паром, Грейс с радостью увидела Пруди и Кэролайн, которые, склонившись над белыми раковинами, поправляли макияж. Завернутая в полотенце, она подошла к ним.
– Ну, дамочки, привет! – воскликнула Грейс, обнимая Кэролайн влажной рукой.
Подруга с беззлобной досадой отмахнулась.
– Осторожно, Келли, это же кашемир, – заметила она, имея в виду свой нежно-голубой джемпер.
По тому, как он льнул к изгибам тела Кэролайн, ясно было, почему ту так часто приглашают работать моделью. Джемпер красиво контрастировал с ее темными волосами.
– До чего приятный оттенок! Новый? – спросила Грейс.
– Красивый, правда? Подарок от «Блумингдейла» за сегодняшнюю съемку, – ответила Кэролайн, крутнулась, чтобы показаться Грейс, и снова склонилась перед раковиной. – И я его заслужила. Это было омерзительно, особенно из-за руки мистера Шумейкера, которая после каждого дубля оказывалась у меня на заднице.
Грейс покачала головой и закатила глаза, негодующе произнеся:
– Ах, Груби, Груби, Груби, когда же жизнь тебя хоть чему-то научит?
Пруди хихикнула:
– Его что, правда зовут Груби?
– Да, – засмеялась Грейс. – В жизни не видела, чтобы человеку так подходило его имя.
– Безнадежный старина Груби, небось, и не подозревает, что некоторые из девушек, работающих на него постоянно, занимаются бегом просто для здоровья, – сказала Кэролайн.
– От одного такого, может, и убежишь, но разве не врежешься с разбега в другого? – спросила Пруди.
– Хотелось бы врезаться в кого-нибудь хорошего. Помните капитана Джозефа А. Трусса? «Копакабана», прошлые выходные? Он говорил, что каждый день бегает в Центральном парке. Ммммм… – протянула Кэролайн, будто только что надкусила плитку любимого шоколада.
– Может быть, мне следует к нему присоединиться?.. – задумалась Грейс, стягивая полотенце с головы и проводя по волосам расческой.
– Всегда найдется место для еще одного парня, – улыбнулась Кэролайн.
– Но ведь ты почти помолвлена с Доном, – заметила Пруди.
Она бывала порой слегка чересчур правильной даже в ущерб себе: всегда дома после отбоя, никогда не опаздывала ни на одну из своих секретарских работ, которые для подстраховки брала помимо актерских. Грейс ценила и разделяла многие прагматичные привычки Пруди, но порой слышать морализаторство подруги совсем не хотелось.
– Почти, но не совсем, так? – произнесла Грейс, скорее в пику Пруди, чем еще с какой-то целью.
Подруга покачала головой и ввернула:
– Мне придется начать звать тебя Сфинкси.
– А с чего ей хотеть выйти за Дона? – требовательно спросила Кэролайн. – Грейс может заполучить кого угодно. Каждый раз, когда мы где-нибудь появляемся, как минимум трое разных мужчин, куда более успешных, чем мистер Ричардсон, и лучше одетых, норовят поставить ей выпивку.
– Выпивка – не любовь, – заявила Грейс, раскрыла сумочку с бигуди и, выбрав одну из самых маленьких палочек, принялась наматывать на нее прядь волос, а потом закрепила резинкой.
– Вот именно, – подтвердила Пруди. – Зачем менять любовь на веселье в «Копакабане»?
– Затем, что это же веселье, – ответила Кэролайн. – И кто сказал, что Грейс действительно любит Дона? Я вот сомневаюсь в этом, Грейс. Думаю, ты просто очарована мыслью, что один из первых твоих учителей актерского мастерства так тобой увлекся, что теперь ухаживает.
– Не вижу ничего плохого в том, что мне это льстит, – стала защищаться Грейс, накручивая на бигуди следующую прядку.
– Так ты любишь его или нет? – Кэролайн спросила это с таким пылом, как будто от ответа зависело что-то важное в ее собственной жизни.
– Безу-у-умно! – протянула Грейс и хихикнула.
– Ты невыносима, – объявила Пруди, и Кэролайн с ней согласилась.
Грейс улыбнулась подругам, а потом сообразила, что забыла использовать в разговоре свой новообретенный голос. А ведь все это время можно было тренироваться! Впредь не следует вести себя так легкомысленно.
По правде сказать, она действительно любила Дона. Неизвестно, в чем тут дело – то ли в его сумрачном шарме, то ли в разнице в возрасте (Дон был на одиннадцать лет старше), то ли в том, как он нес свое длинное худощавое тело (в голове немедленно возникал образ шейного платка со свободным узлом), – но Дон Ричардсон пленил Грейс с того мгновения, когда его взгляд впервые упал на нее в учебном классе Академии.
Он терпеливо дождался, когда она закончит его курс, а потом пригласил в ресторан «У Каца», чтобы «обсудить ее последующие занятия», но Грейс знала, что преподаватель мечтал о ней весь семестр. А она мечтала о нем. И до чего ж восхитительно и тревожно было сидеть напротив этого мужчины с копной черных волос, падавших на большие черные глаза, мужчины, который так много знал о театре и Нью-Йорке! Они ели деликатесы, горячие сэндвичи с полосками острого, вкусного мяса с горчицей, зажатого между двумя ломтями темного хлеба. Ну что оставалось девушке в такой ситуации? Конечно, она его поцеловала. Ощущая, как между ними вибрировал жар того, что вполне могло сбыться, восемнадцатилетняя Грейс впервые в жизни познала настоящее вожделение.
В тот пасмурный, снежный мартовский день, когда Дон наконец уложил ее к себе в постель, она была как никогда благодарна славному впечатлительному пареньку из Оушен-Сити, который прошлым летом оказал ей громадную услугу, лишив девственности. Хотя тогда, конечно, Грейс не отнеслась к потере невинности так наплевательски. А когда паренек уехал в Йель и стало ясно, что они не подходят друг другу, ее сердце было разбито. Ну как можно выйти за мужчину, настолько заинтересованного акциями и облигациями, что единственное бродвейское шоу, которое он видел в своей жизни, даже не доставило ему удовольствия?
Поняв это, Грейс сразу отправилась к исповеди и призналась священнику по другую сторону железной решетки в грехе похоти, хотя, конечно, воздержалась об упоминании о том, что она пошла у похоти на поводу, уж на это у нее ума хватило. За подобный прагматизм ей следовало благодарить мать, Маргарет Майер Келли. Та хоть и перешла в католицизм, чтобы выйти за Джона Б. Келли, но родители, немецкие иммигранты, растили ее лютеранкой. Это мать сказала Грейс, когда та готовилась к первому в жизни таинству исповеди: «Тебе незачем говорить священнику обо всем. Некоторым вещам лучше остаться между тобой и Богом».
Грейс никогда не признавалась в этом своим друзьям-католикам, но влияние на ее отношения с Богом подросткового либидо волновало ее куда меньше, чем то, что в результате она похоронила в памяти торжественное обещание, которое дала себе еще в детстве: сделать имя на сцене так же, как дядя Джордж. У нее был и другой дядя, актер водевиля, Грейс никогда не тянуло к нему так, как к утонченному, начитанному дяде Джорджу. Старший брат отца был единственным на всю семью человеком, который преуспел в жизни благодаря творческому таланту, а не рукам. Он взял Пулитцеровскую премию за «Факелоносцев»! Даже отец, член олимпийской команды по гребле, признавал, что это впечатляющий результат.
Так что нет – какими бы плотскими ни были ее чувства к Дону, Грейс о них не жалела, ведь они стали продолжением ее любви к театру. Однако выходить за Дона она не спешила. Какая-то ее часть – пусть и совсем небольшая – желала знать: каково встречаться с богатым мужчиной вроде одного из тех, что присылают ей выпивку, когда они с подружками выходят вечерами поразвлечься? Но все это было слишком сложным и слишком личным, чтобы пытаться объяснить Кэролайн и Пруди. Поэтому она сменила тему:
– Хватит обо мне, девочки. Что вы собираетесь делать вечером?
– Дорогой! – приветствовала она Дона в фойе «Барбизона».
Невысокие пальмы в горшках придавали экзотический шарм этому в остальном строгому и солидному помещению, единственному на все двадцать три этажа пансиона, куда допускались мужчины. Черные лакированные туфли-лодочки Грейс стучали по сверкающему чистотой полу, а легкие нижние юбки под верхней, шифоновой, щекотали голени. Гладкая сумка из телячьей кожи качнулась на сгибе локтя, когда девушка продела одну ладонь, обтянутую перчаткой, под руку Дона и нежно поцеловала его в щеку красными губками.
– Боюсь, теперь тебе понадобится платок, – усмехнулась она, кивком указав на след от помады и поднимая бровь.
Все журнальные специалисты по макияжу говорили, что губы, во избежание таких следов, надо сильно пудрить, но ей просто не хотелось подолгу возиться со своим лицом. К тому же Дон уже приучился всюду брать с собой носовые платки с монограммой, которые она подарила ему как раз для подобных случаев. Он стер пятно от помады и заметил:
– Твой голос звучит иначе.
– Правда? – проворковала Грейс.
Значит, она не ошиблась. Эта мысль слегка вскружила ей голову.
– Это хорошо, – сказал Дон.
Он выглядел напряженно, как иногда бывало ему свойственно.
«Могу в этом поклясться», – подумала Грейс, чувствуя, как ее захлестывает горячая волна желания.
Дон улыбнулся, тоже поцеловал ее в щеку, а потом предупредил:
– Но тебе придется его модулировать. Сейчас он какой-то чересчур… смахивает на голос Лоренса Оливье.
– Зануда, – улыбнулась она, хотя сердце камнем ухнуло куда-то вниз живота.
В том, что касалось влечения, у них царила полная гармония, а вот статусом они друг другу не соответствовали. Грейс нужно было получить свою первую крупную роль. Тогда он понял бы, что они больше не учитель и ученица, независимо от того, что там написано в руководстве для преподавателей Американской академии драматических искусств.
На одной из Пятидесятых улиц Манхэттена они встретились с двумя парочками – друзьями Дона по театру, жизнь которых крутилась между участием в спектаклях и разными другими работами, вроде учителя на замену или бармена, – в ресторане с клетчатыми скатертями за несколькими бутылками кьянти и громадными тарелками с куриным пармиджано и чесночным хлебом. Сервировано все это было очень по-домашнему. Грейс наслаждалась легким подпитием, отказавшись, впрочем, от добавки алкоголя, зная, что иначе с утра не избежать головной боли, и надеясь, что несколько стаканов воды, выпитой вместо вина, помогут делу.
Потом они отправились в джазовый клуб «Бёрд-ленд». Там было многолюдно, но, по счастью, Дон знал кое-кого в этом заведении, и их компанию пропустили без проблем.
– Наверное, вначале придется постоять, – сказал им высокий ирландец в двубортном костюме.
В маленьком зале было так накурено, что Грейс едва разглядела трубача в передней части сцены, хотя меланхоличные медовые звуки его инструмента пронзали дымный воздух и ласкали ей слух.
Она неделями читала об этом новом ночном клубе и вот впервые оказалась в нем. Музыка не разочаровала, пусть даже Чарли Паркер по прозвищу Птаха[5]5
Клуб называется «Birdland», то есть «Птичья земля».
[Закрыть], в честь которого назвали заведение, в тот вечер не выступал. Поговаривали, что он появлялся тут нерегулярно из-за пристрастия к героину.
Во время перерыва освободился столик на двоих, и они все вшестером уместились за ним, добыв дополнительные стулья и заказав бутылку виски. Грейс позволила себе крохотную порцию янтарной жидкости. Впрочем, виски без льда и содовой не слишком ей нравился, так что жертва была невелика. Откинувшись на руку Дона, лежавшую на тонкой деревянной спинке ее стула, она закрыла глаза и вся отдалась во власть музыки. Мелодия была знойной, медленной; фортепиано, труба, саксофон и ударные гармонично сливались в едином ритме, которого она никогда прежде не слышала и все-таки слышала постоянно, по всему Нью-Йорку: во всех клубах от Виллиджа до Гарлема, на пластинках в крошечных квартирках и в пентхаусах, на углах улиц, где Музыканты в надежде на мелочь клали перед собой шляпы.
Форди, шофер их семьи и единственный, кроме дяди Джорджа, человек из домашних, который неизменно был с ней добр, научил Грейс всегда бросать в эти шляпы всю лишнюю мелочь. Однажды, когда Грейс было около пяти лет, он, забирая ее из Филадельфийского музея искусств, протянул через водительское окно два хрустящих доллара.
«Брось в чехол вон тому парню», – пояснил Форда, указывая на контрабасиста, расположившегося на широкой каменной лестнице. Тот выводил на струнах какую-то печальную, но все же жизнелюбивую мелодию. Она бросила купюры в раскрытый футляр и смотрела, как зеленые с белым бумажки, порхая, упали к монеткам по одному центу и пятакам, лежащим на красном бархате. В тот день Форди оказался самым щедрым к музыканту. Мужчины вроде ее отца в дорогих пальто и фетровых шляпах, которые без ущерба для себя могли бы бросить в раскрытый футляр куда больше денег, проходили мимо, не удостоив контрабасиста даже взглядом.
Потом, в машине, Форди объяснил ей своим бархатным голосом: «Никогда не знаешь, Грейс, где побывал такой парень. Может, он проделал сюда путь из Нового Орлеана или Чикаго, а может, живет тут, где-то на этих самых улицах, и откладывает, откладывает каждый грош, чтобы добраться до Гарлема. Твоего дядю Джорджа поддерживали в его пути на сцену, а незнакомцев вроде этого музыканта приходится поддерживать нам».
Ох, до чего же она скучала по Форди!
Открыв глаза, она увидела на противоположной стороне клуба непонятную суматоху. Приехала чета каких-то знаменитостей, и люди вставали, уступая ей свои места. Грейс не узнала платиновую блондинку, но поджарый молодой человек показался смутно знакомым. Вспомнить его она не смогла и шепнула в ухо Дону:
– Кто это?
– Джек Кеннеди, – ответил Дон, – и, наверное, одна из его актрисуль. Ему нравятся блондинки.
Ага, значит, это – один из тех массачусетских Кеннеди, о которых вечно твердил отец.
– Откуда ты знаешь, что ему нравятся блондинки? – спросила Грейс.
– Все, кто имеет отношение к театру, знают Джека, – пояснил Дон. – Или о Джеке. Точно так же, как все предыдущее поколение знало его отца, Джо. Он теперь в Конгрессе, но, насколько я понимаю, его готовят к гораздо большему.
Отец Грейс всегда восхищался Джо Кеннеди и его честолюбивой семьей. «Это показывает, на что способен ирландец, решивший прижать средний класс к ногтю» – говорил он по разным поводам, к примеру, когда старший брат Грейс, Келл, выиграл «Бриллиантовый вызов», престижную гребную гонку для одиночек, которую устраивали в английском городе Хенли в рамках королевской регаты.
Самому отцу в 1920 году не разрешили участвовать в этой гонке на том основании, что он ирландец и католик. Отец обрадовался бы, приведи она домой мужчину вроде Джека Кеннеди, но знакомить ли его с Доном?
Уводить подружек от обсуждения их отношений, может, было и несложно, но вот с ним самим такие штучки не проходили, особенно если учесть, что они встречались уже целый год. Скоро Дон должен был окончательно развестись, и пару раз он вскользь касался темы следующего брака: «Сомневаюсь, что твои родители примут в качестве мужа своей дочери еврея. Или все-таки примут? Ирландцы ведь тоже, как и мы, подвергались дискриминации, во всяком случае в Америке. Это может помочь обрести взаимопонимание».
И в постели, когда длинные пальцы их рук сплелись меж собой в поощряющем танце: «О-о, Грейс, мне ничего не остается, кроме как жениться на тебе!»
И хотя в обоих случаях сердце Грейс неистово трепетало от радости, она сочла, что мудро будет держать рот на замке. Если она чему и научилась, пока росла эффектной блондиночкой в Ист-Фоллсе, штате Пенсильвания, так это тому, что молчание – золото. Девушке недостаточно быть просто хорошенькой. Если она хочет мужского внимания – и не абы какого, не того, что с избытком можно получить у любого прилавка с мороженым, а настоящего, которое пойдет ей на пользу, – следует быть молчаливой.
Грейс не знала, почему мужчин так беспокоит женская честность. Она лишь усвоила, что это так, и прекрасно научилась понимать, когда вместо слов лучше засмеяться или промолчать, не раскрывая своих карт. Неважно, с каким мужчиной приходилось иметь дело, напористым и самодовольным, вроде отца, или более артистичным и склонным к самокопанию, вроде Дона. Молчание работало с любым.
Остаток вечера она провела, слушая джазовый квартет и наблюдая, как присутствующие наблюдают за Джеком Кеннеди. Это было очень забавно. Огромное количество народу задавалось вопросом, что же в нем есть такое, чего нет в них. Но Грейс об этом не думала. Ей было интересно, сравним ли ее талант с талантом трубача на сцене, и если да, то куда ее приведет такое положение вещей.
Когда публика захлопала после окончания соло на трубе, мысли Грейс унеслись – как это частенько бывало, стоило лишь ей оказаться на каком-нибудь представлении, – к давним грезам: она стоит на сцене и кланяется под аплодисменты и свист толпы. Сцена просторнее школьной, где они вместе со старшей сестрой Пегги сыграли великое множество ролей. Но теперь Пегги, обожаемая отцом, который звал ее Ба, вышла замуж и родила, поэтому сцена принадлежит Грейс. И это самая грандиозная из всех сцен – бродвейская. Грейс чувствовала, как вибрирует под ногами жесткий черный пол, а сама она стоит, слушая гром оваций, и улыбается благодарной улыбкой. В зале все, кого она любит, они гордятся ею, отец с матерью сидят в первом ряду. О, каким же счастьем станет понять, что ее упорный труд не пропал зря и принес плоды!
В своем воображении она еще раз присела в реверансе с букетом изысканных роз и всей душой почувствовала, что наконец-то все сделала правильно.