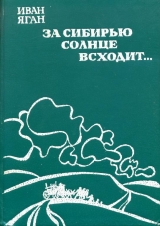
Текст книги "За Сибирью солнце всходит..."
Автор книги: Иван Яган
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Привезли нас в Омск. А когда Иртыш тронулся и пошли пароходы, нас погрузили на баржу, прицепили к пароходу. Говорят: за Васюган, за болота. Кто оно такое – Васюган и шо за болота – бог знает. Кормили плохо. От помню, як сегодня. Лежить татко, мается животом. Понос кровавый и у него и у нас... Такой он был сильный раньше, така воля была у него, а тут – дитя беспомощное.
Прости, племянничек, шо плачу. А як же? Обидно, дуже обидно... Не довезли татка до места. Помер он ночью. Мама видела, а мы с Гришей спали. Утром проснулись – тата нет. Мама плачеть та приговариваете: «Диточки вы несчастные, нема больше у нас татка...» А нас довезли до места...
Ох, знал бы ты, племянничек, чего мы там еще хлебнули... Да не буду, не могу больше... Ушли мы с мамой из-за болот. Шли пешком целый год, собирали в тайге летом ягоду да траву, а когда уж дошли до жилых мест, то милостыньку просили. Свет не без добрых людей. Дошли до Байдановки. Хатка наша цела стояла, пустая. Как раз была весна, и мы посадили огород. Люди добрые дали картошки на семена, морковочки, рассады капустной. Прикармливали нас. Никто нас больше не трогав, только Гаврюшкины пацаны нас дразнили: «Кулаки недобитые, дизинтиры». Потом мы пошли в колхоз, робили, как все, жили как все. Токо на душе было пусто. Одна жаль... Прости, племянничек, шо плачу. С тем я и в могилу ляжу...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
РАССВЕТЫ НАД БАЙДАНОВКОЙ
ЗДЕСЬ МОЯ РОДИНАПеред Великой Отечественной войной в Байдановке насчитывалось с полсотни дворов, но народу было много: семьи большие. Я тогда еще не мог задумываться, хорошо ли шли дела в колхозе, но помню: как-то к нам подъехала подвода, груженная пшеницей. Отец вышел к воротам.
– Хлопцы! Некуда мне девать ее, ей-богу, некуда! Везите назад, в колхоз!
Но хлопцы не послушались отца, они сказали: «Заработал – получай!» – въехали во двор и открыли люк бестарки, из которой натекла гора золота.
Никогда не забуду наших тополей. Они росли вокруг огорода, высокие и величавые. Казалось, их верхушки достают до облаков. Среди тополей летом и зимой висела прозрачная дымка. Залетит, зацепится за вершины и провиснет над серединой огорода, словно голубая кисея. Даже в тихую погоду в вершинах тополей был слышен мерный, убаюкивающий гул... А если в тополях закукует кукушка, то ни за что нельзя было узнать, где она сидит. Ей всегда откликалось эхо в каждом тополе, сначала громко, потом тише, тише. И только начинал замирать последний отклик, кукушка подхватывала его, и все начиналось снова. Чудилось, будто десятки кукушек перекликаются между собой.
Тополя, посаженные отцом, были гордостью не только нашей семьи, но и всей Байдановки, особой ее приметой. Были они один другого выше и стройней. В мае, напившись вдоволь весны и солнца, они одевались в зеленовато-дымную листву, качались, склоняя друг к другу головы, словно захмелевшие парубки, стройны и беззаботны. Ветер выветривает хмель из их голов, дразнит. Тополя разгорячатся, расшумятся, кажется, они бы бросились вдогонку за ветром-задирой, если бы их не держала крепко мать-земля. И впрямь, наверное, со всего района слетались кукушки, чтобы покуковать в наших тополях.
Бывало, едут мужики из города, еще за десять верст от деревни заприметят гордые вершины тополей и кто-нибудь обязательно скажет:
– А вот уже и Байдановка! – хотя до деревни еще час езды на конях, а на быках и того дольше будет.
В ненастье тополя гудели глухо, тяжело вздыхая при порыве ветра, споря с ним. Тогда их шум был слышен в хате, к нему прибавлялся вой ветра в трубе и голос бабушки, рассказывающей сказки про дурня Ивана. Сколько раз засыпал я под эту убаюкивающую музыку на теплой печи, под чуть колючим рядном, которое пахло коноплей и ямой, где вымачивали коноплю...
В округе Байдановка славилась песнями. Выйдем, бывало, с бабушкой вечером, сядем на призбе ждать отца и мать с работы и слушаем. В небе уже звезды проклюнулись, а на западе еще заря полыхает. Со всех сторон в деревню плывут песни. Вот поют девчата: «Лугом иду, коня веду, розвивайся, луже!» Там другая песня слышна: «Як упав снижок, та й на бережок». А где-то поют женщины и мужчины вместе: «Ой ты, хмелю-хмелю, хмелю зелененький!» Заслушаешься одной песней, о другой забудешь, а лотом снова прислушаешься к той, что на минуту забыта была. Парни часто пели «Три танкиста», а девчата «Катюшу» и «По дорожке неровной, по тракту ли...» Бабушка прислушается, а потом, точно самой себе, говорит в темноту: «Гарно выводит Галька Яковенко, як звонок. А ось Фенька Лиходидова... Тоже гарно спивае дивчина...» И так сидим, слушаем, пока во дворах не заскрипят калитки, не заклацают щеколды и не зазвенят вилы, составляемые в угол. Это люди вернулись с работы.
Наш отец мог играть на гармошке, гитаре и балалайке. Многие из моих дядей и тетей на чем-нибудь играли. Они часто собирались, особенно летними вечерами, в нашем дворе, рассаживались на призбе, чурках, маленьких табуретках, настраивали инструменты. На звуки нашего домашнего оркестра сходилась вся улица. Пели и играли, как правило, украинские песни. У отца хороший тенор. Он очень высоко берет: «Ой на, ой на гори та й жнецы жнуть...» Казалось, что подхватить, поддержать такую высокую ноту никто не сможет. Однако добрый десяток голосов и подголосков разбирали каждый себе по тону, и над двором взмывала в темнеющее небо удалая песня про славных запорожских козаков – Дорошенко и Сагайдачного:
А по-пид горою гаем, долиною
Козаки идуть.
Гей, долиною, гей, широкою
Козаки идуть!
Много здесь пелось веселого и грустного. Слушали и пели молодые и старые, и детям навеки врезались в память и сердца песни отцов и матерей, песни дедов и прадедов. Не рвалась, продолжалась нить, связывавшая поколения песнями, обычаями, добрыми отношениями.
Помню, как однажды в Байдановке появились два захожих бандуриста. Как они забрели с далекой Украины в Сибирь – не знаю. Но точно, что это были седовласые, с висячими усами козаки в украинских рубахах, с круглыми бандурами в торбах. Не верю, что их привел сюда заработок, хотя им бросали в шапки кто что мог. Скорее бандуристы пришли сюда потому, что знали: сибирским украинцам втройне дороги и любы песни давным-давно покинутой родины, покинутой ради лучшей доли, лучшей земли, и байдановцы чуть не на руках носили их. А они пели, пощипывая струны, пели не скупясь. Те из байдановцев, кто помнил Украину, плакали тихими слезами; те, кто помоложе, кто родился в сибирской степи, – вздыхали, сочувствуя старшим. Когда бандуристы дня через три ушли в другую деревню, байдановцы еще много дней, даже много лет вспоминали их.
Стены нашей хаты были сложены из тонкого дерна, потому она с годами сильно осела, стала совсем низенькая. Когда к нам по утрам приходил «загадывать» на работу колхозный бригадир Василь Сторчак, самый высокий мужчина в деревне, то стоял он в хате согнувшись. А когда уходил, верх его шапки белел от известки. Потолок наш возле двери от этого постоянно был темнее, чем в других местах.
Не было у нас ни прихожих, ни светелок, ни спален.
Да мы, пожалуй, этих слов и не знали. Была одна комната, перегороженная печкой. Пол – земляной. По-нашему он назывался доливкой. Деревянные полы красят и натирают, а нашу доливку по субботам бабушка или мама смазывали желтой глиной, перемешанной с сухим конским навозом. Этой же глиной подводили стены внизу, и получалось что-то вроде панелей высотой не больше вершка. Весь наш комнатный «гарнитур» состоял из самодельных лавок, табуреток и стола. Сейчас диву даюсь, как мы могли так экономно размещаться на ночь. На печке спали бабушка и пятеро ребят, спали под одним рядном. Если возникала ссора, каждый из нас получал от бабушки по подзатыльнику, и наступал мир. Подзатыльники раздавались в темноте, в полной тишине и соответственно возрасту: старшему – покрепче, меньшему – полегче.
Летом мы приносили с полей свежей травы с чебрецом, морковником и подорожником и устилали ею доливку. За рамки с фотографиями, на всякий гвоздик и крючок цепляли ветки тополя и березы. Даже за бабушкину икону ветки вставляли. В жаркие дни окна завешивали темными платками и одеялами. После полдневной беготни и вкусного обеда я любил отдыхать в этом полумраке, тихом и пахучем. Ляжешь прямо на прохладную траву, подложив под голову какую-нибудь одежку. Хорошо, не жарко! Стотравный запах стоит в хате, между окном и одеялом бьется и жужжит заблудившаяся муха, не поймешь, в каком углу звенькает сверчок. А с огорода слышен голос бабушки: «Гай, гай!» Это она пугает кур, забравшихся в тень картофельной ботвы и выкапывающих картошку. А может быть, над хатой кружит коршун-шулика, высматривая добычу, и бабушка предупреждает об этом квочку с цыплятами. Из-за деревни едва доносится рокот трактора, – там работает отец.
Хорошо спится под эту музыку! Но если даже и не приходится спать в обед – все равно не хуже. Бабушка, пока мы обедаем, накладывает в глиняный глечик вареников с творогом, повязывает сверху марлей. А мы уже косим глазами на него и на бабушку. Кого сегодня пошлют нести отцу обед? Хаживал не раз я по этому почетному заданию.
Возьмешь узелок с едой – и вон из хаты опрометью, чтобы бабушка не передумала. По пути забежишь в огород, стручков зеленого гороха нарвешь за пазуху; в конце огорода перепрыгнешь через канаву с коричневой водой и глазастыми лягушками, а там, за огородами – простор! И утонешь, заблудишься в нем с радостью и восторгом. Постоишь, позавидуешь жаворонкам в небе. Странные птицы они. Понятно, что коршуны в небе парят для того, чтобы выследить с высоты полевую мышь, перепелку или суслика. А зачем жаворонку парить над полем с восхода до заката? Повиснет под голубым куполом и заливается, кажется, сам любуется собственным пением. Мне всегда казалось, что жаворонки вполне осознают счастье, подаренное им природой: они могут не только по земле бегать, но и летать. Они ни на минуту не забывают о том щедром подаренье и с азартом и гордостью пользуются им.
Вдруг у самых твоих ног вспархивает перепелка. Ф-р-р-р! – прорезает она воздух своими коротенькими крыльями. Ей, маленькой, но тяжелой, как кусок серого камня, лететь тяжело. Опишет над полем небольшую дугу – и снова падает в траву. Травка в том месте колыхнется, выдавая колыханием пеший путь степной курочки. Вот и трава перестала качаться: значит, перепелка остановилась. Да, уже завела свое «пить-полоть». Почему бы не попробовать ползком подкрасться к ней? Поймать, конечно, не поймаешь, но хотя бы вблизи поглядеть, послушать ее лопотанье. Вот она, кажется, шагах в десяти от тебя. Умолкла. Доползаешь до означенного места, а она уже за твоей спиной лопочет. Ну и хитра! С легким минутным сожалением поднимаешься на ноги, отряхиваешь с намокших от росы штанов и рубахи лепестки, травинки, цветочную пыльцу, выдираешь из чуба труху прошлогодней травы и идешь назад, к узелку с обедом. Идешь по своему следу – примятой траве, и тут замечаешь, сколько исколесил, ползая на локтях и коленках: след похож то на спираль, то на запутанные петли, которые теперь и распутать нельзя. Вот хитра, окаянная! Как она тебя за нос водила! Ну, ладно, в другой раз выслежу, а теперь некогда: надо к отцу скорее.
Далеко, а может, не так далеко, как кажется маленькому человеку, виднеется одинокое дерновое строение, которое в деревне почему-то называют культстаном. А для меня это просто какой-то «кульстан». Говорят, в нем когда-то жили трактористы, но теперь эта дерновка заброшена, на ее крыше властвует буйный бурьян, окна вынуты с рамами, вокруг – бурьян и чертополох. Мне кажется, что в дерновке сейчас спрятались от людей и от жары волки. И хочется верить в это – и страшно до зуда в пятках. Прохожу мимо «кульстана» на приличном расстоянии. Вижу, как ласточки, видимо слепившие гнезда в дерновке, простреливают ее насквозь: влетают в окно с одной стороны и вылетают из окна в противоположной стене.
Отсюда мне уже видна черная полоса пахоты, в дальнем конце которой клубится пыль. Это отец на своем «фордзоне» пашет, трактор движется в мою сторону. Он совсем близко, я уже вижу улыбку отца. Отец улыбается потому, что и мой рот растянут до ушей почти беспричинной улыбкой. Просто я рад, что все так хорошо на этой земле – небо, птицы, травы, вспаханная земля, трактор, отец. Хорошо, что я есть на свете, на этой земле, полной загадок.
– Пришел, сынок? – отец глушит трактор, остановив его левым боком к солнцу, правым – к целине с мягкой травой. Мы садимся в зубчатой тени колеса и деловито, как водится у мужчин, приступаем к обеду. Когда в глечике остается два вареника, отец берет бутылку с молоком, а мне говорит: «Доедай, сынок, я уже сыт», – проведет ребром ладони по горлу... Потом закурит самосаду и приляжет на один бок, опершись на локоть. Я принимаю такую же позу. Мы ничего не говорим, просто смотрим друг на друга и все понимаем: очень хорошо все идет! Я молодец, что отцу обед принес; хорошо, что на тракторе работает именно мой отец, а не чей-нибудь другой. Хорошо, что вареники такие вкусные, а отец доволен, что бабушка умеет делать такой ароматный табак. Это я вижу по его глазам.
После отдыха отец заводит трактор, подсаживает меня на сиденье. Оно железное, вытертое до блеска, скользкое. Когда отец занимает место на сиденье, я встаю рядом, одной рукой держусь за баранку. Верится, что и я управляю трактором, даже на миг забываю об отце. Катаюсь круг-другой, потом отец говорит:
– Ну, хватит, сынок. Беги домой, а то у тебя голова заболит, да и измажешься весь. Ступай.
Вечером, улегшись спать, я долго слушаю, как сквозь стены и окна нашей хаты доносится, словно жужжанье осы, песня «фордзона». Значит, трактор в дальнем конце полосы. Потом, с приближением трактора, звук становится рокочущим, будто где-то закипают, клокочут огромные котлы с густым варевом. Наконец все умолкает. Я уже представляю, как отец один идет домой мимо «кульстана», через ракитник, что за нашими огородами. Вот уже слышен звон щеколды в сенях, какой-то шорох: это пришел отец и снимает грязную одежду. Он входит тихо в хату, и я сквозь дрему чувствую, как полем и трактором пахнут его руки, набирающие кружкой воду из ведра на лавке...
Иначе зимой. После январских морозов немного теплеет и начинают взыгрывать бураны. Мне кажется, что бураны всегда начинались почему-то к вечеру, когда колхозники запасут сена и воды скоту, закроют колодезные ляды мешками с соломой, чтобы колодцы снегом не забило. И вот тогда начинается кутерьма. Байдановку окружали бескрайние поля, и ветру было где разогнаться для налета на деревню. Сначала он налетал слабыми порывами, как бы пробуя силу и попугивая, а потом шалел с каждым часом, все сильнее и сильнее сотрясая нашу хатенку. Он забрасывал снегом окна, и мы зажигали свою «семилинейку». Бурану хотелось во что бы то ни стало превратить нашу хату в снежный сугроб. Ночью было слышно, как метель шастает по крыше, перекатываясь с улицы во двор. Это значило, что сугроб намело уже вровень с крышей.
А мы сидим в темной хате и занимаемся каждый своим делом. Отец в такую погоду всегда подшивал кому-нибудь валенки. Он сидит на табуретке, положенной набок. Пред ним на лавке сапожный инструмент и лампа. Прокалывая шилом дырочку в подошве валенка, отец сильно наклоняется вперед. Его большие черные брови нависают над лампой и потрескивают. В хате пахнет горелым, и мама напоминает отцу: «Опять, наверное, брови опалил...» Он отшатывается, трогает брови желтыми от табака пальцами и признается: «Да, маленько есть... Ну, ничего, отрастут». Вот он начинает сучить дратву. За гвоздь, вбитый в столб-подпорку, отец цепляет пучок суровых ниток, отходит от столба к двери, держа в руке концы ниток, и начинает скручивать их, катая между ладонями. Потом, чтобы дратва не раскручивалась, смолит ее, водя по ней шкуратком со смолой. Когда отец резко водит шкуратком по дратве, в гвозде возникает музыка. Взмах руки, а в гвозде – вжик! От гвоздя это передается матке, потом каждой жердине, и вот уже вся хата поет и звенит: вжик! вжик!.. Я слушаю эти звуки, а сам жду, когда отец положит на лавку смолу. Незаметно подхожу, откусываю кусочек и жую вместо «серы», какую летом варят из березовой коры. Смолу нелегко было достать, поэтому отец прятал ее, чтобы мы не изжевали. Вот он взял смолу в руки, повертел ее и спрашивает: «Кто кусал, признавайтесь?» Все говорят: «Не я», а я молчу. Отец еще раз внимательно осматривает возле лампы смолу и говорит: «Это ты, Иван, откусил. По зубам вижу». И он всем по очереди показывает кусок с отметиной от моих зубов.
Две старшие сестры сидят у окна и читают вслух:
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица...»
Старший брат Петька с ехидством перебивает: «Кабы ты была царица, лучше было б утопиться...» «Мам, ну что он мешает», – жалуются сестренки. Я вижу, как бабушка с матерью переглядываются, незаметно улыбаясь, и мама, занятая шитьем или вязаньем, говорит: «Ладно, он больше не будет». А Петька как ни в чем не бывало сидит у печки и, выставив от усердия кончик языка, долбит канавку в самодельной лыжине.
В подвесной люльке-колыске начинает хныкать самый маленький обитатель хаты, братишка Ленька. Бабушка берет на теплой плите пузырек с молоком и красной соской, дает его Леньке и напевает, качая колыску:
Котику сирэнький.
Котику билэнький,
Котику волохатый,
Не ходи по хати,
Не буди дитяти.
Леня будэ спаты,
Котик ворковаты.
Ой, на кота – воркота,
А на Леню – дремота.
А за стенами продолжает ухать буран, злясь, что люди не обращают на него внимания, работают, поют песни и даже говорят: «Хороший буран! К урожаю».
После таких ночных буранов спишь-спишь, а в хате все темно. Потом вдруг кто-то по крыше топ-топ-топ. И в трубе: «Эгей! Вы там живы?.. Ну, добре, зараз вызволим!» И снова по крыше, в сторону двора топ-топ! Мы слышим, как возле двери звякает лопата, задевая за дерево. Это соседи, кого не смог совсем засыпать буран, пришли нас выручать. Первым вылазит Петька и делает дыру побольше. И тогда начинается веселая работа! Снег уже немного улежался, но еще мягкий, легко режется и помногу набирается на лопату. Утро тихое. В каждом дворе слышится: скр-рип!.. бух!.. скр-рип!.. бух!.. Из вырытых ям вылетают огромные глыбины снега и глухо падают, рассыпаясь и пыля. Хозяева соревнуются между собою в работе, в силе, незаметно поглядывают друг на друга, сравнивают, у кого глыбины увесистее, у кого снега больше выкидано наверх. Скр-рип!.. бух!., скр-рип!.. бух!..
ЗАЙЧИКОВЫ БУБЛИКИСижу на лавке у окна и гляжу во двор. Окно замерзло, и я смотрю через овальное пятно, которое получилось оттого, что снег оттаял от моего дыхания. Отвернусь, когда бабушка скажет: «Не выдави стекло!», а овал за это время уже покроется ледком, уменьшится. И я снова дышу на стекло, пока не замерзнут губы, лоб и подбородок.
Вот мимо окна проскрипел валенками по снегу мой дед Семен. Соскакиваю с лавки и ныряю под кровать. Там сижу не дыша, слышу, как дед обметает в сенках валенки ракитовым веником, входит в хату, здоровается. Потом, хитро покашляв в кулак, задает вопрос:
– А где это ваш Ванюшка, что-то его не видать?
Я в это время начинаю хрюкать, подражая маленькому поросенку, а дед снова спрашивает:
– Вы что, поросенка купили? Кто это там хрюкает?
– Та купили, – сквозь смех отвечает отец.
И дед со словами: «А ну-ка дайте, посмотрю на него!» – поднимает край одеяла на кровати. И тут я заливаюсь торжествующим хохотом, уверенный, что сумел своим хрюканьем ввести деда в заблуждение.
Затем, как всегда, дед достает из кармана полушубка желтый блестящий бублик и дает его мне.
– Иду, значит, я сегодня по лесу, смотрю, зайчик бежит и в зубах бублик держит. «Кому это ты бублик несешь?» – спрашиваю. «Ванюшке, – говорит, – да вот собак боюсь». – «Так я к нему иду, – говорю, – давай и занесу». И зайчик отдал. Так это тебе от зайчика,..
Хотя я не раз бывал в доме деда, видел в кладовке связки бубликов, все равно всегда верил, что дед приносит их от зайчика. А какие это были бублики! Настыв на морозе, они в хате отпотевали и покрывались молочным налетом, похожим на мелкую частую росу. Сквозь нее просвечивал желтый глянец. Если бублик разломишь, то видишь на изломе тонюсенькую дырочку. Возьмешь один конец бублика в рот, подуешь в дырочку, и воздух, холодный и ласковый, защекочет подбородок, а если бублик перевернуть, то воздух щекочет нос, ресницы. Станешь заглядывать в дырочку, наставив бублик на окно, не прсвечивает. Почему это воздух проходит, а окна через дырочку не видно? И как это зайчики умеют делать бублики с дырочкой внутри? Такой бублик сразу и есть не хочется, хочется поиграть им подольше. Он пахнет полем, снегом, березой...
А теперь ни в одном магазине не найти таких бубликов. Всякие есть, а таких нету. И только зимой в березовом лесу я всегда вижу, как из-за кустов и берез выбегают зайчики с бубликами в зубах. Выбегут и смотрят с таким видом, будто хотят сказать: «Нет твоих бубликов, ты свои съел, когда был маленький. А мы несем бублики другим мальчишкам...» И оставляют зайцы на снегу свои легкие-легкие следы, скрываются в тихой морозной дымке. А я стою и слышу запах тех бубликов, которые приносил мне в детстве дед Семен. Постоишь, постоишь, вздохнешь и скажешь сам себе: «Не есть тебе больше таких бубликов. Ты, действительно, свои давно съел...» Придешь домой и отведешь душу, когда подаришь дочке бублик от зайчика.







