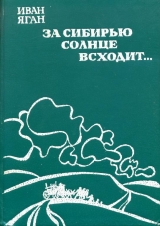
Текст книги "За Сибирью солнце всходит..."
Автор книги: Иван Яган
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
В цеховом красном уголке в обеденный перерыв девчонки уселись вокруг стола, рассматривают журнал мод, говорят негромко о своих делах. С ними Глаша. Василий Табаков сидит за шахматным столиком с бывшим напарником по станку. Несколько совсем молодых парней безголосо, под дребезжание гитары козлиными голосами поют песню «Течет речка по песочку». Партнер Табакова морщится, наконец не выдерживает:
– Эдик, слушай, ты это серьезно поешь или пародируешь бабкину козу?
– А что? – спрашивает Эдик.
– А то, что ты очень близок к оригиналу.
– Темнота! – говорит Эдик. – Отстал ты. Наверное, не слышал выступление ансамбля гитаристов... Шурик, как название ансамбля, я забыл?
– Ободранные гитары. Не трудись, Шурик, не насилуй память, – вступает в разговор Табаков.
Шурик Дубов, длинный, как жердь, с прыщеватым лицом, вступается за Эдика. Говорит Василию:
– Ты, гениальный самородок, молчал бы! Самому медведь на ухо наступил.
– Точно, – отвечает Табаков, – ты прав, Шурик. Потому я и не пою. А вот когда ты поешь, мне кажется, что тебе на ухо наступил слон.
– Потому ты и на токаря второй год учишься, – добавляет напарник. – Тебе что ни говори – не доходит.
Теперь за Шурика вступается Эдик:
– А может, у Шурика другое призвание, вы же не знаете.
– Интересно. Петь не может, работать не хочет. Наверное, пить?
– Шурик, покажи, – просит Эдик. – Покажи этим плебеям хоть номерок из программы!
Шурик встает и направляется к столу, где сидят девчонки. Бесцеремонно отодвигает кого-то из них, подходит к Глаше. Оглянувшись на Эдика, подмигнул и заговорил, обращаясь к Глаше:
– Чавэла, или как там у вас говорят. Джятус Ляна, позолоти ручку, скажу, что было, что будет...
Глаша улыбнулась, поднялась со стула, манит пальцем Шурика поближе, словно хочет что-то сказать на ушко:
– Су то, чаво на заджяса? Подойди поближе. Я и сама могу сказать тебе, что было, что будет.
– Скажи, красавица, скажи, – Шурик протягивает руку Глаше. – Скажи, век не забуду.
– А то, что я таких прыщавых, как ты, по морде била.
– Ну и как они? – уже по инерции спрашивает Шурик, видя, как сверкнули недобрым огнем Глашины глаза.
– А вот так! – Глаша со всей силы припечатывает Шурику звонкую пощечину. – И еще вот так! – Глаша с левой руки бьет Шурика по щеке. Тот закрыл лицо, потом убрал руки от щек, шарит вокруг глазами, ища свидетелей. Но свидетели, как по команде, отвернулись и стали выходить из красного уголка. И только в коридоре загудели, загоготали, окружили Глашу, одобрительно трясут ее за плечи и обнимают.
В красном уголке остались Эдик и Шурик. Они туповато смотрят друг на друга. И этот номер сорвался! Не везет...
– Ну, она за это ответит, – решает Шурик.
– А чо ты ей сделаешь?
– Знаю, найдем управу. Будешь свидетелем?
– А вообще ты, Шурик, сам виноват. Надо было бы только порепетировать, а ты с ходу начал выступать.
– Я тя спрашиваю, ты все видел?
– Ну, видел.
– Будешь свидетелем?
– Нет, Шурик, не буду.
– Предатель, да?
– Шурик, я стратег. Ты же видишь, силы наши неравны... Ладно, я пошел на участок.
...Цех уже работал, когда к Глаше подошел председатель цехового комитета, дядя Шурика.
– Товарищ Гнучая, – сказал Дубов, – вас вызывает к себе начальник цеха.
– Чего я там не видела? – спокойно спрашивает Глаша, продолжая работать.
– Увидишь, если не видела.
– Катись колбаской к своему начальнику!
– Ты как разговариваешь, соплячка? Это тебе не на улице, это тебе не базар...
– Все равно катись!
Дубов ушел восвояси. Через некоторое время начальник цеха пригласил к себе Табакова. В кабинете Лукина сидели предцехкома Дубов и Шурик. На щеке молодого Дубова до сих пор горел Глашин автограф. Лукин, как всегда, расхаживал по кабинету.
– Ну что, кажется, началось, – сказал Лукин Василию. – Слышал, что твоя подшефная отмочила номер?
– Не только слышал, но и видел.
– И как ты это расцениваешь?
– Положительно.
– То есть? – Лукин остановился, вскинул вопросительно брови.
– Она правильно поступила.
– Ты что же, Василий Иванович, считаешь, что рукоприкладство в цехе должно стать нормой поведения?
– Пока есть хамство, и это иногда годится. Вот его надо наказать, – кивает на Шурика.
– Ладно, разберемся. – Лукин садится за стол. – Василий Иванович, сходи на участок, приведи сюда Глашу.
– Почему я?
– Она же никого не слушает, – не скрывая улыбки, говорит Лукин. – Вон Петра Сергеевича послала... к такой бабушке... Иди, тебя она, конечно, послушается.
Когда Василий пришел на участок к Глаше, возле нее уже стояло несколько девчонок и парней. Слышались голоса:
– Значит, Шурик пожаловался начальнику.
– Он же племянник Дубова.
– Два дуба... Старый и молодой.
– Ничего, Глаша, если что, мы с тобой...
– Глаша, пойдем к начальнику цеха, – сказал Василий.
– Пусть того прыщавого вызывает.
– Да он уже там сидит, за щеку держится. Пойдем.
– Не пойду.
– Мы вместе пойдем...
– Ладно... – Глаша сказала «ладно» так, словно приготовилась еще кое-кому надавать пощечин. Вытерла ветошкой руки, поправила поясок на халате, одернула полы. – Идем...
В это время в кабинете Лукина шел разговор:
Лукин: Ты, Шурик, толком расскажи, за что она тебя?
Шурик: Ну, я же вам говорил, что хотел похохмить...
Терехов: Что это значит – похохмить?
Дубов: Ты давай говори по-нормальному, не строй из себя...
Шурик: А я и говорю по-нормальному. Я же хотел побалдеть...
Лукин: Одним словом, схохмил. Вот сейчас придет Глаша, и ты перед ней извинишься.
Шурик: Здрасьте! Она меня ударила, и я еще должен извиняться. Фиг! Пусть она извиняется.
Лукин: И она извинится. Но не за то, что виновата перед тобой, а для того, чтобы помаленьку привыкала к спору без кулаков. Ты же понимать должен, из какой она жизни пришла в нашу жизнь. Ее беречь надо...
Открывается дверь, входят Табаков с Глашей, а за ними протискиваются в дверь девчонки и парни. Лукин оттесняет ребят назад.
– Товарищи, товарищи, зачем же так много?! Я ведь пригласил одну Глашу, мы не собираемся митинг проводить, собрания тоже не будет. Закройте пожалуйста, двери и идите работать. Василий Иванович с Глашей, проходите, садитесь.
Закрыв дверь, Николай Петрович пошел за стол, уселся. Говорит:
– Расскажи-ка, Глаша, за что ты отхлестала Шурика.
– А он разве не рассказал?
– Рассказал, но весьма туманно.
Дубов-старший не выдерживает:
– Это, товарищ Гнучая, называется рукоприкладством и хулиганством. А за это знаешь, что бывает...
Лукин останавливает Дубова:
– Подожди, Петр Сергеевич, выносить классификации. Дайте человеку слово сказать. Говори, Глаша.
– Пусть скажет спасибо, что у меня под руками ничего не было, а то бы я из его рожи терку сделала... Он думал, что надо мной можно смеяться, а я перед ним на цырлах буду ходить. Вот тебе! – Глаша показала Шурику выразительный кукиш.
Лукин спрятал улыбку в ладонь, сделал вид, что не заметил Глашиного жеста. Потом сказал:
– Однако мы ждем, что скажет Шурик. Виноват ты перед Глашей?
– Ну, виноват, извиняюсь.
– Ну вот, кажется, лед тронулся. Теперь слово за Глашей. Ты считаешь свой поступок правильным? Может, тоже извинишься? Он ведь извинился.
Глаша вопросительно смотрит на Василия, тот пожимает плечами: мол, дело твое, сама решай. Тогда она повернулась к Лукину:
– Я извиняюсь перед вами, Николай Петрович, и перед всеми... А ты, прыщавый, попомни: если еще раз тронешь – вот. – Показала Шурику кулак. – Теперь я не нужна?
– Иди, Глаша, работай, – сказал ей Лукин. – И ты, Шурик, свободен.
Когда Шурик вышел, Лукин захохотал, привалившись спиной к стенке.
– Ну и дипломат Глаша! Даст фору в десять очков и выиграет. Нет, ты посмотри, как ловко вывернулась. Молодчина!
Это окончательно обидело и оскорбило Дубова. Он побагровел, стул под ним скрипнул.
– А у меня, товарищи, создалось такое впечатление, что вы сами поощряете ее на хулиганство и вольности...
– Петр Сергеевич, – сказал Лукин, – в тебе говорят родственные чувства. Ну сам подумай, в чем виновата Глаша? По существу, твой племянник не просто обидел ее, он ранил ее, тяжело ранил, насмешливо напомнив ей о ее недавнем прошлом. Он задел ее национальное чувство, ее национальное достоинство. Вот как надо расценивать выходку Шурика.
– Он обидел не только Глашу, но и всех девчонок и ребят, – добавил Табаков. – Вы же видите, как девчонки к ней относятся. Они все влюблены в Глашу.
– А ты особенно, – буркнул Дубов. Табаков вспыхнул, но ничего сказать не успел, его опередил Лукин:
– Ну, хватит вам, а то придется устраивать еще одно разбирательство. Будем считать, что инцидент исчерпан.
На том и разошлись.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
В комнате общежития, где живет Глаша, всегда весело, шумно. Сюда постоянно забегают девчонки из других комнат. Глаша для них человек необыкновенный. Многое для нее впервые, о многом не имеет никакого понятия.
Например, в цеховой столовой Глаша несколько раз принималась торговаться с кассиршей. Та ей подсчитает стоимость обеда и говорит: «Сорок семь копеек». Глаша ей в ответ: «Да ты что! Тридцать копеек – больше не дам...» Другой раз отдает рубль и пошла. Кассирша ей вдогонку: «Возьми сдачу-то», а Глаша отвечает: «Да ладно тебе, на том свете рассчитаемся».
Она часто незаметно для других наблюдает за подругами. Увидела, что все утром в умывальнике чистят зубы, купила зубную щетку и порошок. Перед сном пошла в умывальник, раскрыла коробочку с порошком, тычет в нее щеткой, а порошок не берется. Задумалась. Понаблюдала за соседкой – догадалась: щетку нужно прежде смочить водой. А когда почистила зубы, умылась и почувствовала во рту холодноватый и легкий вкус мяты – невольно улыбнулась: еще одному делу научилась.
Ее новые подруги в свободные вечера собираются на танцевальную веранду или просто по улице побродить. Глашу зовут, но она отказывается.
– Ну почему ты не хочешь идти с нами?
– Сама не знаю. Не могу.
– Почему не можешь? – допытываются.
– Знала бы, так сказала...
Сама-то Глаша знала причину, но ни себе, ни другим объяснить не умела. Для нее улица по-прежнему оставалась чем-то мрачным, нехорошим. Она боялась воспоминаний о прошлом, о том, как совсем недавно ходила по центральным скверам, в самых людных местах. Боялась встретиться с матерью. Она еще стыдилась своего нового платья, туфель, купленных с получки, чувствовала себя в них неловко.
...Слава богу, сегодня девушки никуда не идут, и обошлось без очередных уговоров и допросов: почему да отчего? В общежитии уже многие знают, что Глаша хорошо играет на гитаре и поет.
В дверь заглядывает девушка из соседней комнаты. У нее в руках гитара.
– Девчонки, у вас кто-нибудь умеет настраивать?
– Да чего уж прикидываешься? – говорит Глаша. – Давай настрою. – Берет гитару, садится на свою койку, а Тоня Фомина уже ластится к ней:
– Глаша, любушка, ну пожалуйста, а? «Ручеек»! Сыграй, прошу тебя, «Ручеек».
– Дай настроить, не торопи...
Она, кажется, беспорядочно гладит струны, будто хочет приручить их, задобрить лаской. Звучит что-то отдаленно напоминающее стройную мелодию. Постепенно Глашины пальцы разбирают себе по струночке. Сама она смотрит задумчиво куда-то за окно, к чему-то прислушивается. И кажется, что струны сами поют. Мелодия вырисовывается постепенно, как рождается летний рассвет. Вот уж видится взгорочек, с которого со звоном скатывается светлый ручеек. Глаша что-то шепчет, почти беззвучно. А вот уже и слова можно разобрать: «Ах, вы, струночки мои медные, вы соскучились по мне, бедные. Как же долго вы молчали, без меня скучали...» Нет, она еще не поет, а говорит речитативом. Потом слова накаляются все сильнее и сильнее, выстраиваются и просятся на волюшку. Глашины пальцы бегают по струнам быстро-быстро, звуки догоняют друг друга и потом сливаются в такой аккорд, от которого сердце то холодеет, то в огонь окунается. Звенит музыка, словно перекатывается через камушки веселый ручеек.
Ай, ручеек, ручеек!
Брала воду на чаек,
Сама смотрела в ручеек.
Ай, вода замутилася,
С милым разлучилася...
А нэ-нэ-нэ-нэ, чавалэ!
Доханэ, ёне ман,
Тирэ калэ якха,
Савэ гожа енэ.
Ай, мыем, хасием.
Полюбили они меня,
Твои черные глаза,
Распрекрасные они.
Ай, умерла я, пропа-а-ла...
Ах, как играет Глаша! Играючи, еле заметно подергивает плечиками, ногой притоптывает, смеется глазами: «Брала воду на чаек, сама смотрела в ручеек».
Конечно же, комната полна народу, многие толпятся в коридоре, вытягивают шеи, чтобы увидеть певунью. И закипела в Глаше цыганская кровь, заиграли в глазах чертики, ходуном ходят ее плечи. Р-р-раз! – гитара умолкла, Глаша смотрит вопросительно:
– Кто сыграет цыганскую? – Тишина. Слышно, как на окне шелестит штора.
– Дай-ка попробую! – От двери сквозь толпу протискивается Табаков. Молча берет гитару, садится на Глашино место, а она выходит на освободившийся посреди комнаты пятачок. С далекого и тихого наплыва начинает Василий. С перепадами и со стоном набирает гитара напряженный ритм. Глаша прошлась по кругу плавно и тихо, словно и не собиралась плясать. Замерла, чуть склонившись в одну сторону, развела руки. Ее тело кажется неподвижным, но так только кажется. Вот уже плечи еле заметно затрепетали, словно крылья бабочки. А лицо Глаши спокойно, улыбчиво, будто она к чему-то прислушивается. Все тело ее вроде бы и не напряжено, и в то же время в нем словно готовится взорваться заряд. Но в тот момент, когда до взрыва остается доля секунды, Глаша распрямляется и плавно парит по кругу, звонко прищелкивая пальцами. Все четче и резче становится ритм, и Глаша переходит на частую дробь. Но вот взрыв накопившейся бури, страсти – и нет уже Глаши. Остается один огонь, один вихрь, которому тесно не только в этой комнате, но и на земле. Он полыхает, рвется к небу, он страшен, тревожен и необъясним. Р-р-раз! – музыка оборвалась резко, словно высверк молнии. Тишина. Сейчас – гром. Вот он! Вздрогнуло все от аплодисментов и от единого выдоха из десятков грудей.
– Ну, Глаша, ну, молодчина!
– Насмерть всех сразила! i
– Ах, ягодиночка, ах, золотиночка! – перекрывает всех комендант общежития Нина Петровна. – Василий Иванович, и где вы только такую отыскали?
– Бог послал и велел беречь, – отвечает Табаков. Нина Петровна никак не уймет своего восторга. Подошла к Глаше, обняла:
– Дай хоть поцелую тебя! Ну и порадовала нас, ну и повеселила. Да тебя за это на руках носить надо. Василий Иванович, ну, чего же вы стоите?!
Василий подошел к Глаше, делая вид, что хочет взять на руки. Но она укоризненно глянула на него и тихо сказала:
– Не надо, Василий Иванович. Не надо...
– Ну, ребятишки, пора теперь по комнатам, по домам. Время вышло, – командует Нина Петровна, и все нехотя покидают комнату. Остались одни хозяева. И Тоня сразу же в атаку на Глашу:
– Глаша, злодейка такая, пришел твой последний час. – Саша и Люся тоже окружают Глашу, теснят к койке:
– Мы сгораем от ревности!..
– Ты затмила нас, ты убила нас, – на мотив «Очи черные».
– Что тебе Табаков сказал? – валят Глашу на койку, хохочут.
– Пустите, девчонки, ну вас! Ничо он мне не Сказал.
– Нет, что-то сказал!
– Ну, сказал, сказал...
– Что?
– Не скажу.
– Почему?
– Мне страшно.
– Глупенькая ты, – говорит Тоня. – Это не страх, это естественное чувство тревоги. Оно всем знакомо.
– Нет, девочки, у меня такое чувство, будто случится что-то страшное, – говорит Глаша, усаживаясь на койке, поправляя растрепавшиеся волосы.
– Вздор!
– Нет-нет, – убежденно возражает Глаша. – Я всего боюсь. Первый раз деньги получала – страшно было. Иду с вами на завод – страшно. В общежитие идем – страшно. Боюсь тети Дуси на проходной, боюсь Нины Петровны. Вот лежу на койке, а мне кажется, сейчас она войдет и скажет: а ты как сюда попала? Марш отсюда! Мне кажется, что я должна жить там, где родилась, а здесь не имею права. Братишек жалко, племяша жалко. Мать с отцом, дедушку жалко. – Глаша вдруг заплакала, упала на подушку. – Ну почему, почему они живут так? Почему не хотят жить, как все, как вы, как я теперь?.. Боюсь я, девочки, себя даже... Страшно мне, стра-а-шно! – Глаша опять падает на подушку. Девчонки молчат, Тоня садится рядом, гладит ее плечи, волосы.
– Успокойся, Глашенька, успокойся. Все будет хорошо. Давай-ка мы тебя в постель уложим... Успокойся, любушка...
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
После того вечера в Глашиной комнате Василии, может быть, впервые попытался разобраться в том, что же все-таки произошло с ним за дни знакомства с Глашей. Задумался, пробуя сравнить себя, сегодняшнего, с тем, каким был до знакомства с Глашей. И удивительно: будто раньше жил вовсе не он, или жил, но в какой-то оболочке, которая вот только что спала с него. Будто с того дня, когда Глаша проводила его на автобус, началась какая-то иная, тревожная, чем-то озаренная жизнь. Она ему еще непонятна, эта новая жизнь, но оттого, наверное, и тревожно, что все неясно и непонятно. Теперь он уже точно мог признаться самому себе в том, что мысли его все время заняты Глашей. Вроде бы все закончено с ее устройством, вроде бы можно и отключиться от забот о новенькой, но нет. Не выходит из головы она.
Почему-то все чаще хочется остаться одному, чтобы ничто не мешало думать о ней. Дома, ложась спать, скорее закрывает глаза, чтобы она приснилась. И она снится. Утром просыпается с мыслями о Глаше. А на завод идет – жалеет, что нет крыльев, хочется скорее быть там, чтобы увидеть ее, услышать ее голос, ее имя, произносимое другими. И прислушаться, как при виде ее вдруг учащенно и сладостно забьется в груди радость... Хорошо-то как, черт подери!
Как-то утром пришел в техбюро – там еще никого нет. Дурачась, сорвал телефонную трубку с аппарата, набрал, не глядя, несколько цифр:
– Алло! Вы знаете Глашу Гнучую? Как, не знаете? Ну, так знайте, что я ее люблю! – и бросил трубку.
– Поздравляю, поздравляю! – на пороге стоит начальник техбюро Любовь Андреевна и с ехидцей смотрит на Табакова. Таким она его не видела ни разу. – Поздравляю, Василий Иванович, поздравляю! Наконец-то признался... А то все скрывал...
В обеденный перерыв Табаков сбегал в кинотеатр, купил два билета на вечер. И только когда билеты были уже в кармане подумал: «Гм... что-то ты, брат, очень самоуверен... А вдруг она не захочет идти с тобой? Одно дело – твои «шефские» заботы о ней, другое – твои сердечные чувства...»
Улучив момент, когда Глаша осталась одна, подошел:
– Здравствуй, Глаша!
– Здравствуй. – Поздоровалась, не поднимая длинных ресниц, от которых под глазами подрагивали тени. Василию почему-то сделалось боязно в ожидании того мига, когда Глашины ресницы взлетят и он увидит ее глаза. Ему казалось, что они сейчас обожгут своей огненной теменью. Глаша подняла ресницы, и на Василия словно легким морским ветром подуло, ласковым и неустойчивым. Он улыбнулся:
– Глаша!
– Чо?
– Как это я не видел, что у тебя глаза синие? Вот ведь...
– Плохо смотрел.
– Теперь, можно, буду лучше смотреть?
– Как бы не надоело...
– Глаша, ты сердишься на меня, что ли?
– Сердись, не сердись – не легче.
– Не понимаю, что с тобой. В чем я виноват?
– Я чо, прокурор – судить тебя.
– Ну, давай поговорим откровенно.
– Не сейчас только.
– Почему?
– А вон уже глаза на нас пялят, скалятся. – Табаков осмотрелся. Действительно, на соседнем участке стоят несколько парней, перемигиваются.
– Так ты их испугалась?
– Противно. – Сказала и зябко поежилась.
– Пойдем сегодня в кино на восемь часов?
– Ты это сам придумал или кто посоветовал? – Смотрит на Василия потеплевшими глазами.
– С кем же мне советоваться?
– Ну, с начальником цеха...
– Так пойдем?
– Слава богу, осмелился. Те вон, – кивнула в сторону парней, – с первого дня приглашают на танцы... Даже в ресторан приглашали.
– А ты что же?
– А я ждала, когда ты пригласишь... Ну ладно, иди, вон уже мастер идет, обед кончился...
Табаков поднялся в техбюро. Все технологи на местах. В комнате необычная тишина. Сел за свой столик, огляделся и понял, что он своим приходом оборвал какой-то разговор. Мужчины склонили головы, некоторые усмехаются, машинально роются в столах, перелистывают бумаги. У Любови Андреевны на полных щеках красные пятна.
Какое-то недоброе предчувствие шевельнулось у Табакова в груди: «Неужели обо мне был разговор?» Не выдержал:
– Я вам помешал? Может быть, продолжите?
– Время для разговоров вышло, – торопливо отвечает Любовь Андреевна. – А вам, Василий Иванович, делаю замечание: обеденный перерыв закончился пять минут назад. Примите к сведению. А сейчас идите в отдел главного технолога, согласуйте техпроцесс на новый фланец.
– Любовь Андреевна, так это же не моя деталь, не я же составлял...
– Ничего, разберетесь. Не теряйте времени.
Табаков – самый молодой технолог в цехе, поэтому «мама Люба», как зовут за глаза Любовь Андреевну, считает, что она вправе говорить с ним любым тоном – насмешливым, материнским, начальственным. Тем более что Табакову еще рано задирать нос, рано думать о самостоятельности и независимости. Да Василий ей и не перечил никогда. В другое время он пошел бы, наверное, безропотно в этот самый ОГТ – отдел главного технолога, раз велит начальство. Но сейчас в нем все запротестовало, заупрямилось.
– А почему я? Вот же Петр Степанович ведет эту деталь, он и обязан...
– Тогда я доложу о вашем поведении начальнику цеха.
– Пожалуйста. Так будет лучше.
Наступила тишина. Табаков достал в столе технологическую карту, над которой работал в последние дни, и склонился над столом. Технолог Кулаков, тот самый Петр Степанович, взял на столе Любови Андреевны «свой» техпроцесс и вышел. Любовь Андреевна до конца рабочего дня не выходила из техбюро, начальнику цеха она ничего не стала докладывать.
К кинотеатру Глаша подошла в половине восьмого, но Василий уже целых полчаса мерил шагами тротуар. Он снова чувствовал, что образ Глаши двоится в его сознании. То она ему представлялась той высокой «не цыганкой, а сербиянкой», то совсем маленькой девчушкой, нуждающейся в защите и покровительстве. Опять он наедине с самим собой не мог представить Глашины глаза голубыми.
И вот она пришла – напряженная, взволнованная. На ней коротенькая серая юбка, белая кофточка-безрукавка, волосы уложены на макушке и заколоты белой шпилькой. На ногах белые туфли на высоком каблуке. Наверное, девчонки из общежития изрядно похлопотали вокруг Глаши, чтобы проводить ее на свидание. От той самоуверенной и решительной цыганки сейчас не осталось ничего. Это была совсем другая Глаша, даже не та, какую он видел сегодня в цехе. Подошла к нему, смотрит в глаза, и взгляд ее говорит: «Ну, вот, пришла. Что дальше? Что я должна делать?»
Это было не просто ее первое свидание в жизни. Сейчас сбывалось то, о чем она боялась и даже не умела мечтать, чему она совсем недавно, живя в отцовском доме, зло завидовала, что казалось ей совсем несбыточным. Ей трудно было поверить, что все грубое и холодное, заслонявшее от нее вот эту новую жизнь, осталось позади, В отличие от парней-цыган, дерзких, грубых и драчливых, Василий Иванович казался ей человеком необыкновенным: нежным, добрым и в то же время сильным.
Василий легонько взял ее за прохладный локоть, повел по ступенькам к входу в кинотеатр. От прикосновения его Глаша внутренне вздрогнула. Держа ее под руку, Василий как бы чуточку помогал подниматься Глаше по ступенькам, и она ошеломленно ощущала необыкновенную легкость и непреоборимую власть его руки.
В фойе Василий водил Глашу мимо фотовитрин, с которых смотрели то гневные, то ласковые, то насмешливые глаза героев старых и новых фильмов. Василий, узнавая знакомых артистов кино, не то себе, не то Глаше называл их фамилии, кинофильмы, в которых они снимались. Говорил так, будто с ним рядом шла не Глаша, видевшая в своей жизни не более двух фильмов, а человек, более-менее регулярно посещающий кино. Иногда он даже задавал вопросы, но они были адресованы как бы не прямо ей, а произносились таким тоном, что на них можно было и не отвечать. И Глаша молчала. Незаметно для самой себя теперь уже она держала Василия под руку, вернее – держалась обеими руками за его руку выше локтя, словно боясь отстать и затеряться в толпе...
Они смотрели «Три тополя на Плющихе» – светлый и печальный рассказ о рождении любви и ее гибели... Никого не спросив, ничего не желая знать, родилась любовь. Родилась такой, какой должна быть – чистой, наивной и уязвимой. Но родилась поздно. Холод условностей и предрассудков тут же хлынул на нее, обжег, как морозный ветер обжигает опоздавший расцвести цветок...
К общежитию шли пешком. Сзади шли из кино юнцы, ржали и цинично «обсуждали» фильм.
Глаша остановилась, придержала Василия:
– Подожди, пусть эти пройдут вперед.
Парни цепью надвинулись на них, потом цепь разорвалась посредине и снова сомкнулась, но уже впереди. Среди парней Василий узнал Шурика Дубова. Когда шумный табун удалился, они снова пошли вперед. Глубоко вздохнув, Глаша заговорила:
– Знаешь, мне жалко его.
– Кого?
– Да шофера, таксиста-то, в кино который...
– Почему?
– Хороший он человек, сразу видно. Добрый, а невезучий.
– А ее разве тебе не жаль?
– Она сама виновата, что не вышла к нему. Он так ждал, так ждал...
– Она просто боялась. Ведь у нее дети, муж, хозяйство...
– Такой муж, как у нее, – пусть бы он сгорел вместе с хозяйством. А детей она бы с собой забрала. Неправда, что ли? Этот-то не обидел бы их, если ее полюбил.
– Видишь, Глаша, я тебе все говорю приблизительно, упрощенно. Вот, например, если бы мы полюбили друг друга, нам ничто и никто не помешал бы быть вместе. Мы с тобой свободны от обязанностей перед другими, то есть мы холостые. А вот когда рождается любовь между людьми, у которых есть семьи, тут уже в борьбу с любовью вступают чувство долга перед семьей, сами семьи и окружающие люди.
Глаша захохотала, взъерошила рукой его загривок:
– Воспитываешь, да? Знаю, как это у вас называется! Моральное разложение. Чудак ты!.. Ну вот мы и пришли! Побегу, а то у нас в одиннадцать вахтерша дверь запирает. Будь здоров!
Василий не успел даже ей руку подать. А намеревался сегодня сказать ей о своих чувствах, о том, что с каждым днем все больше и больше его тревожит.
На следующее утро, едва Табаков вошел в техбюро, Любовь Андреевна встретила его вопросом:
– Ну, как кино, Василий Иванович?
– А вы откуда знаете, что я в кино был?
– Мы даже знаем, с кем вы ходили.
– Мне кажется, у вас появился какой-то нездоровый интерес к моим личным делам...
– Наоборот, здоровый интерес к нездоровым делам.
– Что вы подразумеваете под «нездоровыми делами»?
– А вы и сами знаете. И не стройте из себя... Между прочим, здесь не место для разговоров на эту тему, занимайтесь делами.
Любовь Андреевна мощно развернулась на взвизгнувшем стуле, сняла трубку телефона. И вышло так, будто технолог Табаков сам затеял этот «непроизводственный» разговор, словно он такой работник, которому бы только лясы точить, но не заниматься делом. А она, Любовь Андреевна, такого не потерпит...
В обед Табаков в дверях столовки столкнулся с председателем цехового комитета Петром Сергеевичем Дубовым. Разминулись, потом Дубов, как бы вспомнив что-то, подошел к Табакову.
– Слушай, Василий Иванович, чуть не забыл тебе сказать! После работы на часик надо собраться, кое-что обсудить. Не забудь!
– А что за вопрос?
– Да там всякое... Подходи.
На заседании цехового комитета распределяли путевки в пионерский лагерь, в дома отдыха, кому-то оказывали материальную помощь на период лечения. Одним словом, вопросы были «летние». А когда все уже собрались расходиться, Дубов спохватился:
– Да, товарищи, чуть не забыл!.. Тут у нас один внеплановый вопросик есть... Собственно, это и не вопрос, а так, товарищеский разговор... Слушай, Василий Иванович, расскажи, что там у тебя с этой... с новенькой, цыганкой? А то по цеху какие-то разговоры ходят, а мы ничего не знаем.
Табаков недоуменно поглядел на членов цехкома. При чем здесь он, почему об этом надо говорить на цеховом комитете? И вообще, какие «разговоры»?
Дубов, не дождавшись ответа от Василия, словно не замечая его оторопи, спокойно пояснил членам цехкома:
– Товарищи, тут дело такое. Оно, может, и выеденного яйца не стоит, но ведь речь идет о члене цехового комитета, нашем товарище, Василий Ивановиче... Я хотел бы коротко проинформировать... Дело в том, что...
– По какому праву вы заводите этот разговор?! – Табаков вскочил со стула. – Чью-то выдумку возводите черт знает во что! Не к лицу, вам, Петр Сергеевич, пожилому человеку, ввязываться в сплетни...
Петр Сергеевич пропустил мимо ушей слова Табакова, будто они не ему были адресованы, будто не он только что требовал от Табакова объяснения.
– Вы знаете, товарищи, что эту цыганку в цех устроил товарищ Табаков. Что ж, ладно. Но ведь теперь ходят разговоры, будто товарищ Табаков за оказанную услугу хочет кое-что получить от цыганки... Одним словом, отношения непонятные...
– Хамство и бестактность! – воскликнул Табаков.
– А вы не забывайте, где находитесь, – спокойно сказал Дубов, переходя на «вы». – Мы не можем сквозь пальцы смотреть на...
– Подожди, Петр Сергеевич, – остановил его Иван Антонович Косов, старый карусельщик с четвертого участка. – Мне кажется, что ты не туда гнешь. Ты в чем обвиняешь Ваську-то? Он что, ее у мужа отнял или сам жену бросил, а к ней пошел? Дело молодое, и тут никто никому не указ. А нам в это дело мешаться не след. Зря ты, зря человека обидел...
– Но он же член цехового комитета!
– Ну так что ж, спасибо ему за это. Другого в его годы не шибко-то к такой работе призовешь, а он работает, и не хуже нас с тобой. А что касается того самого... тут ты, Сергеевич, брось, перегнул, кого-то послушался, а с нами не посоветовался... Нечего нам больше обсуждать.
Косова поддержали почти все члены цехового комитета. А Дубов закончил так:
– Смотрите, дело ваше. Я хотел как лучше, своевременно чтобы...
Дома Василий долго и сердито мылся в ванне, резко растирал ладонями тело, словно хотел смыть неприятное ощущение. Переоделся в свою самую красивую рубаху, надел самые красивые носки и на днях купленные сандалеты. В восемь вечера он был уже у Глашиного общежития, хотя о свидании на сегодня договора не было. Вошел во двор и сразу же увидел Глашу в открытом настежь окне. Локти поставлены на подоконник, ладошки подхватили уроненный подбородок. Лицо ее озарилось улыбкой. Он призывно махнул ей рукой. Минут через пять она была рядом с ним.
– Куда пойдем? – спросил Василий.
– Куда скажешь.
– В кино хочешь?
– Нет, я еще вчерашнее не забыла.
– Пойдем в кафе? Я не ужинал.
– Пойдем. – Глаша взяла его под руку, , и зацокали ее каблучки по тротуару. Василий один раз глухо шаркнет мягкой подошвой, а Глаша два раза: цок, цок, цок-цок!
А еще через два дня Любовь Андреевна, небрежно швырнув на край своего стола какую-то бумажку, сказала:







