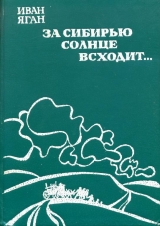
Текст книги "За Сибирью солнце всходит..."
Автор книги: Иван Яган
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
У нас в то время уже был свой дом, и в одной его половине, за капитальной стенкой жил Петро с семьей. У меня другого выхода не было, как пойти к нему. Пошел и все высказал, попросил денег. Денег он не дал, но сказал: «Иди спи, утром разберемся». Поутру я, собирясь гнать корову на пустырь, забежал к Петру. Маруся сказала, что он ушел куда-то еще затемно. Что делать? Не мог же Петька забыть обо мне, не мог обмануть. С сомнениями и тревогой двинулся за коровой на пустырь. Там меня уже ждали. Навстречу вышел «сам», с челочкой и фиксой во рту, детина лет двадцати с уже волосатой грудью, по кличке Лысый.
– Приволок должок, пионер?
– Нет пока, но...
– Так я ж счас тебе буду делать плохо...
Лысый двумя пальцами поддел меня под подбородок, да так, что клацнули мои зубы и голова откинулась назад. Глаза сами собой закрылись от страха. Но тут что-то произошло. Когда я открыл глаза, Лысый лежал на земле, а над ним стоял Петро. Он как из-под земли вырос.
– Поднимайся, сволочь! – скомандовал брат. Лысый поднялся. Петро снова молниеносным ударом поверг его наземь. И опять: «Вставай!» Теперь брат взял Лысого за манишку и, встряхивая, говорил:
– Я тебя сейчас могу застрелить, как паршивую собаку, без суда, и суд меня оправдает. Понял?
– Понял.
– Заруби, тля подвальная, что не хочу делать этого при пацанах. И арестовывать тебя нет желания по той же причине. Все равно тебя возьмут другие. Но если ты еще хоть пальцем тронешь его, – показал на меня, – то дело будешь иметь со мной. Хоть пальцем, понял? Он мой брат и сирота... И других ребят не трогай. Ясно?
– Век свободы не видать! – сказал Лысый. – Не трону и никто не тронет. Дай пять! – протянул Петру руку.
– Обойдешься. А впрочем – держи! – Брат взял руку Лысого, сжал, сделал почти невидимое движение, и тот взвыл и опять оказался на земле.
– Да ты чо, падло буду! Ну сказал же – все. Я ж не трёкаюсь. Кончай! – говорил Лысый, лежа на земле. – Сильный, можешь... Вижу, понял...
– Ну, вот хорошо, что понял. Я пошел. А ты, – обратился ко мне, – не бойся, не тронут. Я их знаю. У них слово твердое. Не бойся. – Потрепал меня по голове и ушел.
Тогда я заметил как из ям и канав стали сползаться на место происшествия, озираясь и приходя в себя, сотоварищи Лысого. Окружили его молчаливо, а он сидел на земле «по-казахски» – ноги калачиком – и нервно рвал траву, ни на кого не глядя.
Потом поднял на меня печальные глаза и поманил пальцем. Я подошел поближе.
– Сядь! – я сел. – Он внатуре твой братан?
– Да.
– Ну, падло, дает! – сказал с нескрываемым восторгом. – Кто на вассоре стоял?
– Я... – робко отозвался конопатый пацан лет тринадцати.
– А где твои зенки были? Как он подкрался?
– Не знаю...
– Век свободы не видать! – Лысый стукнул кулаком в грудь. – Вот это легавый так легавый! И главно, он не смола. Отметелил, падло, и ушел!
Рассуждая, Лысый ощупывал подбородок, встряхивал и поводил правой рукой, проверяя, не вывихнута ли она. Затем скомандовал:
– Ну-ка сообразите поштевкать (поесть)!
Вскоре на фанере перед Лысым была разложена еда и даже выпивка появилась. Он пригласил меня к столу. Предложил выпить. Я отказался.
– А, забыл: ты же пионер... Ну, давай шамай... Нет, он внатуре твой братан? Он чо, спорцмен?
– Он офицером на фронте был, – сказал я. – А спортом он занимался еще до армии.
– Ну, я же сразу допер... Век свободы не видать!
Я знал, что со свободой Лысый все-таки распрощался в свое время. Но не знаю, претворил ли он в жизнь лозунг, который и сейчас является главным в некоторых местах: «На свободу – с чистой совестью»...
Передавая Лене «эстафету», я знал: ему предстоит пройти почти все то, что пришлось мне. Хуже того, уезжал и Петро, заступник и наставник. Это усиливало мою тревогу. Леня прошел все достойно. Ничто дурное не пристало к нему, ранило, но не замутило его чистую и добрую душу, которая в то предрассветное утро услышала мою беду, отозвалась в горький для меня час... Служа на Черном море, я мог сделать для него единственное – писать письма и слать небогатые гонорары за свои первые публикации во флотской газете.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯГоворят, что пожарники спят двадцать четыре часа в сутки, а потом еще двое суток отдыхают дома. Не скажу этого про Петра. Правда, он не совсем пожарник, а шофер на пожарной машине, но распорядок работы у него, как и у всей команды, даже жестче. Сутки дежурит, двое – дома. На эту работу он пошел с дальним прицелом: надо растить двоих сыновей и двух дочек; решил заочно получить среднее образование и вообще заняться самообразованием, коль не удалось в свое время. Две первых задачи решил: среднее образование есть, дети подрастают, взрослеют. Что касается самообразования, то ему, как понял брат, нет предела, как знать, образован ты или нет. Изучил Маркса и Энгельса, Ленина, перечитал Толстого и Пушкина, Чехова и Успенского, Короленко и Бунина, увлекся Шукшиным и Астафьевым.
В годы того «самосовершенствования», бывало, встретимся, и начинает Петро как бы демонстрировать свои литературные и политические познания. Нарочитость этого была видна, но он пытался придать нашим беседам вид непринужденности. Мне хочется поговорить о Байдановке, спросить о Грише Рогозном и других братьях, земляках: как они там? Они к Петру заезжают часто. А он нет-нет да и сведет разговор в сторону: «А ты не помнишь, что по этому поводу сказал Маркс?»; «Вот я всегда думал, что Чехов не знал жизни крестьян, а прочитал его рассказ «В овраге» и убедился в обратном»; «Считаю, что Некрасова у нас еще недостаточно оценили, а ведь он такой же великий поэт, как Пушкин, Лермонтов...»
Признаться, я не все знал, что по такому-то поводу сказал Маркс, и завидовал памяти брата, радовался за него. А все-таки веяло от его рассуждений начетничеством. Об этом сказать ему не мог, а старался свести разговор к чему-либо сегодняшнему.
– Петя, расскажи мне что-нибудь о людях, с которыми ты работаешь. Кто они?
– Да разные люди. Начиная от директора нефтебазы, кончая охранником на проходной. Да только глаза бы не глядели на все... Ну его...
– Что ты имеешь в виду?
– Да что? Воровство у нас на нефтебазе. У директора с главным инженером одни возможности, у мелкой сошки – другие. Идет со смены охранник – и надо ему что-то тяпнуть. А что возьмешь? То солидолу завернет в бумажку, то набьет карманы обтирочной ветошью. Думал, машина у него там или мотоцикл, – ничего подобного. Просто взять больше нечего, а уж в моду вошло – взять надо. Украсть, значит. Слышал же, наверное, как один канцелярский щелкопер, когда взять нечего, уходя с работы, насыпал в карман скрепок, кнопок, клей утаскивал?
А однажды Петро сообщил мне:
– Решил я, брат, в партию вступить.
– Зачем?
– Хочу бороться.
– С чем?
– Со злом. С неправдой.
Мы тогда уже жили вдалеке друг от друга и встречались не часто. Но при случавшихся встречах замечал в брате большие перемены. К «литературным» разговорам он почти не прибегал, а все больше – о жизни, о своей «борьбе» говорил.
– Я же сейчас пропагандист в нашей парторганизации.
– Да?
– Да. Сам добился.
– Как же?
– Не мне надо – людям. Понимаешь, назначили у нас пропагандистом одного вахтера. Стаж партийный у него большой, а знаний – извини. Другие – кто пограмотней, как-то отлынивают от этой работы... В октябре собрались на первое занятие. Наш пропагандист явился небритый, неумытый. Народ похохатывает: мол, для «галочки» сойдет. В тот раз пришел кто-то по поручению райкома, конечно, не из самого райкома. Вот Никифор Иванович наш пропагандист, и говорит: «Сегодня мы начнем изучать...» И так переврал название темы, такое сморозил, что и в курилке произносить нельзя. Надел очки, прокашлялся и начал читать брошюру... Понимаешь? Это же издевательство над святым делом. А тот представитель в конце занятий сказал:
– Товарищи, считаю, что занятие прошло на хорошем уровне. Так и в райкоме доложу. Спасибо Никифору Ивановичу... А вы, товарищи, не хихикайте. Это нехорошо. Он же человек рабочий, надо уважать. Надо спасибо ему сказать за это, за его высокую сознательность...
На следующем занятии никаких проверяющих уже не было, да и народу совсем мало собралось. А потом и вовсе перестали собираться... Уходят мужики с работы, да не по домам, а кто куда. А чаще – в «кельдым» – есть у нас на базе такая забегаловка. Подопьют – дома скандал, кто и прогул совершит. Нет ни к чему интереса, не знают, как убить свободное время.
– И что же, – спрашиваю, – ты стал пропагандистом и дело пошло на лад?
– Представь себе... Только я провожу занятия по своей программе. Все проходим: и «Манифест» изучили, и Историю партии проходим, и текущую политику. Только я в райкоме попросил разрешение: через одно занятие проводить одно по своему плану. У нас кто слушатели – почти все бывшие деревенские, среди охранников и вахтеров – фронтовиков немало. И вот на «своих» занятиях я стал им читать кое-что из классиков, например, Толстого, Чехова, Носова, Шукшина, да других современных писателей, особенно фронтовиков, да о самих писателях рассказывать, – на занятия стали приходить беспартийные. Некоторые даже с вахты ухитряются, забежать, послушать. И главное – меньше стало прогулов и жалоб из семей. Теперь меня просят мужики проводить даже неплановые занятия. Остаюсь, провожу. Правда, готовиться надо много, серьезно. Но это же интересно...
– Это и есть твоя борьба? – спросил я недоуменно.
– Да. Представь себе. Если я отвратил от дурного дела десять-двадцать человек – это не так уж мало. Если я повернул к добру хоть одного-двоих... А насчет борьбы... Слушай. Борюсь.
Главный инженер нефтебазы под видом «списанного» за бесценок, за рубли взял себе совсем новый «газик». Я – в райком. «Разберемся, говорят, спасибо за сигнал». Ждать-пождать, никаких мер. Главный раскатывает в рабочее время на новой машине, даже после работы на ней на пикники, рыбалки катается. А «своя» в гаражике стоит. Ладно. Был неурожай на картошку. Директор, главный и еще какая-то братия снарядили базовский катер и двинули вниз по Иртышу, в Усть-Ишимский район. Там картошка уродилась. Они поехали добывать ее для своих нужд. Накупили или как там, не знаю. Но за этим делом перепились поголовно и на обратном пути столкнулись с самоходкой, утопили катер. Совсем новый, стоит восемьдесят тысяч. И что ты думаешь? Шито-крыто. Молчок. Я – в райком. Так и так, говорю, совершено преступление. «Знаем, – говорят, – разберемся». Спасибо уже не сказали. Жду. А народ-то все знает, гомонит, ко мне с вопросами. Через месяц-два я опять в райком. «Почему никаких мер?..» – «А вам-то, собственно, что надо? Вы кто такой? Вы шофер!» – «Я коммунист», – говорю. – «Покажите ваш билет». Я подал билет. Товарищ посмотрел в билет, встал, открыл сейф и положил в него билет. Сказал: «Наверно, мы поторопились принимать вас в партию. Вишь, правдоискатель... Без году неделя, а уже...» – «Я, – говорю, – пойду в горком» – «Идите, – говорит, – там о вас уже знают... И о ваших политзанятиях знают... Достоевский нашелся... Толстой...»
На следующий день тот товарищ позвонил секретарю нашей парторганизации: «Разберитесь вы там с вашим пропагандистом. Избавляться надо от таких». А наш ему говорит: «Нас не поддержат рядовые коммунисты». – «Как у него с работой?» – «Лучший работник» – «Как насчет... этого?» – «Других отваживает». – «Вас что, на бюро пригласить?» – «Приглашайте вместе с ним...»
– И чем кончилось?
– Да вот пока жду. В горкоме был, сказали, разберемся. А тут на каком-то совещании сказали, что я пятнадцать лет из зарплаты отчисляю в Фонд Мира и уже внес около двух тысяч. Говорят, товарищ из райкома в президиуме аж подпрыгнул и произнес: «Тоже мне пример нашли!». А ему докладчик: «Да, пример. В нашем районе таких немного...» Ну вот, жду...
– Брат, – говорю, – ведь это нелегко. Нервы, канитель. У тебя дети, внуки...
– А если я не могу иначе жить? Не могу тлеть, свет коптить? Главное, меня люди понимают и поддерживают. А ты считаешь, я не прав?
– Прав.
Прав ты, брат мой старший. Да дорого мне твое сердце, душа твоя. Годы немалые. А у тебя я учился и по сию пору учусь жить по правде.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯГриша Рогозный тоже однажды приехал ко мне за советом по щекотливому делу. Помялся, приглядывался и говорит:
– Знаешь, браток, предлагают мне в партию вступать.
– Кто предлагает?
– Ну, секретарь парткома совхозный.
– И как ты?
– Да вот хотел посоветоваться...
– А как, Гриша, они объясняют свое предложение? – спрашиваю.
– Да как... Говорят, рабочий класс – в первую очередь. Рост рядов...
– Не советую, – говорю Грише.
– Почему?
– Ты и так хороший рабочий. Грамотешки у тебя, конечно, маловато. Какую ты пользу принесешь?
– Так, может, мне польза будет, – говорит Гриша. – Другие ведь...
– Что другие?
– Да что. Вот, например, Иван Калюжный – партейный. Пять аварий сделал на машине, а ему – ничего. А я вот один раз, и – за свой счет ремонт. Может, полегче будет...
– Ты с Петром советовался?
– Говорил.
– Что он сказал?
– Не советует. Говорит, не по силам тебе это дело. Без тебя, мол, обойдутся. Даже рассердился: «Выгоду ищешь?»
– Правильно сказал. Кто тебе внушил такое представление о партии? Не слушай, если они сами заблудились, ваши местные. Не обижайся, брат, но я согласен с Петром: не ищи выгоду. Этому скоро настанет конец.
– Думаешь?
– Уверен...
...А с Гришиной машиной мы тогда так решили. Он едет домой и ждет от меня известия. Я встретился с редактором многотиражной газеты «Автотранспортник», разведал насчет кабины. Через день он мне сказал: кабина есть, пусть заплатит наличными или перечислением авторемонтному заводу. Ну, там бутылку коньяку – и дело в шляпе. Я вызвал Гришу.
Заплатил он деньги, получил все документы на кабину. Спрашивает:
– И все?
– И все, – говорю. – И в Горький тебе не надо ехать.
– Так как-то не то, – волнуется брат. – Как-то не по-людски. Отблагодарить бы надо кого-то... как ты думаешь?
Вот же, мать честная! Въелось в человека: ты – мне, я – тебе.
Надо обойти закон, надо вот окольно, не по правде. И главное – там, в деревне, эта зараза живет. Гриша даже понять уже не может этого несчастья, этой беды.
И сказал я ему:
– Ладно, брат, если не можешь без этого, давай сводим двоих мужиков в ресторан. И все.
К вечеру я пригласил редактора многотиражки и начальника какого-то отдела авторемонтного завода в ресторан. Пили коньяк, Гриша – водку. Захмелев, он полез целоваться ко всем по очереди. «Благодетели» постепенно перешли на: «ты – мне, я – тебе», Гриша воспринимал все как должное, сулил мяска, картошки... Иногда он запускал руку во внутренний карман пиджака и наклонялся ко мне, спрашивая:
– Браток, сколько я обязан?
– Официант скажет, – отвечал я.
– Да я не про это! Это само собой.
– А об остальном – ни слова никому. Ты уже заплатил.
Мы даже договорились с начальником отдела, что кабину для Гришиной машины завтра отвезут в Андреевку на заводской машине, поедут люди с завода и помогут ее установить. Так все и вышло. Пришлось только Грише доплатить за транспорт и за работу. На месте я не присутствовал. Не знаю, «сунул» ли брат «на лапу» мужикам заводским. Думаю, что сунул. А если и так, то, может, это от доброты.
Через неделю раздался звонок в моей квартире на пятом этаже.
– Здорово, браток!
– Здорово, Гриша! На своей?
– Как пить дать... На-ка, держи, тут Марфа тебе чо-то передала...
И Гриша сунул мне в руки сумку с чем-то тяжелым...
...Живешь, взрослеешь, в чем-то становишься мудрее. Вот уж и голову инеем прихватило. А бывает час, минута, когда вдруг остро и неотвратимо почувствуешь необходимую потребность родительского слова, взгляда, тепла или хотя бы молчаливого присутствия тех, кто дал тебе жизнь. Даже если твоя жизнь порой покажется невыносимо горькой и душа полна безысходного отчаянья, – даже на этот случай есть спасительная мысль: а если бы тебя вовсе не было на свете, если бы ты не родился по чистой случайности? И эта «несостоявшаяся случайность» вдруг покажется тебе самым бесценным подареньем судьбы, и приходят новые силы и крепнет твой дух, и вновь и вновь зреет в сердце благодарность и нежность к тем, кто подарил тебе сладость земных страданий, кто дал тебе жизнь... И чем ты старше, тем острей и определенней это чувство, эта мысль. И над всем, что происходит с тобой, вокруг тебя, вырастает светлое и радостное удивление тому, что ты есть, что ты живешь...
...Сколько раз приходил на свою улицу, когда жил в Омске, сколько раз приезжаю издалека, и каждый раз, подходя к заветному дому, вижу отца у калитки.
Летом, зимой, осенью ли – он всегда у ворот. Или ходит ссутулившись или сидит на корточках, прислонившись к воротному столбу. Поздороваемся. Спрашиваю:
– Что, отец, мерзнешь на улице?
– Та покурить вышел...
А я знаю: он ждет нас, сыновей, дочерей, внуков...
В последние годы все чаще и чаще думаю о нем. И думы мои нелегкие, и чувства сложные. Вместе с нежностью к нему, с беспокойством за его здоровье обязательно приходит томящее чувство вины и неоплаченного долга. Нет, отец пребывает не в заброшенности. Он живет с дочерью от второй жены, окружен внуками и правнуками, обихожен и присмотрен. Рядом живет Петро, недалеко Алексей, напротив – другая дочь и сестра. Пенсия у него неплохая. Что же тогда гнетет меня, какая вина? Догадываюсь. Все мы, дети, для него как пять пальцев на руке. Какой ни режь – больно одинаково. Знаю, что он больше всего теперь волнуется обо мне, дальше всех отлетевшем от гнезда. Ему каждый день хочется знать, как там сын? Для него неважно, что сын уже сед, сам изведал груз отцовства и вышел, как говорится, на ту самую «прямую». Для него я сын, сынок. Для меня тоже неважно, сколько лет отцу. Он отец. Каждый раз хочется поделиться с ним редкой радостью или пожалиться по-детски в горький час, только ему одному. Его мне никто не заменит – ни брат, ни сестра, ни дочери, ни жена, ни друг, ни учитель. Он единственный на свете человек, родитель мой. Все, что есть во мне с в о е г о, все от него, Пока он жив – я не сирота. Да продлятся дни его!
Надо ехать к отцу. Он ждет. У него встречусь с братьями – родными, двоюродными, троюродными. Там сойдутся, узнав о моем приезде: Петро, Алексей, Гриша, Василий, Владимир, еще один Алексей, Сергей, Анатолий, Федор, еще один Сергей, Николай, еще один Петр, и еще один Иван... Будут их сыновья: Петровы – Сашка и Володя; Гришины – Сашка, Ленька, Сенька, Васька; Сергеев – Андрей; Васин – Сашка... Там будут бегать и шуметь бесчисленные правнуки моего отца... Мы с братьями не делимся на степень родства – родной, двоюродный... Мы все – братья. Почти у всех, кого я назвал и не назвал, почти у всех братьев, кроме нас с Петром и Алексеем, нет отцов, их отняла война. И теперь они тянутся как к своему, к моему отцу, Павлу Андреевичу... Так все и говорят: «Пойдем к деду Ягану». У него мы все вместе будем говорить о Байдановке и под отцовскую гармошку споем заветные песни. Будем говорить о будущем...
Надо ехать к отцу. Он ждет.
ДО ЗАВТРА, ГЛАША!
ПОВЕСТЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Мороз был под сорок. Заводской технолог Василий Табаков шел с работы через виадук. Звенело железо в морозной тиши, стонали, готовые треснуть, рельсы под колесами маневровых паровозов. Люди бежали по виадуку рысцой, заслоняясь воротниками от ломящего виски верхового сквозняка. Звонкий гуд слышался в металлических перилах виадука, покрытых морозным сахаром. Рта не раскрыть – дух забивает жесткий, как рашпиль, воздух. Дощатый настил под ногами тверд, словно костяной, и мерзлые подошвы обуви выбивают из него звуки, похожие на те, какие издает стальной шарик, брошенный на кафельный пол. Все сковано, все оцепенело и окаменело, все пронзила звенящая стынь.
А на виадуке стояла цыганка. На руках у нее грудной ребенок, запеленатый в грязную тряпицу. Возле цыганки еще четверо ребятишек; самому старшему – лет восемь. Обутые кто в резиновые сапожки, кто в худые ботинки и, пожалуй, на босу ногу, они стояли с посиневшими губами и настойчиво теребили юбку матери, просили пойти в вокзал. Мать отталкивала их, но ребята снова цеплялись за ее юбку, отчаянно перебирали замерзшими ногами. И ничего не осталось в них цыганского, потому что и цыганская кровь при таком морозе не в счет. А цыганка успевала все: давать затрещины ребятне, останавливать прохожих, побаюкивать младенца.
Когда Табаков поравнялся с ней, она и его за руку поймала:
– Остановись, чернобровый, скажу как звать, кто тебе хочет болезню сердечную исделать...
Васька попытался высвободить руку, но цыганка цепко схватила его за рукав пальто.
– Не жадничай, для ребятишек не пожалей десять копеек. – Она нацелилась большим и указательным пальцами в Васькин лоб, ловко выщипнула из его брови волосинку и поднесла к своим глазам, словно изучая. Потом дунула на волосинку, разжала пальцы.
– В жизни своей ты видел больше горького, чем сладкого, костюмов после отца не носил, здорово не форсил. Ты человек добрый, но тебе надо быть похитрей. Дают – бери, бьют – беги. Проси побольше, бери, что дают. А по работе тебе будет передвижка...
– Какая передвижка?
– Вверх, сокол, вверх! – цыганка пальцем в небо ткнула. – Тебя скоро ждет дорога и нечаянная встреча... С выпивкой. От крестового короля получишь интересное известие... А с той дамой, что у тебя на сердце, не разрывай, не теряй, она развеет твою печаль, развеселит твою душу. А жить ты будешь девяносто два года.
Но он ее плохо слышал, потому что смотрел на ребятишек. Высвободив руку, предложил цыганке:
– Пойдем в вокзал, не морозь детей.
Цыганка даже не глянула на ребят, отвернулась от Табакова, потеряв весь интерес к нему, стала высматривать нового «клиента». Тогда Васька крепко взял ее за локоть и, подталкивая впереди себя, повел к вокзалу. Цыганка начала вырываться и «по-черному» браниться. Начали останавливаться любопытные. Табаков зло сказал:
– Если пойдешь в вокзал, дам три рубля. Не упрямься, ради них...
– Тогда убери руку, пойдем.
У него не было трех рублей, а было всего десять копеек на автобус. В вокзале цыганята, прямо в тамбуре, где веет теплым ветром от калорифера, попадали на пол, поснимали обутки и, схватившись одеревенелыми красными руками за босые ноги, стали тереть их. Василий понял, что теперь никакая сила не заставит ребят выйти на улицу. Он кинулся в толпу, поймал за рукав мужчину:
– Слушай, ты, кажется, на нашем заводе работаешь, в пятом цехе? Я тебя вижу часто, я из восьмого. Табаков моя фамилия. Одолжи, пожалуйста, три рубля... Вот так нужно! – Он провел рукой по шее: мол, до зарезу. Человек подозрительно окинул его взглядом.
– Рубль, кажется, есть, больше нет.
– Давай рубль! Скажи адрес, я к вечеру привезу.
– Да ну, какой разговор.
– Тогда я завтра принесу в цех.
– Да ладно, бывает, – видимо, по-своему расценил мужчина нужду Табакова в деньгах.
Улыбаясь, Василий стал в очередь у лотка, взял десяток теплых пирожков и с газетным кульком побежал к цыганятам.
– Нате, ребята, грейтесь! А мать-то где? Ушла? Ну, ладно, ешьте, да не выходите на мороз...
Дома рассказал матери о только что виденном, сел на диван закрыл глаза и снова увидел озябших цыганят. Представил, что цыганка опять выведет ребятишек на мороз...
И зачем ему понадобилось останавливаться, рассматривать их, сопливых, замерзших, не понимающих, за что страдают, не знающих, наверное, что у других детей жизнь в сто, в тысячу раз краше? Ведь мог пробежать мимо, как другие, закрывшись воротником, и теперь бы не было этой боли в сердце, не стояли бы перед глазами те четверо. Ах, наверное, потому остановился, что, как сказала цыганка, сам в жизни видел больше горького, чем сладкого...
Пацаном, бывало, он, как и многие другие деревенские ребятишки, за неимением обуток, выскакивал зимой босиком в сенки, а иногда и на улицу. Выбегал на какую-то минуту, пока ноги горячи. Весной перебегал через лужи с ледяной водой на проталины и там играл в мяч. Иногда сходило, иногда после таких «прогулок» одолевали чирьи – на шее, на лодыжках и даже на том месте, которым садятся на лавку.
И все-таки его, закаленного деревенского мальца, однажды пробрал озноб при виде цыган, которые двигались через село. На двух одноконных санях, зарытые в сено, визжали свиньи, а черномазая ребятня шла следом за санями вместе со взрослыми. Было по-мартовски солнечно, но холодно: под стрехами появились первые хрупкие сосульки, а снежные сугробы белели, еще не тронутые солнцем. Мужчины были в добротных сапогах, в валенках с галошами, женщины кто в чем, а цыганята – босиком. Возле дома Табаковых сани остановились, и цыгане стали проситься на постой. Васькина бабушка замахала руками, но, когда увидела посиневших ребятишек, не смогла отказать. К тому же цыганки в один голос тараторили: «Не бойся, мать! Мы не цыганки – мы сербиянки, вот святой крест! Ничего не возьмем сами, чтоб...» Тогда Васька впервые услышал необычную цыганскую клятву: «Чтобы мой язык по корень отсох!» Несмотря на столь страшную клятву, цыганки остались цыганками: не успели они расположиться в избе, как в кладовке что-то загрохотало. Бабушка вышла на шум и застала в кладовке цыганку. – Ты это как сюда попала?
– Заблудилась, матушка, ей-богу, заблудилась. Покарай меня бог, чтоб мой язык отсох по корень, заблудилась!..
Тогда же Васька был свидетелем, как цыгане-мужчины ночью выводили на улицу жен и стегали их кнутами. Бабушка говорила, будто они били их за то, что мало насобирали еды, хотя в деревне тогда и собирать нечего было...
Цыганята, идущие босиком по снегу, тогда воспринимались мальчишеским сознанием как некая потеха. К тому же, старшие говорили, что цыгане разули ребятишек за деревней и согнали с саней нарочно, чтобы разжалобить деревенских баб. А мужики-цыгане тогда же на упреки весело отвечали: «Ничо с ними не сделается! У цыган кровь горячая. Цыгану, даже голому, никакая стужа не страшна, было бы только чем подпоясаться...»
После войны в деревне, где жил Васька, поселилась семья цыган. Это уже были полуоседлые люди, давным-давно позабывшие о таборе. У них и фамилия была русская – Тимофеевы. Никто из деревенских никогда не слышал, чтобы в семье Тимофеевых говорили по-цыгански. Старик, Петр Макарыч, и двое его старших сыновей нанялись в колхозную кузницу, женщины пошли на разные работы. Вечерами старик Тимофеев приходил к Табаковым – «погутарить» с Васькиным отцом о недавней войне, о фронтовых дорогах, о ранениях. Старик Тимофеев на войне не был, и чувствовалось, что он испытывал неловкость и даже вину перед бывшими фронтовиками. Видимо, это и заставило Петра Макарыча сочинять о себе самом различные истории. Одна из них была такая.
– Да, – говорил Петр Макарыч, затягиваясь самосадом, – досталась всем эта война, все хлебнули... Одни там головы клали, а другие здесь страдали... Забрали меня в трудармию, на шахты послали. Подводит меня начальник к шахте и говорит: «Вот здесь будешь работать.» – « А чо я должен делать?» – спрашиваю. «Уголь из шахты вытаскивать». – «Нет – говорю, – батенька, кто его туда заталкивал, тот пусть и вытаскивает...»
Тимофеевы поселились в большом, по тем временам, доме под соломенной крышей. У Петра Макарыча было много взрослых детей – женатых и замужних, а потому в доме и во дворе Тимофеевых с утра до ночи стоял неумолчный гвалт ребятни, с которой Васька и другие деревенские мальчишки завели скорое знакомство.
Чтобы не утруждать себя добычей топлива, Тимофеевы начали разбирать соломенную крышу. Как ни стыдили, как ни журили их соседи и колхозное начальство, виноватого в этой семье нельзя было найти. К весне на доме Тимофеевых не осталось и клочка соломы, ветер посвистывал в голых стропилах. С восходом солнышка цыганята выныривали из заваленной снегом двери и по-обезьяньи вскарабкивались по стропилам на самый конек. Там они грелись в скупых лучах мартовского солнца, сидели полуголые, босиком и весело щебетали...
До сих пор, вспоминая своих деревенских соседей-цыган, Василий удивлялся: у взрослых и у маленьких Тимофеевых была какая-то птичья беззаботность. Голых, голодных, их никогда не покидал странный оптимизм, которым заражались и другие жители деревни. С тех лет в памяти Василия остались частушки:
Ой, цыгане вы, цыгане,
Вы, веселое село!
Вы не сеете, не пашете,
Живете весело...
В колхозной кузнице цыгане работали как черти. Ходили разговоры, будто сам Петр Макарович мог в холодном виде сварить железный обод на колесо к бричке. Как бы там ни было, а колхозный инвентарь был отремонтирован и подготовлен к посевной на отлично. Потому, наверное, Тимофеевым в деревне прощалось многое. И даже то, что вслед за соломой с крыши их дома постепенно исчезли и стропила. К Тимофеевым носили точить или разводить пилы, сами же они топили непиленными жердями. Заволокут жердь в дом, сунут один конец в печку. Потом ее, недогоревшую, вытаскивают, гурьбой несут из избы и втыкают в снежный сугроб «до следующего раза». Почти каждый день в доме цыган звенела гитара. Тогда-то и Васька Табаков научился играть на ней.
Не дольше года прожили Тимофеевы в деревне. Извечная тяга к кочевью, видимо, не выветрилась из их крови, заставила однажды, словно перелетную стаю, сняться и улететь в только им ведомые края...
...Сколько лет прошло с той поры? Двадцать, двадцать пять? Тогда были трудные времена для всех, и не диво, что люди срывались с мест искать лучшую долю. Что же теперь заставляет цыган по-прежнему мотаться по белу свету, жить так неприкаянно?
На следующий день он хотел после работы забежать в райисполком, поинтересоваться, где, в каком районе города живут цыгане, занимается ли кто-нибудь ими – устраивают ли на работу, определяют ли детей в школы. Но после работы было отчетно-выборное профсоюзное собрание, и он не успел в исполком да и раздумал: еще спросят, кто он такой, чтобы интересоваться делами цыган? А если и узнает что-либо, то что из этого?..









