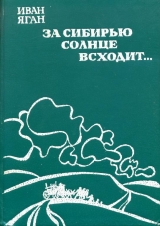
Текст книги "За Сибирью солнце всходит..."
Автор книги: Иван Яган
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Старик сделал озабоченный вид, начал оглядывать комнату, как бы предполагая, где могут быть документы. Но в комнате не было ничего такого, где бы можно хранить паспорта – ни чемодана, ни этажерки, ни полочки. Только гора перин в одном углу; возле печки немытые чугуны, миски да кровать, на которой только что спала Глафира.
Она во все время разговора стояла возле окошка, заглядывала в осколок зеркала, прихорашивала косы, и казалось, будто разговор Василия со стариком ее не касается.
– Глаша, может, ты знаешь, где документы? – обратился к ней Василий.
– Отвяжись со своими документами, агитатор. Надо, так спроси у матери или отца.
– А они скоро вернутся?
– Я почем знаю.
– Так как же мне быть? Я же должен составить списки избирателей вашего куста...
Глаша засмеялась:
– Чего, чего нашего? Как ты сказал?
– Вашего куста. А что?
– Давай-ка, агитатор, так договоримся: ты отваливай в свой куст, а мы будет сидеть в своем кусту. Ха-ха-ха! Умрешь, не оживешь.
– Ничего нет смешного, – сказал Василий. – Раз вы здесь прописаны, я должен составить списки. Вы – избиратели.
Старик, жалеючи агитатора, успокоил его:
– Мы по всей земле прописаны, голубь... Ну ладно, парень, ты не расстраивайся. Приходи в другой раз, когда хозяева дома будут. Может, чего и получится.
– Конечно, придется еще раз приехать. – Он спрятал блокнот в карман. – До свидания!
– Будь здоров! – ответили два голоса.
Едучи в автобусе, Василий много всякого передумал. И все время мысли сходились на цыганах. Вот Глафире лет девятнадцать, а она ничего не умеет, не понимает, как можно жить, например, в заводской семье, в общежитии, как можно подчиняться какому-то порядку... А если попробовать поговорить с ней насчет работы на заводе? Ведь разговор к тому подходил. Ладно, не все сразу.
ГЛАВА ПЯТАЯ
В кабинете начальника цеха Николая Петровича Лукина сидели двое – он и секретарь партийной организации Семен Николаевич Терехов. Спокойно курили, говорили о всяких незначительных делах. До конца месяца еще три дня, а цех уже выполнил план, квартальное задание выполнено неделю назад.
Раздался телефонный звонок. Лукин снял трубку.
– Алло! Лукин слушает. Здравствуйте, Николай Сергеевич! Да все в порядке вроде бы. Что? Так это, кажется, не по моей части. Вот тут у меня как раз сидит парторг, могу передать ему трубку... – Закрыв микрофон ладошкой, сказал Терехову: – Секретарь парткома интересуется, как у нас дела с составлением списков избирателей.
Терехов принял из рук Лукина трубку.
– Да, виноваты, Николай Сергеевич, немного затянули это дело. Всего один куст остался, на Шубняке. Вроде бы и агитатора толкового туда направили, технолога Табакова, а вот не получается. Но мы, Николай Сергеевич, примем меры...
Положив трубку, Терехов сказал:
– Надо бы Табакова разыскать. Говорил вчера, что ему достался слишком колючий куст... Ты знаешь, что он под этими колючками подразумевает?
– Нет. – Лукин вышел из-за стола, прошелся по кабинету, взбадривая короткий «ежик» на голове. Выглянул в приемную, велел секретарю разыскать Табакова. Опять зашагал по кабинету. – Так что за куст у него такой?
– Вчера Табаков рассказал: попалась ему цыганская улица.
– Как это, «цыганская»?
– Очень просто. – Терехов тоже начал мерить шагами кабинет. Дым сигареты полз за ним жиденькой кисеей, свивался в спираль. – Два года тому назад там был пустырь, потом цыгане его заселили, целую улицу выстроили...
– Молодцы! – сказал Лукин. – Смотри, наконец-то за ум взялись.
– Как бы не так! Построиться-то построились, а работать никто не хочет. Ты же видишь, чем они в городе занимаются. Говорят, некоторые уже продают дома и разъезжаются... Ага, вот и Василий Иванович. Слушай, Василий Иванович, один ты остался в должниках. В чем причина?
– Понимаете, – помедлив, заговорил Табаков, – избирателей моих почти никогда нельзя застать дома. Это во-первых. Во-вторых, невозможно разобраться, кто из них кто, кому сколько лет. У большинства нет никаких документов, а если и есть, то делают вид, что не могут разыскать. Уже неделю езжу к ним, а результата – нет. – Достал блокнот из кармана. – Всего десять человек в списке. Не знаю, как быть...
Терехов заглянул в блокнот, щелкнул языком, как бы констатируя печальный факт.
– А списки составлять все-таки надо. Не будет списков вовремя – нам с тобой шею намылят, как пить дать.
Табаков шутливо почесал затылок, словно ему и впрямь уже начали мылить шею, невесело усмехнулся.
– Да, я уже чувствую. Не зря мне одна будущая избирательница гадала. Говорит, ты, парень, будь осторожней: тебя ждут неприятности по работе...
– Так и сказала? Кто такая? – спросил Лукин.
– Молодая цыганка. Глафирой зовут. Где-то фамилия есть в списке. Дай-ка, Николай Петрович, блокнот. Ага, вот она. Гнучая Глафира, девятнадцать лет, нигде не работает. Но и цыганским ремеслом заниматься не хочет, говорит, надоело. Словом, бунтующая личность.
– А ты, случайно, не пытался говорить с ней о работе на заводе? – спросил Терехов.
– С ней говорить о работе немыслимо. У нее такие умопомрачительные понятия о свободе, что разрыв с табором для нее страшнее смерти. Она скорее с голоду умрет, чем расстанется со своей «свободой».
– А если бы ее маленько просветить в этом плане? Не пробовал, Василий Иванович?
– Пробовал. Слушает, кажется, с интересом, но потом снова артачится, напускает на себя черт знает что. Дескать, вы только языком болтать здоровы о хорошей жизни, а у самих в кармане блоха на аркане.
Лукин во время этого разговора больше молчал, о чем-то думал, ухмылялся. Терехов нарушил его раздумья вопросом:
– А что, Николай Петрович, может быть, дадим Василию Ивановичу партийное поручение – заняться просвещением заблудших? Пусть поагитирует ту молодую цыганку к нам на завод, в наш цех. Ну, ты, конечно, скажешь, что у нас и без нее хлопот полон рот...
– Да нет, – ответил Лукин, – я сейчас как раз об этом подумал. Уж больно спокойная жизнь у нас в цехе идет. Выполняем план, обсуждаем всякие обязательства. Нет у нас, как бы вам сказать, рисковых, что ли, дел. Боимся излишних трудностей, разучиваемся волноваться по-настоящему, порой пустячные вопросы раздуваем в проблемы.
– Ты хочешь сказать, что нам нужен сквознячок?
– Именно! Давай, Василий Иванович, раз уж начал, продолжай свое шефство над той девчонкой. Как, ты говоришь, ее фамилия?
– Гнучая, Глафира.
– Здорово! Чуть ли не Земфира.
– Ого, эта Глафира пушкинской Земфире сто очков вперед даст... Не знаю только, что она будет у нас делать, если удастся уговорить. По-моему, она ни писать, ни читать не умеет, не говоря уж о работе.
– Вот это как раз и дает нам право бороться за жизнь, да, за настоящую жизнь девушки. – Терехов загорелся, заговорил по-газетному: – И первое, что мы должны сделать для нее, – это увидеть в ней человека, такого же, как все, чтобы она почувствовала себя человеком. В этом, по-моему, залог успеха, если это не слишком громко сказано.
– А работу мы ей подберем по силам и по уму, – добавил Лукин. – Например, поставим на первых порах на участок консервации. Смазывать детали – дело не хитрое. Так что, давай, Василий Иванович, дерзай. А здесь все тебе поможем. Ты когда собираешься ехать на участок?
– Сегодня, после работы.
– Может, тебе кого в помощь дать? – спросил парторг.
– Ни в коем случае! Мы с ней давние знакомые...
– Ну, ни пуха ни пера!
– К черту! – сказал Табаков, собираясь уходить.
– Да ты подожди! – спохватился Терехов. – Про списки-то не забывай. Секретаря парткома к черту не пошлешь, он с нас живых не слезет, ты знаешь.
– Понял и чувствую, что цыганка как в воду смотрела.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Под вечер Василий снова был на Шубняке. Сразу зашел в избу Гнучих. Дома был один старик. Он сидел за машинкой, шил тапочки.
– Добрый вечер, батя! Где Глаша?
– Милости просим, красавец Абросим! Глаша с бабами в городе, где же ей быть. А на што тебе?
– Да хотел поговорить кой о чем... Скажите, батя, пусть подождет меня, когда приедет. Я зайду часа через два.
– Ох, парень, совсем выпряглась наша Глафира. Вчерась ее мать за косы оттаскала, так она чо, стерьва, заявила: грит, совсем из дому уйду. Во какие нынче дети пошли! Раньше бы я ей на одну ногу наступил, а за другую взял и разорвал. А теперь нельзя, не имеем права...
– А мать-то за что ее?
– Дак все за то же – не хотела с ней в город ехать. Грит, стыдно мне... Какая совестливая... В семье не без урода, вот она и есть уродина несчастная. Не я ей отец, а то бы...
– Так вы, пожалуйста, скажите Глаше, что я зайду. Пусть никуда не уходит.
В дверях столкнулся с Ромкой, Глашиным племянником, который в прошлый раз врезался ему головой в живот. Лицом он похож на Глашу. Василий мимоходом тронул Ромку за плечо, тот мигом цапнул его обеими руками повыше локтя, поджал ноги и повис на руке агитатора, будто бы желая покачаться. Так же неожиданно отцепился, отпрыгнув в сторону, чуть присел, зыркнул глазенками:
– Дай закурить!
– На, закури.
Василий и не думал, что все это всерьез: не может же в самом деле этот десятилетний пацаненок закурить или хотя бы взять папироску при дедушке. Поэтому так уверенно достал пачку и, выщелкнув сигарету, протянул Ромке. Тот, не моргнув глазом, взял ее в рот, в своем кармане достал спички, прикурил, как опытный курильщик. Глубоко затянулся и выпустил дым через нос. Василий оторопело глянул на старика: никаких признаков волнения и негодования не вызвало у того поведение внука.
– Как звать-то?
– Дай десять копеек!
– Ты подожди, давай познакомимся сначала.
– Дай десять копеек!
– Я дам тебе обязательно, двадцать дам, но давай сначала поговорим.
– Дай десять копеек!
Василию вдруг показалось, будто внутри этого цыганенка крутится пластинка, иголка бегает по од-ной-единственной борозде и извлекает фразу: «Дай десять копеек, дай десять копеек...»
– Дай десять копеек!
Цыганенок уже подступил к Василию и нахально полез ему в карман. Подавив в себе вдруг неожиданно вспыхнувшую злость, Василий легко отвел руку мальчишки, достал двадцать копеек.
– Ну, на тебе двадцать копеек. А теперь давай поговорим.
– Дай ремень посмотрю. – Рука цыганенка уже потянулась к пряжке его брючного ремня.
– На, посмотри.
– Дай померить, сними.
– Так я же без ремня брюки потеряю.
– Я тебе свой дам. – Ромка задрал рубашонку и показал свой «ремень» – обыкновенную тряпичную тесемку, которая вовсе не держала штанишки, а сползла на грязное пузо.
– Так как же тебя звать?
– Дай только померить.
– Ну, брат, с тобой невозможно говорить. Ты что, кроме слова «дай», ничего не знаешь?
– Дай кольцо посмотреть. Я сразу скажу, червленое или нет.
– Ты в школу ходишь?
– Дай расческу...
– В кино ходишь?
– Хожу. Каждый день! – Тут Ромку словно прорвало. – А ты видел «Неуловимые мстители»? Вот там Яшка-цыган дает! Я семь раз ходил, завтра еще пойду. Дай еще десять копеек...
Опять завертелась та же пластинка. Василий понял, что от цыганенка не отвязаться, резко повернулся к двери и вышел.
Часа два бродил по «кусту», заходил в дома цыган, русских. В цыганских избах голо, если не считать горы перин на полу. По всему видно, что живут здесь не хозяева, а люди временные. В поведении хозяек меньше наглости и бесцеремонности, чем на улицах, пацанов взашей толкают за печку, чтобы у чужого человека под ногами не путались. Значит, и они не хотят дурной славы своему дому...
Когда возвращался к избе Гнучих – солнце уже садилось. На той стороне реки, в зоне аэродрома, зажглись огни посадочных площадок. Дикие утки с пойменного заповедного озера пошли шумными косяками на пригородные посевы. В оградах взбодрились цепные псы, весь день дремавшие в накаленных солнцем конурах. Повыползали на вечернюю прохладу старушки и домохозяйки, сходились посудачить о небогатых поселковых новостях. А из города начали приезжать «Волги» с шашечками на боках. Из них шумно выгружались с чувалами, узлами и чемоданами цыгане; большинство – мужчины, в модных нейлоновых рубахах, вельветовых куртках, – холеные, красивые. Женщины – в грязных цыганских одеяниях, с грудными младенцами на руках. Откуда они, с какого промысла? Женщины – ясно откуда: с вокзала, с шумных улиц. В последнее время они унюхали еще одно доходное место – стали толпиться возле областной больницы. Сюда с больными приезжают из сел, едут со своей кручиной, жаждут хоть малую надежду услышать от врачей. Но прежде они оказываются в цепких руках цыганок. Да и как не остановиться погадать, если врачи уже месяц или два не говорят ничего определенного, а тут как с неба – загадочный голос и слова, околдовывающие своей магической силой, заставляющие цепенеть сердце. «Ай-я-яй, сестренка, какое горе у тебя. По глазам вижу... Ну-ка, глянь в зеркальце. Видишь – присуха у твоего. Со злого глаза, поделано ему врагом вашим. Соседи это, а ты на них не подумаешь. Не поскупись – отсушу, на ноги подыму, а болезнь эту поверну на твоих врагов. Достань деньги, все, сколько есть, положи мне на руку... Да ты не бойся, я не возьму. Потом спасибо скажешь. Вот святой крест!..»
Глафира уже ждала Василия. Она уложила огромную черную косу в калач и водрузила ее на макушку. Лицо напудрено слишком сильно, губы немного подкрашены. На ней цветастая в сто складок юбка, длинная и не очень новая. Белая кофточка из простого полотна, с длинными рукавами. На ногах новые тапочки с опушкой. Непонятно почему, но Василию показалось, что все это цыганское одеяние Глаша надела не всерьез, временно; оно никак не шло к ее нежному, почти детскому лицу. Кажется, она вот только что сняла с себя школьную форму с белым кружевным воротничком и второпях повесила ее на «плечики» в шкафу... Все это представилось Табакову на какой-то миг, но тут же он вспомнил, что нет у Гнучих ни шкафов, ни «плечиков», что школьная форма Глаше, может, только снилась...
Попробовала сделать вид, что сидит возле хаты просто так, не ждет, но у нее не получилось: не успела полностью отворотить голову от входа во двор, где появился Василий, не успела спрятать на лице ожидание. И эта полурастерянность замерла в ней, сковала ее. На приветствие агитатора она уже не смогла ответить, как раньше: «Здоров был, красавец!», – а сказала: «Здравствуйте!» И удивилась своей неожиданной робости.
Василий сел рядом на завалинку, достал сигареты, предложил ей закурить. Она взяла сигарету машинально, но прикуривать не стала.
– Кури, чего уж. Ведь куришь, – начал Василий.
– Думаешь, если просим у всех закурить, так и курим? Это мы для смелости, для подходу. Когда возьмешь в зубы папироску да закуришь – дым стыд заслоняет, смелости придает... А ты зачем деду сказал, чтобы я тебя ждала?
– Дело есть, Глаша, – Василий то ли забыл, что говорит с девушкой, то ли так уж стремился к непринужденности – хлопнул ладошкой по Глафириной коленке: – Будем говорить напрямую. Хочешь на заводе работать? Место подберем, какое понравится, в общежитие устроим, чтобы ездить на завод ближе было.
– Я знала, что ты это предложишь. «В самодеятельность запишем, в комсомол примем...» Так? Хорошее начало, когда конца не видать. Предлагали и другие.
– Нет, это дело твое. Мы просто решили тебя вырвать...
– Откэда вырвать, говори! Ну! Молчишь? Нечего меня вырывать, я сама вырвусь. Ты мне только помоги. Думаешь, это так просто? Вон ни одна цыганка из поселка не работает. Пробовали, да сразу же заворовывались. Их и выгоняют.
– У нас, Глаша, воровать на заводе нечего, одно железо. А ты тоже можешь украсть?
– Могу, не в печке печеная...
– Так давай точно – пойдешь или не пойдешь? Если согласна – приходи завтра в отдел кадров. Знаешь, где наш завод?.. Ну и хорошо.
– Пойду, только с тобой.
– Обязательно со мной, Глаша! Я тебя утром буду ждать возле отдела кадров. Как с виадука спустишься, так налево – в аллейку. Там увидишь.
– Это что такое – авидук?
– Не авидук, а виадук! Это мост через линии... Паспорт возьми.
– Знаю.
Уже стемнело. Над поселком было тихо, как в деревне. Только от реки долетал утробный гудок парохода. Василий поднялся, отряхнул брюки:
– Ну, я пойду, а то на последний автобус не успею. – Подал ей руку.
– Успеешь, он в одиннадцать пятьдесят уходит. Пойдем, я тебя провожу, – предложила Глаша. Рука ее была маленькая, как у ребенка, прохладная, и в темноте можно было осязать ее смуглость. Он чувствовал робость и доверчивость узенькой Глашиной ладошки. Они шли к автобусной остановке, и Василию казалось, что он ведет за руку младшую сестренку, которая боится темноты и верит в его, Василия, силу. Ему и в самом деле захотелось, чтобы у него вдруг оказалась сестренка, вот такая, порой беспомощная и доверчивая, как теперь Глаша. Учил бы он ее уму-разуму, имел бы мужскую власть над ней, но другим в обиду не давал. Есть у него младший братишка-девятиклассник, да такой, что сам Василия берется учить, никакой власти не признает над собой. Сам чуть не наполовину младше, а станут о чем-нибудь спорить – о формуле какой, о кинофильме – братишка, почувствовав свою правоту, говорит с превосходством: «Ну и балда же ты, Васька! Ничего не понимаешь». А вот сестренки нет у него... Дошли до остановки – автобуса еще нет.
– Теперь я тебя домой провожу, а то темно. Все равно успею.
– Не надо, я не боюсь... А вон, кажется, и автобус идет! Будь здоров!.. – Ваське подумалось, что она добавит «чернобровый» или «красавец», но Глаша больше ничего не сказала. Махнула рукой и, неслышно ступая тапочками, растаяла в темноте.
Василий ехал домой в полупустом автобусе, глядел из окна на мелькание придорожных фонарей, чему-то улыбался. Он не замечал ни движения автобуса, ни огней за окном, ни разговора подвыпивших мужчин на переднем сиденье; сознание его было как бы размыто каким-то странным чувством легкости, наполнившей все его тело.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Проводив агитатора, Глаша вернулась, но в избу сразу не зашла. Села на призбу, поставила локти на колени, в ладошки взяла подбородок, задумалась. Было уже темно, хотя на западе еще остывала розовая полоска заката. На пойменном озере картавили дикие селезни, видимо, по-мужски осуждая уток, спрятавшихся в потайных гнездах. Через окно из дома доносились голоса матери, ребятишек. Постепенно звуки ночи потеряли для Глаши всякий смысл, а вскоре она перестала их воспринимать вовсе. Остался один голос – агитатора, непохожий на другие. Собственно, звучал и волновал не столько сам голос, сколько слова. И слова его, и рукопожатие были непохожими на все, что знала Глаша до сих пор. Сколько «клиентов» ей пришлось брать за руку, сколько слов слышала от них, но ничто не оставляло следа в ее памяти и в душе. Ах, как странно, как непривычно! Еще никто с ней так не говорил, как он, – не притворяясь, не лукавя, не осторожничая. Что же он за человек? Всего дважды встретились, поговорили, а кажется, что знает его давным-давно. Как-то легко быть рядом с ним: в его глазах, руках, голосе нет неуверенности, нет никакой корысти, он весь так же естествен, как этот ночной воздух, которого не замечаешь, пока не подумаешь о нем. И все-таки он – будто из другого мира, не из того, в котором выросла она. А тот, другой, мир ей непонятен и страшен...
Из дома до ветру выбежал Ромка, племяш. Отбежал шагов на пять от двери, остановился, побрызгал в лебеду, вздрогнул зябко и назад, в избу.
– Ромка! – тихо окликнула Глаша.
– Чо?
– Иди сюда. Баба Луша спит?
– Дрыхнет.
– Сядь-ка, посиди рядом. – Ромка присел на призбу, Глаша обняла его, прижала к себе, согревая. – Рома, скажи, кем ты будешь, когда вырастешь большой?
– А чо? – удивленно спросил племяш.
– Ну кем бы ты хотел быть? А?
– Шофером. На пожарке или на «скорой помощи».
– А почему на пожарке-то?
– А потому, что они везде жмут без остановки и милиции не подчиняются.
– Правильно, Рома, раз хочется – так и делай и никого не слушай. Будь шофером!.. – Глаша резко поднялась, словно теперь для нее было все решено, словно ей только и не хватало Ромкиного ответа. – А теперь пойдем спать, поздно уже...
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Утром, за час до назначенного срока, Василий ждал Глафиру у отдела кадров. К восьми она не пришла и он засомневался: вдруг совсем не придет или перепутает дорогу... На троллейбусной остановке она появится наверняка. И он направился на вокзал. Надеялся, что Глаша и сегодня будет такой, как вчера вечером – немного растерянной и робкой. А как она будет одета? Неужели в той длинной цветастой юбке и в тапочках с опушкой? Да, зря он не посоветовал ей надеть что-нибудь такое... Какое? А может быть, у нее нет ничего «такого»?
Одним словом, его предположения так перепутались, что он вообще перестал представлять, в каком виде явится Глафира, даже черты ее стали затушевываться. То она виделась ему тоненькой, маленькой девчонкой, то высокой и стройной цыганкой.
Подойдя к виадуку, постоял, покараулил. Тут его увидел начальник цеха Лукин, еще издали улыбнулся:
– Приветствую! Что, первый день и первые волнения? Думаешь, придет?
– Надеюсь, жду. А вообще-то сроки срываются с треском, – Табаков пытался настроиться на шутливый тон, а сам не сводил глаз с виадука.
– Уныло юноша глядел на опустелую равнину и грусти тайную причину истолковать себе не смел... Вчера вечером, представляешь, заучил. Пришел домой и – надо же! – потянулся к Пушкину. Думаю, дай-ка «Цыган» прочитаю. А то со школы так и не читал больше.
– И что ж? Глафира не верна! Моя Глафира охладела?!
– Ну, тебе сам бог велел наизусть знать!
– Да тоже вчера зубрил, а зачем – не знаю. – Оба захохотали. – Нет, Николай Петрович, схожу-ка я все-таки на вокзал.
Лукин ободряюще хлопнул его по плечу:
– Шуруй, Василий Иванович! Авось...
На привокзальной площади люди ручейками вытекали из троллейбусов и автобусов, смешивались с толпой... Народ спешил на работу. Табаков только успевал вертеть головой.
Вот она! Из задней двери троллейбуса выпрыгнула Глаша. Сиганула необычно далеко, метра на два, и юбка ее спарашютировала от прыжка. Оглянулась на дверь, сунула кому-то фигу и заругалась: «Чтоб ты подавилась, сука! Чтоб тебе руки покорчило!» Табаков отступил, Глаша широко шагнула мимо, полыхнула юбкой так, что валявшиеся на земле смятые билеты закружил маленький вихрь. Была она во вчерашнем одеянии, в тапочках с опушкой. Василий догнал ее, взял за локоть.
– Ты чего это ругаешься? Здравствуй!
– Здорово! Спасибо, что я ей морду не набила, шалашовке. Прицепилась: дай ей билет. На вот! – Глаша еще раз повернулась и послала фигу в сторону вокзала.
– Без билета ехала, наверно? Нельзя так...
– Не учи ученого! За что я взяла бы, если она мне не дала на билет?
– Кто она?
– Мать, кто... Говорит, пусть тебе твой агитатор деньги дает... Не пускает она меня на завод. Батя говорит: «иди», а она – ни в какую. Домой, говорит, не приходи, если поступишь. На улице, говорит, встретим и косы оборвем, глаза выколем.
– Мать тебя просто пугает. Поди, знает, что отвечать будет, если что... Не трусь! – Василий покровительственно похлопал Глашу по плечу.
Поднялись на высокий виадук. Внизу раскинулась территория завода с красными зданиями цехов, с высокими трубами мартеновского цеха.
– Вон, Глаша, наш завод.
– Который завод-то?
– Вот это все – завод, – Василий очертил в воздухе рукой дугу, которая уперлась концами в перила виадука. – А видишь желтое здание с большими окнами? Это наш цех. Ну, ты еще его увидишь.
Возле двери начальника отдела кадров толпились люди, в основном – девчонки, видно, окончившие десять классов. Завидев Глашу, они зашушукались, захихикали. Это не прошло мимо внимания Глаши. Она шагнула к девчушке, которая смеялась неосторожней других.
– Чего ржешь, как кобыла? Подбери губы-то, не видишь – начальство идет? – Глафира замахнулась, но Василий вовремя поймал ее за руку и затащил в кабинет. Начальник отдела Иван Васильевич Прокопенко, грузный, пожилой мужчина с румяным лицом, уже ждал их. Он встал даже, когда Василий с Глашей вошли. Глаша была еще раздражена, но все-таки, видно, готовилась к разговору, хотела быть сдержанной и вежливой. С ходу выпалила:
– Здорово, начальник, принимай на работу! – Прокопенко улыбнулся, закурил. А Василий смутился. Он не так хотел начать. «Зайдем, – думал он, – поздороваемся, сядем, а потом я скажу: «Вот, Иван Васильевич, Глафира Гнучая, о которой вам говорили. Надо бы ее устроить на завод, в наш цех...». Но Глаша опередила его и спутала все карты.
– А будешь работать? У нас легкой работы нет, порядок, дисциплина и так далее, – сказал Прокопенко.
– Это мы знаем. У вас коллектив – кому нести, чего, куда. Знаем, начальник, знаем. Дай закурить. – Глаша, не дожидаясь, шагнула к столу, взяла из пачки папиросу. Повернулась к Василию: – Дай спичку! Знаем, начальник, заработок у вас рубль в день, куда хошь, туда день. Так?
– Не совсем так. Устаревшей информацией пользуешься...
На столе зазвонил телефон. Прокопенко снял трубку, но не поднес ее ко рту, а держал на вытянутой руке. Его одолевал смех. Так он и положил трубку на место, не откликнувшись в нее. Глянули друг на друга и засмеялись. Прокопенко – беззвучно, со слезами, Табаков – смущенно. Глаша сидела нога на ногу, курила и тоже улыбалась: дескать, раз люди смеются чему-то, почему бы не поддержать их по мере возможности.
– Заявление есть? – спросил Прокопенко, отсмеявшись. – Нет? Надо написать. Вот бумага, пиши. – Протянул чистый листок, подал ручку. Глаша взяла бумагу и ручку, даже не подумав, подала Табакову.
– Пиши, у тебя лучше получится... У меня подчерк плохой...
Василий написал за нее заявление. Начальник отдела поручил заместителю вести прием, а свою дверь закрыл на ключ изнутри. Взял листок учета кадров.
– Так где, говоришь, родилась? – спросил он Глафиру, держа авторучку на изготовку.
– В чистом поле поневоле.
– А если серьезно, то где?
– Все равно там же.
– Хорошо, напишем в «Чистом Поле» с большой буквы, раз у тебя и в паспорте эта графа пустая. Вроде бы ты и вовсе не рождалась. Так, дальше что у нас? У Чистого Поля, конечно, нет ни области, ни района... Национальность?
– Сербиянка.
– Не цыганка?
– Что ты, начальник, сербиянка я, чистокровная. Всю жизнь это от матери слышу. Да ты в паспорт не заглядывай, там все – брехня.
– Так-так. Где училась? Ах да, ты не училась нигде!
– Училась, начальник.
– Где?
– На собак брехать да на свинье пахать.
– Этого мы записывать не будем, но к сведению примем. Да, Василий Иванович?
– Примем. А биографию ей сделаем новую, с сегодняшнего дня. Потом будет что записывать.
– Наш атлас не уйдет от нас. Будет? Еще и то будет, что нас не будет... Спрашивай, спрашивай, дальше, начальник.
Глашу увлек этот веселый разговор, она освоилась, пододвинулась ближе, навалилась грудью на стол, пальцами по стеклу побарабанивает.
– Дело к концу идет. Что тут у нас осталось? Ага! Невоеннообязанная, наград не имеет, не избиралась, ученой степени не имеет, за границей не была...
– Была, начальник.
– Где и когда?
– В Америке, а когда – не помню.
– Постарайся вспомнить.
– Вспомнила. Когда на свете не было.
– Это более-менее правдоподобно. Все!
– Нет, не все, начальник.
– Что же еще?
– Ты не записал, верующая я или нет, православная или басурманка. А может, я в какую-нибудь секцию хожу, может быть, я игоистка. А?..
– Ей-богу, веселый ты человек, Глаша! – улыбнулся начальник отдела кадров. – Ты только дверь открыла и поздоровалась, я понял, что ты безбожница. Потому и не спрашиваю. А вообще насчет веры у нас в анкетах вопросы не ставятся.
– Зна-а-ю! – врастяжку пропела Глаша и погрозила начальнику пальцем. – Да я согласна на все, без чего нельзя.
– Ну, вот и хорошо. Теперь все. Вот тебе направление на медосмотр, сейчас же можно и пойти в поликлинику. А потом зайди в фотографию, сфотографируйся на пропуск. Ты, Василий Иванович, с ней пойдешь? Ну, всего доброго! Надеюсь, еще будем не раз встречаться.
– С таким, как ты, можно встречаться, – говорит Глаша, лукаво скосив глаза.
– Это почему же? – вскинул в удивлении брови Прокопенко.
– Да простой ты мужик, веселый, не как другие... А теперь куда? – спросила она Табакова.
– В поликлинику, к врачам. Посмотрят тебя – здорова ли.
– А ты сам не видишь, что ли?
– Вижу, Глаша, но так положено, порядок здесь такой.
– Всегда, где порядков разных много, так толку нет. Чо меня смотреть? – удивленно плечами передернула. – Ладно, веди, куда знаешь.
В поликлинике в каждую дверь Глашу приходилось подталкивать – упиралась, робела. У кабинета терапевта, где принимал мужчина, заартачилась:
– Не пойду без тебя.
– Но мне же нельзя с тобой. Здесь только по одному надо входить. Иди, иди, я подожду. – Он подтолкнул Глашу к двери.
В кабинете врач оторопело уставился на цыганку, а она ему:
– Здорово, доктор! – Глаша протянула ему направление: – На, читай, поди, ученый. – Тот несколько раз переводил взгляд с Глаши на бумажку, как бы убеждаясь, что нет никакого подвоха, и все-таки как-то неуверенно проговорил:
– Ну проходи, садись вон туда... Открой рот.
– Еще чего? – искренне удивляется Глаша.
– Ты, милая, зачем сюда пришла? Дурака валять? Так это не то место... Открой рот, говорю!
– На, смотри, может, золото там увидишь! – Глаша намеренно широко открыла рот.
– Вот так бы сразу... Так, все хорошо, – откладывая ложечку, уже спокойней сказал врач. – Теперь проходи вон туда, на кушетку. Раздевайся.
– А я чо, разве одетая?
– Сними кофту.
– Может, ты скажешь – ляжь?
– Надо будет – скажу.
Глаша резко встала с кушетки, с негодованием оттолкнула уже подходившего врача:
– Я те как раздену, я те как лягу! Бесстыжий! – выбежала в коридор.
– Ты что? – переполошился Василий.
– Он чокнутый, что ли? Заставляет раздеваться, бессовестный. Чего захотел! Пускай свою раздевает...
– Глаша, это же больница.
– Может, у вас и в цехе голые ходят, тогда мотай от меня подальше, а я пойду поближе.
– Подожди, Глаша, сейчас мы что-нибудь придумаем. Не горячись. – Василий обошел три кабинета, вышел и позвал Глашу: – Иди сюда, здесь женщина принимает...
– Еще куда-нибудь? – выйдя от терапевта, уже утомленным голосом взмолилась Глаша.
– Потерпи немного, Глаша. Осталось зайти в фотографию, на пропуск фотокарточка нужна.
По пути в фотографию Табаков успокаивающе, словно ребенку, говорил:
– Ну вот, все в порядке. А ты боялась.
– Да не боялась я. Смотри, испугал!
– А чего же ты упрямилась?
– Но ведь все-таки стыдно, как ты думал...
– Странная ты, Глаша. Гадать и просить тебе было не стыдно у всего города на виду, а тут один на один провериться у врача – застыдилась...
Она уничтожающе глянула на Василия: мол, что толку говорить с тобой, слова зря тратить.
– Ха, сравнил часы и трусы... А, ладно... Сам удивляешься, а у вас порядочки какие? Может, и фотографироваться надо нагишом?







