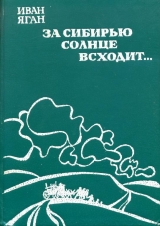
Текст книги "За Сибирью солнце всходит..."
Автор книги: Иван Яган
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
Однажды в конце мая в Иртышске из общего вагона поезда Барнаул – Москва выгрузился цыганский табор. Состав еще не успел остановиться, а из двери последнего вагона на перрон уже полетели узлы, мешки, повыпрыгивала черномазая грязная детвора. Кричали мужчины и женщины, визжали цыганята, табор был занят и увлечен выгрузкой так, что, казалось, для него не существует ничего на свете и никого, кроме этого дела. Цыган не смущали ни нарядная публика, с любопытством взиравшая на них, ни сигналы проходивших электрокаров, ни то, что пассажиры из других вагонов выходят солидно, с красивыми чемоданами. Табор гудел, орал, гоготал, словно стая перелетных гусей.
Но вот, разобрав по рукам узлы, свертки, еще громче расшумевшись, табор снялся и покинул перрон. Двинулся он не через вокзал, а через товарные ворота. Недалеко от вокзала, в скверике, отгороженном от привокзальной площади деревянным заборчиком, цыгане свалили в общую кучу свой скарб и остановились. Не прошло и двадцати минут, как в скверике вырос палаточный городок. Желтые, голубые туристские палатки польского производства были поставлены под кронами старых кленов и тополей. Когда на место прибыла милиция, располагавшаяся рядом, в деревянном домике, новоселы уже забивали в землю последний кол. Сделать что-либо сотрудники милиции не могли: барахло из общей кучи расползлось по палаткам, каждая палатка уже кишела детворой и являла собой жилье, неприкосновенную собственность. Спорить с цыганами было бесполезно, поэтому младший лейтенант и двое сержантов ни с чем удалились восвояси под свист и улюлюканье цыганят.
На следующий день в табор прибыло высокое милицейское начальство и председатель исполкома Железнодорожного района. Старшие из табора согласились вести с ними переговоры, но так как прибывшее начальство, кроме требования освободить занятую территорию, ничего не могло предложить, переговоры закончились ничем. По какому-то условному сигналу табор, сохранявший тишину во время переговоров, вновь огласился визгом цыганят, криком а женщин, воем транзисторных приемников. Парламентеры района с трудом уяснили, чего желает табор: он желает приземлиться в Иртышске, осесть навсегда, желает получить помощь от городских властей согласно закону «О приземлении цыган».
Доложили городским властям. Табору разрешили приземлиться, выделили место и материал для застройки, дали денежную ссуду. Вожак табора Гейко Шарко пообещал в горисполкоме: «Как только будет у нас крыша над головой вместо неба, так сразу все пойдем работать. Руки по работе чешутся, товарищ начальник». Даже потер ладони друг о дружку.
И тогда к табору подъехали грузовики; в кузова полетели узлы, попрыгали цыганята. Быстрей воинского подразделения погрузился табор и покинул скверик у привокзальной площади. Облегченно вздохнула милиция.
Но в другом конце города, куда прибыл табор, участковый милиционер и жители потеряли покой. Табор осел на левом берегу Иртыша, на пустыре, где живущие неподалеку казахи пасли своих коз и кобыл. К этому пустырю подступали окраины поселка, в котором жили рабочие шубно-овчинной фабрики. Поселок назывался Шубняком. Снова были поставлены палатки, но теперь уже в ряд, так, что получалась видимость улицы.
Затревожились старожилы Шубняка, поставили дополнительные запоры в квартирах и на сарайках, спать ложились в тревоге. Однако тревожились напрасно. Прошла неделя, другая, но ни у кого ни одна курица не пропала. Больше того, цыганки редко заходили к кому-либо погадать, разве только одолжить соли или еще чего по хозяйству. На промысел они ездили в город, уезжали рано утром, возвращались вечером.
Мужчины табора спали допоздна, только часов в одиннадцать-двенадцать они сходились на совет у одного из шатров. И тогда поднимался невообразимый галдеж; горячие споры с выпивкой нередко заканчивались драками. О чем они спорят, что делят, кто разрешает их споры – трудно было понять. Иногда группа мужчин отправлялась в город, а возвратившись, снова собиралась у одного из шатров, и опять до поздней ночи из табора долетали крики. Чувствовалось, что живут цыгане в ожидании чего-то важного для них или готовятся сняться и с этого места.
Но вскоре пустырь превратился в шумную строительную площадку. Пришли техники-планировщики, поделили пустырь на участки, выдали план строений.
На стройке работали сами цыгане-мужчины. Строили деревянные, засыпные, рубленые дома. Только одна семья цыган на полученную ссуду купила старую мазанку на ближней к пустырю улице. Ленив ли, не способен ли был к плотницкому делу глава семьи Матвей Гнучий, были ли у него другие намерения, чем у табора? Но только не пожелал он строиться, за что его осудили остальные, и пошел работать грузчиком на ту самую шубно-овчинную фабрику.
Дома росли быстро. К глубокой осени цыгане уже перебрались из шатров в теплые квартиры. Только один дом остался недостроенным – огромный, десять на двенадцать, кирпичной кладки. К зиме стены были выведены до стропил. Строили дом русские каменщики в неурочное время, а сам хозяин Гейко Шарко, пожилой цыган, дородный и седоголовый, только похаживал вокруг. Нетрудно было понять, что этому человеку с горделивой осанкой, белой, как пена, бородой не пристало жить в доме, как у других семей табора. Да и деньжатами, видать, он располагал: все хозяева-застройщики часть полученной ссуды отдали ему. Матвей Гнучий тоже отдал сто рублей. Зимовал Гейко Шарко у соседа, который уступил ему свой дом и заходил туда только с другими мужчинами на совет к вожаку. Поговаривали даже, что Шарко именуется бароном, что власть его распространяется и на другие таборы, кочующие по всей Сибири, Уралу и Казахстану. К Шарко часто приезжали незнакомые цыгане. Зачем, откуда – жители Шубняка не знали. Да и не пытались они заводить с цыганами знакомств: слава богу, что хоть в поселке ни к кому не пристают, не воруют. Одно только худо: на работу утром из-за них не уедешь вовремя. Автобус в город ходит редко: пока его дождешься – очередь соберется на остановке. И только автобус подойдет – цыгане как из-под земли явятся. Тут уж они ни с кем не церемонятся: отшвыривают всех, лезут в заднюю и в переднюю двери, визжат цыганята, матерятся цыганки, замахиваются съездить по физиономии, если слово поперек скажешь. А в автобусе пассажиров за рукав стаскивают с сиденья: мол, мы с детишками! Да оно так и есть – у каждой на руках по младенцу, за юбкой двое-трое тянутся, босые, грязные... В остальном же – ничего, если не считать нередких заварух на цыганской улице. Цыгане, например, жен бьют – спокойно, регулярно и традиционно – кнутами. Ни у кого из них лошадей нет, но кнуты у каждого – для жен. К этому в Шубняке привыкли быстро. Но жутко становится, если начнется заваруха среди мужчин. Тут в ход идут ножи, топоры и ружья. Соперники гоняются друг за другом по улицам поселка, вступиться не смеет никто, все запирают ворота, двери и выглядывают на улицу из-за чуть отодвинутых занавесок, при погашенном свете. Даже участковый милиционер в такие минуты не рискует попадаться на глаза озверевшим цыганам. Он звонит в отделение, просит подмоги. Пока приедет помощь – над поселком уже тихо, даже собаки не лают. И тогда попробуй найди виноватого среди цыган! Тот, кому сделали дыру в спине или животе, не скажет, кто и за что. А после к пострадавшему в больницу ходят всем табором, галдят под окнами так, что и мертвого на ноги поднимут.
...На следующее лето был достроен дом Шарко. Он так же отличался от других домов, как его хозяин от остальных цыган: высокий, оштукатуренный снаружи «под крошку», с большими окнами, высокой крышей из белого шифера. Зеленая ограда окружала дом со всех сторон, но не заслоняла его ясного лица – причелок отгорожен от улицы резным штакетником. Но только, как и в других цыганских домах, внутри его было пусто – ни стола, ни стула, одни перины на полу.
Перины для цыган – главное богатство, главная гордость и предмет постоянных забот. Однажды цыгане даже в Москву на самолете летали за перинами. Но привезли они не перины, а полную грузовую машину пуховых одеял, стеганых, с атласным верхом. Машина из аэропорта приехала к дому Шарко, здесь началась дележка. Жители Шубняка, стоя поодаль, с завистью смотрели, как легкие, словно воздух, одеяла небрежно вышвыривали из кузова прямо на землю, как пацанва тут же кидалась с грязными ногами на растущую гору, сверкающую на солнце алыми, синими, зелеными цветами...
Вскоре цыганки и цыганята стали появляться на улице в новых атласных рубахах и платьях – зеленых, красных, голубых, а пух пошел на перины. И тут-то было над чем задуматься. Как же так? Когда видишь цыганок на вокзалах, на городских улицах, когда смотришь на их грязных ребятишек – сердце сжимается от жалости. Да еще если услышишь: «Дай десять копеек для ребенка!» А тут такие вещи, считай, извели ни на что. Стоило в Москву летать на самолете...
Как бы там ни было, а новоселы внесли в жизнь старожилов какое-то оживление. До приезда цыган в поселке женщинам и посудачить не о чем порой было, даже собакам не на кого было побрехать, и они днями и ночами лежали в конурах, раздирая пасти зевотой. А теперь – ого! Каждый день новость, прилетевшая с цыганской улицы, каждый день новая сцена...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Семья Гнучих жила в особицу и от табора, и от жителей Шубняка. Их домик-мазанка, купленный у казахов, в цыганскую улицу не вошел и был крайним на старой поселковой улице, стоял как бы на распутье. Даже вид его являл собой заметную растерянность. Сиротливость и неприкаянность были в его облике. Одно окошко в причелке, одно со двора, двор не огорожен, зарос лебедой и бурьяном. На крыше – глинобитная труба-дымоход, а на нее, словно шапка, надето ведро без дна, задымленное, с прогоревшими боками. Все это осталось от прежних хозяев, а новые ничего не меняют, живут тоже как бы временно. Хозяин то на фабрике работает, то на мясокомбинат перебежит. Через месяц новую работу ищет. Старик, отец Матвея, больше дома сидит, скандалит с внуками, если их мать не забирает с собой на промысел. Старшая дочь Матвея, Глаша, изо дня в день мается бездельем. Когда матери нет дома – она спит или, надев отцов длиннополый пиджак, бродит по заросшему двору. Иногда сидит на призбе, молча наблюдает за проходящими людьми. Когда возвращается мать – Глаша готова к скандалу и даже к потасовке. Мать не дает ей житья из-за того, что Глаша часто отказывается вместе с ней ходить в город. А Глаше легче вытерпеть ругань или трепку дома, чем стоять на шумных углах и слушать насмешки и попреки чужих людей: «Работать бы шла, а не побиралась!»
Действительно, чем дальше, тем больше промысел цыганок в городе становится похожим на попрошайничество. Никто уже не хочет гадать, редко кто останавливается. Приходится прохожих хватать за рукав, выдумывать каждый раз новый способ: то закурить, то прикурить попросишь. Остановился человек – и тут, ни секунды не теряя, надо ошарашить его словом. А народ-то пошел грамотный да самоуверенный, никого уже не заговоришь ни «казенным домом», ни «дальней дорогой», ни «нечаянным интересом». Ухмыляются, отвечают: «Старо, слышали! Давай что-нибудь поновей». Надо выдумывать, приспосабливаться ко времени и интересам людей. Тому предскажешь повышение в должности, другому – удачу в учебе, третьего похвалишь за доброту и бескорыстие, глядишь – клюнул. А улов – десять копеек. Тогда попросишь: «Не жадничай, дай еще десять копеек для ребенка». Это даже сильней действует: у русских, как убедилась Глаша, дети – самое больное, самое уязвимое место, жалеют они их шибко, сострадают им. И, как правило, русские осуждают и ругают цыганок чаще всего за то, что они по холоду таскают за собой ребятишек, полураздетых, грязных.
У цыганок «клиенты» разделены на несколько видов: «начальники», (солидные, к которым подходить бесполезно); бабы-дуры (чаще деревенские женщины); девицы с ветром в голове (которые в разговоре между собой выражаются так: «Кончай выступать», «Отвали на полметра в сторону»); просто дуры и дураки (которые стесняются отказать в подачке, соглашаются гадать); «веселые» (подвыпившие мужики, которых можно даже «обчистить»)...
Глаша с какого-то времени «начальников» стала бояться, молодых людей, особенно своих ровесников, – стыдиться, «веселых» – ненавидеть... Был случай прошлым летом. Остановила она одного, попросила закурить. Со спины ей показался «начальником», а когда обернулся – рожа! Пористая, маслянистая, глаза кабаньи. Дал закурить и прикурить. Глаша с ходу, натиском: «Ты человек добрый, доверчивый, дай тебе бог здоровья... Позолоти ручку, скажу, как звать...» Он полез в боковой карман пиджака, вынул на глазах у Глаши пятерку из порядочной пачки, спрятал кошелек, пятерку в руке зажал, один кончик, показывает: «Твоя будет, если со мной пойдешь». – «Куда?» – «А я вот рядом живу, на набережной... Один... Ванночку примем... Это самое, – щелкнул средним пальцем по кадыку, – поспим часок... А?» Плюнула Глаша ему в мутные глаза, даже зажмуриться не успел...
Больше всего Глаша не любит милиционеров. По каким-то особым признакам она угадывает их, даже переодетых в гражданское. Боится их и не любит за то, что они ловят цыганок, торгующих медальонами, вязаными шапочками, подделанными под мохеровые. Глашин рассудок не способен понять, что спекулировать нельзя, что милиция выполняет свой долг...
Собственно, если подумать да прикинуть, то у Глаши во всем белом свете нет человека, которого бы она уважала. Разве что Ромка, десятилетний племяш, да младшие братишки. Ласковые они к ней. Да жизнь-то такая у ее родителей, что всякая минута занята думами о копейке, о «клиентах», о милиции. Никаких других интересов. И так все время, сколько осознает себя Глаша на этом свете. Потому-то непонятно и непостижимо для нее беззаботное веселье студентов, заводских девчонок. Но чувствовала, догадывалась, что мысли у тех девчонок совсем другие, не такие, как у нее, наверное, такие же светлые и веселые, как их смех и наряды. От таких думок Глаше становилось зябко, она начинала чувствовать себя маленькой, ничтожной, как букашка в траве. Тогда она до срока возвращалась домой, ложилась в постель, чтобы во сне забыться, развеять непонятную и, казалось бы, беспричинную досаду, заглушить черную тоску.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Готовились выборы в местные Советы. Табакова, технолога восьмого цеха, назначили агитатором. Он никогда не был агитатором, но в общем-то знал, что требуется от него: составить списки избирателей, а потом беспокоиться, чтобы избиратели его «куста» в день выборов «все как один» отдали свои голоса...
А «куст» Василию выпал и впрямь колючий – тот самый поселок, где приземлился цыганский табор два года назад. Он был полузабыт городскими властями, и вспоминали о нем только перед выборами.
Василий вышел из автобуса, огляделся. На берегу реки на солидном расстоянии друг от друга выстроились деревянные засыпные дома. Встречались рубленые и кирпичные дома с добротными зелеными оградами. А на улицах много цыган. Пока нашел нужную улицу, полпачки сигарет раздал цыганкам, ни одна из которых, на удивление, не предложила погадать. Только закурить просили.
В первом доме Табаков переписал всех голосующих, пошел к другому. Только пригнул голову, чтобы войти в сенки, как что-то круглое, словно арбуз, садануло его под «дых» и оттолкнуло назад. Это в его живот врезалась черная голова цыганенка, пулей вылетевшего из хаты. За ним с ремнем в руках выбежал седоволосый старик цыган, с белой бородой, красивый, как все цыгане в кино и на картинах. В глазах старика неописуемый гнев. Увидев Табакова, он не стал бежать за цыганенком, а только громко заматерился вслед. И тут же объяснил ситуацию:
– Последний табак, оглоед, утащил. И в кого такой? Ничего нельзя положить, так и тащит, так и тащит, чтоб у него руки отсохли.
– Я агитатор, – желая быть нейтральным, заговорил Василий.
– Агитатор? Проходи, садись, а то я давно с умным человеком не говорил. Так, значит, пришел агитировать за Советскую власть?
– Советская власть сама за себя агитирует, а я пришел агитировать за ее представителей... У вас есть члены семьи старше восемнадцати лет? Мне бы их переписать.
– Хоть отбавляй! И старше есть, и моложе... Да ты садись, в ногах правды нет.
В доме с деревянным полом было довольно уютно и чисто, хотя и пусто. Возле окна на лавке стояла швейная машина, старая, облезлая, с еле заметной надписью «Зингер». Рядом – лоскуты кошмы, куски выделанных овчин, ножницы; несколько пар тапочек с опушкой выстроились по правую сторону от машинки. Легко угадывался характер стариковского промысла. Шубенки, конечно, с фабрики принесены, тапочки – для толчка. В магазинах как раз нет тапочек.
На кровати, у глухой стены, кто-то спал под стеганым одеялом, укрывшись с головой, несмотря на жару. Старик сел на маленький стульчик возле лавки, Табакову показал на кровать:
– Садись. Правда, без соли и хлеба худа беседа. Извини. Угостил бы старика папироской. Сигареты! Еще лучше, мать за ногу!..
Табаков не решился сесть на кровать, а больше ничего для сидения не было. В одном углу лежала гора перин и подушек. Лавка вся занята. Протянул пачку «Шипки» старику. Тот взял несколько сигарет, одну закурил, а остальные положил на окошко.
– Вот ты, вижу, парень образованный. Скажи-ка, агитатор, когда нам, цыганам, слободу дадут?
– Какую свободу?
– Обнаковенную. Чтоб мы жили не как можется, а как хочется. Делай, что хошь, кому какая разница.
– Ну, батя, ты загнул! По-моему, свободы у вас хватает. Работу вам дают, живи, как все живут. Детей в школу берут? Берут. Голосовать со всеми будете? Будете. Это разве не свобода? Как у всех, по-моему.
– А мы не хотим свободы, как у всех... Чего, скажи ты, к примеру, милиция лезет в наши семейные дела? Ребенка моего засадили в тюрьму, уже второй год мантулит. А ни за что посадили. Правде, брат, нигде места нет.
– Не может быть, чтобы ни за что. Видно, что-то сделал.
– А чего он исделал! Пырнул ножом по пьянке братка сродного. Егор-то жив-здоров, а Гринька мой загорает за решеткой. А кому какое дело до нас? Мы, цыгане, сами подеремся, сами и разберемся. Вон Глашу уже два раза в милицию забирали, говорят, тунеядка она, работать заставляют. Одно слово, где беда ни была, а к нам пришла. – Старик глазами указал на кровать.
– Кто она?
– Внучка моя, дитя еще, куды ей работать... Глафира, встань, будет тебе дрыхнуть! Человек чужой пришел, может, поговорить об чем хочет. – К Василию повернулся: – Ленивая, как кобыла. Мать днями мотается по городу, а она не хочет, надоело, говорит. А кто же кормить тебя должен, а?.. Вставай, Глафира!
Под одеялом заворочалось и снова утихло. Тогда старик взял с лавки тапочек и с силой швырнул в Глафиру.
– Вставай, стерьва, говорю! Шило-мотовило по-немецки говорило. Вставай!.. Вот нахаба на вашу голову!
Из-под одеяла высунулась тонкая смуглая рука, извилась, словно змея, и стала шарить по кровати. Нашарила тапок и швырнула его туда, откуда прилетел. Но так как Глафира бросила не глядя, то тапочек полетел в Василия, сидевшего на корточках возле деда. Тот поймал его и подал старику. Старик вновь запустил тапочек в Глафиру, приговаривая:
– От одной матки, да не одни ребятки. Ну и стерьва!
Тогда только из-под одеяла высунулась Глафира и страшно заругалась:
– Чтоб тебе руки покорчило, кровопивец проклятый! Чтоб тебя господь покарал! – Она поглядела в угол, где висела икона, божья мать с младенцем на руках. Младенец грозил кому-то пальчиком, но в лицах их – никакой строгости. – Ты что тут чужому человеку про меня трепал?
– А ты думаешь, он лучше про тебя подумает, если ты и есть стерьва на самом деле. У-у, раскосматилась! Тьфу!
Василий был ошеломлен. Не руганью цыгана с внучкой, не угрозами, а совсем другим. Глафиру он уже однажды видел. Она его не узнала, но он вспомнил прошлое лето.
...Тогда он сидел на скамейке в дендрарии. Рядом лежала его авоська, набитая учебниками: готовился к госэкзаменам в вечернем техникуме. Читал, склонившись, не замечая прохожих. Его окликнул женский грубоватый голос. Еще не подняв головы, увидел на земле грязные ноги, обутые в тапочки с опушкой.
– Здоров был, красавец!
Перед ним стояла молодая цыганка, лет восемнадцати, худенькая и красивая, похожая на актрису из индийского фильма. Не хватало точки на лбу.
– Здорова была, красавица! Садись, поди, набродилась.
– Дай закурить, чернобровый! А ноги у меня не казенные, за них не надо платить, целый день катают... Давай, парень, погадаю, скажу, что было, что будет, что на сердце...
Василию стало любопытно: во сколько же лет цыганки научаются этому ремеслу? Ведь совсем девчонка! А его ладонь уже была в тонких пальцах цыганки.
– Ты человек грамотный, умный, добрый, – лопотала она. И вдруг как по газете прочитала: – Но ты не хочешь останавливаться на достигнутом, стремишься вперед. Правильно я говорю? Ты любишь выпить, но не за чужие, а за свои. Правильно? Любишь брать, любишь отдавать. По глазам вижу, были у тебя неприятности от одной женщины. Правильно? И все из-за твоей доверчивости. Правильно? А по работе будь поосторожней, не шибко доверяй, могут быть неприятности. Через три дня тебе будет бумага, хорошее известие получишь от близкого человека. Радость тебе будет. Живи так: нашел – не радуйся, потерял – не плачь. А с той женщиной ты так: хочешь – люби, не хочешь – лети. – Цыганка перевернула свою руку ладошкой к небу, сделала губы трубочкой и дунула на ладошку, словно пушинку сдула. – Вот так, парень, живи, тогда твой верх будет. Правильно я говорю? У тебя рубль есть?
– Допустим.
– Возьми его в руку. Да не бойся, не возьму. Достань. Потри себе лицо рублем. Так. А теперь переложи в левую руку. Переложил? Теперь пускай нагреется. Дай-ка теперь его сюда. – Цыганка протянула руку. – Ну!
Василий выполнял все ее требования просто так, ради любопытства, чтобы посмотреть, что дальше будет. Вот оно: «Позолоти ручку!»
Он подбросил рубль на ладони:
– Понимаешь, я еще не обедал и домой далеко...
Цыганка быстро цапнула рубль, зажала в кулаке:
– Пойдем разменяем у мороженщицы.
Она направилась к воротам дендрария, покачивая бедрами так, что ее длинная, в складку юбка стала похожа на пестрый веер. Василию неудобно было идти следом, и он растерянно продолжал смотреть вслед цыганке. Видел, как она подошла к лотку, подала деньги продавщице, оглянулась. Вернулась с двумя стаканчиками мороженого.
– На, парень, прохладись. Вот тебе пятьдесят копеек, а двадцать – мне. Бери, чтоб не маяться, после не каяться.
Ему стало немного стыдно за то, что минуту назад в нем шевельнулось сомнение: «Уйдет, унесет рубль».
– Слушай, – заговорил он, – и много ты вот так зарабатываешь? Не стыдно тебе?
– А чего стыдно? Я не ворую, сами дают.
– Дураки вроде меня?
– Все люди дураки. И ты не лучше других.
– Ты-то себя считаешь умной?
– Что ты, красавец! И я дура, потому что полчаса с тобой потеряла. Умные за пять минут управляются, да и не подходят к таким, как ты, грамотным. У вас самих в кармане вошь на аркане.
– Сколько лет-то тебе?
– Сто да двадцать, да маленьких пятнадцать, и все мои.
– Понятно. А звать тебя как?
– Звать – разорвать, фамилия – лопнуть. Будь здоров, чернобровый! – И ее юбка замелькала, направляясь к другим скамейкам.
...Да, это была она.
– Мы ведь с тобой однажды встречались. Ты не помнишь?
– Ты что, принцес-красавец какой, чтобы тебя помнить?
– В прошлое лето, помнишь, в парке мы с тобой мороженое ели?
Глафира внимательней пригляделась и засмеялась:
– Это когда я твой рубль разменяла. Да?
– Верно. Вот видишь, мы, оказывается, знакомые. Нам легче договориться...
– Об чем?
– Как «об чем»? Вон батя говорит, что ты нигде не работаешь, в милицию тебя вызывают. Наверное по-прежнему гадаешь на вокзале, канючишь мелочь на каждом углу. Скажи, что нет... Зачем тебе это нужно? А ты бы могла по-настоящему жить.
Глафира сладко потянулась, улыбнулась ломливо, накосматила голову, подошла к Василию и ладошкой смахнула его чуб на глаза.
– И ты, ровно милиционер, политику мне читаешь. Не примасливайся! Дай-ка лучше закурить. Хорошо тебе рассуждать, – продолжала Глафира, снова усевшись на койку, затягиваясь сигаретой.
Василий заметил, что Глафира курит с еле скрываемым отвращением, однако не так, как другие цыганки. Те курят по-мужицки, держа папиросу указательным и большим пальцами. А Глафира – нога на ногу, рука – локтем на коленку, небрежно вывернута ладошкой вверх. Сигарета легко держится промеж указательного и среднего пальца. Аристократка – и только.
– Ты грамотный, а я куда пойду? Вот эти идиоты, – кивнула на старика, – с места на место мотались, не думали об нас. Я только и умею гадать. Думаешь, если я цыганка, так ни о чем не мечтаю? Думаешь, мне не хочется нарядиться, как ваши, русские девки? У меня и в мир, и в пир – все в одном. Вот! – Она показала на свою юбку. – А за что купишь? Жрать-то не каждый день есть что. Мужчины пропивают все, да и мать пить начала. Все видят, как веселюсь, да не видят, как плачу... А насчет голосования ты, парень, не беспокойся, схожу, проголосую, отдам голос за твое счастье...
– А за свое?
– А мое счастье – если ты перестанешь меня агитировать, трепаться про настоящую жизнь. Понял? Молчал бы, коли бог разума не дал. Вы только языком чесать здоровы. Брешете другим о хорошей жизни, Мозги парите, а у самого, поди, на бутылку нет, без квартиры живешь. В животе солома, а шапка все одно с заломом. Скажи, не так? Агитатор! – Глаша подошла к причелочному окошку. Там, на подоконнике, стоял пятиугольный кусок зеркала. Она в него заглянула, волосы поправила. – Ну, что молчишь? Скажи, ты счастливый?
– Насчет счастья не будем говорить, а о деньгах и квартире скажу. Есть у меня и деньги и квартира благоустроенная.
– Тогда ты начальник какой-нибудь.
– Начальник я маленький, Глаша. А квартиру дали матери. Она у меня уборщицей работает. Так что счастье не в деньгах и не в квартире.
– В чем же?
– Не знаю, надо еще пожить, потом... А вот что такое несчастье – знаю. Это когда ты никого не любишь и тебя никто не любит, когда ты никому не веришь и тебе не верят. Когда ешь незаработанный хлеб. Вот ты, по-моему, несчастная.
– На хлеб я зарабатываю, не волнуйся.
– Это не работа, Глаша. Это одно унижение. Есть еще работа для души, для радости. Ты так работала?
– Работала.
– Где же?
– В огороде, весной. Землю копала, цветы садила. Поглядел бы! Скоро зацветут. Хочешь поглядеть – идем! – Глаша схватила Василия за руку и потащила во двор.
Там, за домом, огород – десять соток, но он зарос лебедой и лопухами. Только небольшой клочок вскопан, огорожен битыми кирпичами. На нем зелень каких-то цветов, среди которых Василий опознал побеги флоксов и петуньи. У Глаши глаза светились гордостью и радостью.
– Ну, как?
– Очень хорошо, Глаша. Но ведь можно было весь огород вскопать, овощи растить.
Глаша помрачнела и сказала уже совсем другим голосом:
– Ты чо говоришь – не помнишь. Только говорил, что счастье – работать для души, а сам про овощи. Это же для брюха. Вот это для души. – На грядку показала. – Так-то, парень, наша взяла, хоть и рыло в крови. Пойдем, агитатор...
Василий, собираясь уходить с огорода, вдруг остановился:
– Что это у вас, Глаша? Вон, за сарайкой. Шалаш какой-то.
– А ты чо, не понимаешь? Шатер, а не шалаш... Дедушка все это... Не может он у нас в доме спать, душно ему, говорит. Как вечер – туда, и Ромку с собой берет, племяша моего. Даже зимой там спит.
– Не может быть!
– Перекрестись еще. Ты как в погребе рос, будто сроду ничего не видел.
– Глаша, честное слово, шатра ни разу не видел. Можно, я гляну поближе.
– Да хоть залезь в него.
Высоко поднимая ноги, шагая через бурьян и лебеду, Василий направился к шатру. Когда подошел поближе, улыбнулся: обыкновенная четырехместная палатка, сильно выгоревшая и выстиранная дождями, перекроенная на особый лад и по-особому крепленная. Приоткрыл полог, всмотрелся в серый сумрак. На утрамбованном и перетертом сене лежат какие-то лохмотушки – стариковская постель. В одной стороне к стенке прислонена тележная дуга, рядом – старый хомут, ременные вожжи и уздечка. Все запылено, давно выветрился из упряжи запах конского пота и дегтя.
Вышел наружу, обошел вокруг шатра и тогда только заметил, что установлен он не на земле, а на телеге, с которой сняты колеса. Из-под шатра выглядывают поржавевшие оси. У самой стены сарая, накрытые старым ватником, стоят снятые колеса с железными ободьями. Окова тоже поржавела. Однако полный комплект упряжи и уцелевшие гайки для крепления колес хотя и поржавели – говорили о том, что не здесь, за сарайкой, в бурьяне, кончать им свой век. Казалось, в них на время умолкла музыка далеких и горьких кочевых дорог. Но степные и таежные ветры, солнце и проливные дожди еще освежат запыленный брезент кибитки, еще понесется она в неизведанные края. И, может быть, Глаша с другими цыганами тоже поплетется вслед за кибиткой...
Василию представлялись темная дождливая ночь, разбитая дорога и Глаша, шагающая вслед за телегой, маленькая, уже, как видно, возненавидевшая нищенский цыганский быт, но еще не знающая нормальной человеческой жизни...
Во дворе показался старик. Видимо, его из избы выгнало любопытство: о чем это говорит там внучка с незнакомым человеком? Стоит старик посреди двора, смотрит в небо, будто погодой интересуется, одну руку запустил снизу под рубаху и усердно царапает спину. Но лицо напряжено – прислушивается к разговору внучки с агитатором. Не вытерпел:
– Глафира! Чего товарища агитатора по бурьяну таскаешь? Не видал он, что ли...
– Отвяжись! – сердито отмахнулась Глаша.
– А я говорю, ступай в избу!
Вернулись в избу. Василий решил переписать всех голосующих.
– Давайте, батя, с вас и начнем. Ваша фамилия, имя, отчество?
– Гнучий, Егорий, Макарович.
– Год рождения? Ну, в каком году родились, сколько лет вам?
– В каком... Шут его знает! А годов мне шеисят семь или шеисят восемь. Так... счас вспомню... Так... Когда наш табор кочевал под Смоленском – тогда меня еще не было... Та-а-к... Когда мы воровали... тьфу ты.. Когда покупали коней у калмыков, и тогда я ишшо не родился. Когда Микулай зарезал моего отца – тогда мне было три года... Когда же это было? Нет, не скажу точно...
– Мне бы точно. Давайте паспорт, там ведь записано.
– А у меня его нету, пачпорта. И не было никогда. Да тебе-то он на што? Записывай на слово, какая твоя разница...
– Гм... Как же быть? – Василий озадаченно посмотрел в стариковские ясные глаза, полные детской наивности. – Понимаете, мне нужно все точно, такой порядок. А о других членах семьи вы все знаете? У вас есть документы?







