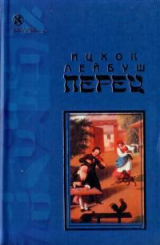
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Учит старушка, а девушка строчит, вышивает…
Когда расцвела утренняя заря, проснулся отец. Видит, у стола сидит его дочь с мешочком молитвенным в руках. Бархат, шелк, золото…
3
Когда сыну арендатора исполнилось семнадцать лет, его усадили в тележку и отправили в свет искать себе невесту по туфелькам Сарры Бас-Товим.
Едет он по дремучим лесам, по селам, городам. Девушек-невест тьма-тьмущая, но ни к одной не подходят туфельки благодатные…
Уже целый год он в пути, второй год прошел, а толку нет и нет. Потерял он веру в благодатный посул, решил вернуться домой; он скажет отцу с матерью: «Лишь сон такой им привиделся, таких маленьких ножек и на свете не сыскать»…
Едет он домой, и как-то сбился с пути, заблудился в лесу. Дубы вековые, дубы богатырские рядами стоят; ни взад, ни вперед. Юноша остановился. Дело было в пятницу. Солнце заходит, огненное ядро опускается все глубже и глубже. Наступает субботний вечер. Стал юноша читать «Песню Песней». Ходит по лесу, читая наизусть «Песню Песней».
Держится близ тропинки лесной, чтоб тележки не потерять из виду и пасущуюся лошадь… И лес тихо шумит при вечернем ветерке, точно и он подпевает «Песню Песней»… Все темнее и темнее делается. Но вдруг брызнул огонек между деревьями из окошка. Обрадовался юноша и, подбежав, постучался:
– Не еврей ли живет?
– Еврей!
Еврей выходить из избушки, показывается на пороге.
– Мир вам, еврей!
– И вам мир, еврей! – отвечает молодой человек, – Не сумею ли у вас провести субботу?
– Провести-то субботу легко, – с грустной улыбкой ответил еврей, – но есть нечего…
– Пища найдется у меня, – отвечает молодой человек, – и питье найдется. Пойдемте со мною к тележке, мы всякого добра там достанем…
Через час после встречи невесты-субботы сидят они оба за столом… Кушают, песнопения поют… Видит молодой человек, что старик, беря от всякого блюда, сам лишь чуть отведывает, а остальное выносит за дверь.
Подумал юноша, что старик относит пищу теленку или на птичник… Значит, не так уже беден этот еврей; почему же он не заготовил пищи на святую субботу?..
Гость – человек молодой, и – не стесняясь спросил.
И старик ему ответил:
– Нет. Я – бедный угольщик… Ни теленка, ни птицы нет у меня… Но есть у меня миленькая дочурка. Босоножка она. Стыдится, бедная, войти, показаться гостю. Предпочитает кушать за дверью…
С бьющимся сердцем вынул молодой человек золотые туфельки из-за пазухи, передал их старику:
– Возьмите, пусть ваша дочь их примерит. Авось подойдут к ножке ее…
Вернулся старик: заветные туфельки пришлись по ноге…
4
Богатый арендатор справлял свадьбу… Он породнился с угольщиком. Венчание происходило в городе. И когда возвращались после венца, внезапно показалась женщина, в высоком наглавнике и турецкой шали, со старушечьим лицом, но с юными, добрыми глазами, и с калачом проплясала перед новобрачными.
Не все однако знали, кто она такая.

Любитель
 екогда поколения не были так оторваны друг от друга, так сиротливы, как ныне. Всякое поколение было звеном в цепи, начавшейся от Адама и Евы и долженствующей окончиться в день страшного суда… И когда по какой-либо причине какое-либо звено содрогалось, вся цепь начинала дрожать, все звенья откликались: праотцы, праматерь Рахиль и другие…
екогда поколения не были так оторваны друг от друга, так сиротливы, как ныне. Всякое поколение было звеном в цепи, начавшейся от Адама и Евы и долженствующей окончиться в день страшного суда… И когда по какой-либо причине какое-либо звено содрогалось, вся цепь начинала дрожать, все звенья откликались: праотцы, праматерь Рахиль и другие…
Кроме вечно доступного Неба, которое, если его только не заслоняли медным пятаком, всякий мог видеть невооруженным глазом; кроме пророка Илии, бывшего чуть ли не своим человеком в доме каждого еврея: гостем в праздник Кущей и при пасхальной вечере, восприемником при обрезаниях, посетителем каждой ярмарки, помощником всякий раз, когда меч висел над головой; кроме ангелов добрых – всякий имел отца и мать, которые при жизни составляли предмет почитания, а после смерти доставляли памятник, чтоб опереться и охладить свой разгоряченный лоб, могилу, над которой можно излить скорбь наболевшей души, да и покойника, слышащего, видящего, охотно приходящего на помощь…
Не всегда детямприходится далее просить о помощи; еженощно покойники сами приходят в город живых, направляясь в синагогу молиться, изучать Божье слово, справлять полунощную… Проходя мимо закрытых ставень прежнего своего дома, услышав стон, вырвавшийся из спертой груди, вздох разбитого сердца, покойник их понимает, – живые и мертвые говорят на одном языке, молятся одними словами одному Богу… Покойник завязывает на память узелок и, возвратившись в тихую обитель свою, вспомнив о вздохах живых сородичей, старается, хлопочет за них, добивается успеха, если только возможно… А что не было возможно в те счастливые времена!.. Все!.. Можно было даже научиться песням хвалебным у покойников!
Однако зачем сдирать шкуру с еще неубитого медведя! Ведь последнее относится уже к самому происшествию – к рассказу о музыканте Авраме, да будет он молитвенником за меня и за всех, рассказывающих правдивые сказки…
Аврам был любителем. Он достиг такой степени в служении искусству, к которой, быть может, многие стремятся, но которую редко кто достигает, – он не превратил скрипки своей в орудие производства, жил не игрою…
Когда глаза у человека не завидующие и руки не загребущие, когда «кое-что» может служить пищей, холодная вода – напитком, а платьем – кумач да китайка, – довольствуются заработком жены-лавочницы, а играют лишь для милостыни и для Бога, превращаются в любителя.
Таким был ребе Аврам…
На исходе субботы ребе Аврам играл, бывало, на скрипке славословия… Бела-Баше, его жена и кормилица, слушает и наслаждается, набираясь радости на всю неделю… Народ, стоя на улице, также прислушивается, и души пропитываются Божьими славословиями. Иногда в толпе подхватят песню – вся улица вдруг возвышается в святости, весь город славу Господню поет…
По будним дням Бела-Баше сидит в своей лавочке, городок занят поисками хлеба, – а в убогом домишке, у маленького оконца, за маленьким столиком сидит в одиночества ребе Аврам, сердце к Богу устремив, глаза обратив к псалтири царя Давида. Аллилуйю поют ею уста, дрожа от радости, а протянутая рука перебирает струны на скрипке, лежащей на столе перед ним… Маленькие, беленькие бабочки – звуки срываются вместе со словами и взлетают высоко-высоко. И ребе Аврам гладит рукою белоснежную бороду. Это его единственное удовольствие…
Тихо открывается дверь избушки. Наклонив головы, чтобы не стукнуться лбом, в комнату входит юная парочка, жених с невестой, и, покрасневши, стыдливо останавливаются пред стариком. Ребе Аврам улыбается; он знает, в чем дело: уже несколько лет как они обручены, еле сбили на свадебную пирушку, к венцу бы идти, – да нечем уплатить музыкантам… Ребе Аврам играет на свадьбе у них; год не минет – пожалуйте в восприемники; потом первое острижение ребенка. Одно благое дело влечет за собою другие. Но не в том еще суть.
Главное у ребе Аврама – день Пурима.
Он ходит тогда к беднякам славить на скрипке.
Есть домишки, куда приличные евреи, опоясанные красными платочками, славящие в пользу бедных, и не заглянут, куда музыканты глаз не покажут; где калачи – без шафрана, трапеза – без радости, иногда – и без белого хлеба…
Открывается дверь, и появляются милостивцы да благодетельницы, приносят что поесть да попить. Благодарят их бедняки за оказанную помощь, благословляют их и всех добрых людей, не забывающих нищей братии… Садятся потом есть и пить – а все же по впавшим желтым щекам струятся слезы, соленые, горькие… Не вкусен хлеб подаренный, не сладки вина принесенные… Где то времечко, когда они сами подавали, когда к ним простирались руки за помощью!.. И слеза начинает колоть глаз, горечь скопляется в груди, еврейка прячет лицо в передник, еврей бросает через окошко укоризненный взор небу, у иного, помоложе, рука сжимается в кулак. Но вдруг входит в бедный домик ребе Аврам со скрипкой. И свечки грошовые веселей разгораются, глаза проясняются, на лицах появляется улыбка, стыдливая, сиротливая, еще смоченная слезою. Вот ребе Аврам заиграл: «Роза Иакова» – и звуки, точно масло целебное, вливаются в душу – бедность не порок; люди – братья; брат у брата, не стесняясь, берет; счастье-колесо, а оно вращается…
И Аврам выходит, провожаемый сверкающими глазами. Детишки, с искривленными радугой ножками, с искрящимися глазенками, бегут за ним вслед по улицам, из дома в дом…
Лишь поздно, весьма поздно – бедняки, не сглазить бы, множатся – сытый благопожеланиями, с переполненным доброй, тихой радостью сердцем, отправляется ребе Аврам домой, не забывая посетить по пути раввина, без которого настоящий рассказ, как известно, обойтись не может.
Между тем Бела-Баше сидит дома, терпеливо ожидая супруга. Сердце говорит ей, что Аврам не лжет, утверждая, что в награду за добрые дела его и она свою долю получит, значительную долю. Но чуточку потосковать не грех…
И сидя за маленьким столиком у маленького оконца, тоскующая старушка все же улыбается…
Глядит старыми, удивительными, улыбкой плачущими очами в темную улицу. Из-под платочка вылезают ушки, прислушиваясь: не идет ли он со своей скрипицей, не с его ли скрипки сорвался приплывший звук?.. И губки ее чуть-чуть шевелятся тихой мольбою: «Да удостоится он встретить Мессию-Избавителя, сыграть ему встречу на скрипке своей…»
В те годы люди еще верили в Мессию; каждый день Его, запоздавшего, ожидали.
– Но почему он так замешкался? – спрашивают старые губы, – (на сей раз не про Мессию) – Пельмени простыли давно, свечи догорают, тускнеют, а Аврама все еще нет.
Бела-Баше выбегает на базар. Молчаливая ночь. Через припертые ставни не вырывается ни звука, не пробивается ни луча. Спит городок.
Небо бдит над ним, стережет тысячами, тысячами глаз, такими чистыми, такими ясными.
Но где же Аврам?
– Почему запоздали стопы Аврама?
То же спрашивает и старый раввин с испуганной козлиной бородкой. Его дрожащий голос будит задремавшую было супругу. Маленькая голова ее, качавшаяся в воздухе, остановилась.
– Где Аврам?..
Бутылка вина уже до донышка дошла, осипшие старые часы уж полночь пробили, а Аврама все еще нет…
Раввин хватает шубейку, его жена – турецкий платок, еле разбуженные служки – большие фонари, все выбегают на улицу. Встречают Белу-Башу и, не обменявшись ни словом, вместе бегут; стучатся в окна и двери: «Нет ли у вас ребе Аврама»? Стар и млад выскакивают из домов, все ищут Аврама…
С Аврамом, действительно, несчастье случилось. И не будь он «посланцем добра, ему же ничто вредить не может», Бог весть, пришлось ли бы мне свою речь держать. Печален был бы рассказ, а я печальных рассказов весьма не люблю…
Аврам идет домой к своей Беле-Баше. Ноги чуть-чуть подплясывают, старая, седая голова качается: праздник, Пурим, не может же он отказаться выпить с бедняком, подымающим чарку… Он стосковался уже по Беле-Баше, жалеет, что нельзя нарушить обычай, что приходится завернуть к раввину. Желая сократить свой путь, он пошел через паперть синагоги. Идет безбоязненно, ведь он «посланец добра». Проходя, он услышал голоса в синагоге: смех, пение раздается, шарканье пляшущих ног… Испуг и изумление охватили Аврама. «Не иначе, – думает он, – как озорники забрались в синагогу». Святотатство возмутило его душу, гнев разгорелся в нем, бросился Аврам к двери. Старая задвижка чуть-чуть поддается, Аврам изо всех сил прется в образовавшуюся щель, и оцепенел от ужаса: перед ним мертвецы!..
А в синагоге шепот раздается:
– Ребе Аврам, ребе Аврам!
И все глаза обращаются – одни к Авраму, другие к высокому-высокому еврею, с длинной, белоснежной бородой. Глаза, устремленные на Аврама, смотрят милостиво, любовно, а те, что на высокого еврея, – будто ждут его слова, точно висят на синих губах его… Не долго им пришлось ждать. Тихими шагами направился тот к Авраму. Затихло в синагоге; слышно, как шевелится занавес скинии, колеблемый ветерком, подувающим через разбитое стекло… И в тишине раздался голос высокого еврея. Расчесывая длинной правой рукою белоснежную бороду, еврей говорит:
– Не бойся, Аврам, мы зла тебе не сделаем; мы собрались сюда, как ежегодно этой порою, повеселиться, песню пропеть, поплясать. Нынче ведь праздник, Пурим!..
Стоить Аврам, просунувшись в щель, смотрит расширенными зрачками и думает: «Завтра никто мне не поверит, что я здесь был, все это видел и слышал».
Уста его дрожат, не издавая звука Но высокий покойник, прочитав на лице его думу, мигнул худому, а потому еще более высокому еврею; тот, молча, тихо подошел.
– Мы дадим тебе знак, – говорить Авраму покойник-раввин, – дабы живые тебе завтра поверили. Вот этот еврей – первый общинный кантор городка Я попрошу его, чтобы он научил тебя петь по-новому «Розу Иакова»…
Худой еврей качает головой в знак согласия.
– Но, – прибавил первый раввин городка, – не голосом станет он учить тебя; он простудился, исполняя в последний раз заключительную молитву в синагоге, и потерял голос. Даже исповедаться ему пришлось безгласно, Он будет учить тебя перстом.
Первый кантор исполняет желание раввина. Завитал его перст в воздухе. То он ухарски пляшет, то вдруг задрожит, то цепенеет в экстазе; то он врывается в вышние миры с жалобами Иова, с гневом и тоскою, то дрожит в ожидании ответа с небес о жизни и смерти…
Никогда ребе Аврам не слыхал такой песни. Всей душой он тянется к поющему пальцу; обоими ушами вбирает в себя мотив; желает на скрипке завторить ему; хоть тон бы поймать. Но не может ребе Аврам, дверью припертый, шевельнуть рукою… А перст кантора продолжает витать, песня все льется и льется…
Утром, явившись открыть синагогу, служка высвободил Аврама… Тот, едва отскочив от дверей, не ответив ни словом перепуганному служке, дрожащими руками прижал свою скрипку к еще более побелевшей за ночь бороде и заиграл! Услыхала Бела-Баше, услыхали раввин с супругой и все, что по городу искали его, сбежались; народ, направлявшийся к ранней молитве, также заспешил… А ребе Аврам все играет, играет…

Самопожертвование
 ного веков тому назад славился в городе Цфасе, в Святой Земле, еврей, торговец, драгоценными камнями и украшениями, весьма богатый и счастливый.
ного веков тому назад славился в городе Цфасе, в Святой Земле, еврей, торговец, драгоценными камнями и украшениями, весьма богатый и счастливый.
Был у этого еврея свой дворец, окнами – глазами смотревший на Генисаретское озеро-море. Дворец был окружен большим садом со всевозможными прелестными деревьями, со всякого рода плодами и певчими птицами, с душистыми цветами и растениями, полезными своей красотой или целебными свойствами.
В саду были широкие дорожки, усыпанные золотистым песком. Деревья, встречаясь своими кронами, сплетались, затеняя дорожки.
По всему саду были разбросаны беседки для отдыха и пруды, по которым носились прекрасные белые лебеди; пруды сверкали точно зеркальные.
Истинно рай земной.
Были также у богача свои ослы да верблюды для путешествий по пустыне, собственный корабль с капитаном и командой для мореплавания…
Еврей этот не скупился на приданое, лишь бы породниться с именитыми раввинами, главами духовных семинарий, великими учеными Святой Земли и Вавилонии. Отдавая своих детей на сторону, он каждого сына выделял, выдавал ему наличными его долю наследства, опричь приданого и подарков, которые полагаются при свадьбе. И осталась при нем к старости лет одна лишь единственная дочь, самая младшая и наиболее любимая, Сарра. И отец берег ее, как зеницу ока
Сарра была девушка чудесной красоты, удивительной доброты и благочестия – не описать даже.
И для этой дочери своей, когда пришло время, раздобыл отец жениха из учеников вавилонской семинарии, гениального молодого человека, по имени Хия.
Рекомендуя своего ученика Цфасскому раввину, главный раввин Вавилонии назвал его «венцом главы своей и венцом семинарии», указывая к тому же на него, как на потомка одного из благороднейших родов Иудеи.
Слухи шли в народ, что этот молодой человек, Хия, царского происхождения, потомок Царей иудейских.
Говорили, что во время одного массового избиения евреев в Вавилонии, – когда убили – его отца и мать, братьев и сестер, а Хия спасся лишь чудом – его родословная пропала…. Сам ребе Хия по своей великой скромности никогда о своем происхождении не говорил, а потому достоверно ничего не знали.
Одно лишь нужно сказать, что, встречая его по улице, люди налюбоваться не могли его красотою, и не один человек произносил при виде его хвалу Творцу чудес и красоты, ибо лицо, лучше всякого свидетеля, изобличало его царственное происхождение – точно Дух Святой сиял над ним…
Ребе Хия поселился у тестя и нанялся священной наукой.
Но недолго пришлось ему отдаваться любимым занятиям. Тесть, вдовец, через несколько лет приказал долго жить, и молодому человеку пришлось взять на себя управление делами, разъезжать с товаром по далеким странам. И стал ребе Хия купцом, одним из крупнейших купцов того времени.
С наукой он однако не порвал.
Во время езды по пустыне, кто-либо из каравана водил под уздцы его верблюда, а сам ребе Хия не выпускал из рук священной книги, не сводил с нее глаз.
На корабле, у него была своя особая каюта, где он занимался науками, явными и тайными.
Находил он также время, чтобы учиться прочим наукам у старых шейхов, с которыми встречался в пути; узнал он таким образом науку медицинскую, стал понимать звериный рев и птичью молвь, стал даже сведущ в астрологии… Милостыня его не знала пределов. Приехав куда-либо, ребе Хия первым делом оделял щедрой рукой нищую братию, раздавал им десятую часть всей прибыли за время пути; во много денег обходился ему также выкуп пленных.
Кроме того, ребе Хия всячески помогал при общих нуждах еврейских, так как торговля драгоценностями приблизила его к царям и их вельможам. Своей красотой и честностью, а еще больше, пожалуй, умом, ребе Хия снискал милость в глазах всех сановных людей, веривших всякому его слову, и те уступали, бывало, его просьбам.
Поэтому ребе Хия выступал ходатаем при всякой беде и угрозе, красноречием своим уничтожая готовившиеся козни, освобождая из темниц, избавляя от палок и цепей. Не раз он спасал людей от рук палача; немало юных душ он вырвал из мечетей, где их насильно хотели обасурманить…
Когда Хия бывал в пути, его жена, Сарра, исполняла его обязанности в делах милостыни в своем родном Цфасе. Как и следует истинно благочестивой женщине, в которой может быть уверено сердце мужа. И ребе Хия вполне был покоен; что всякий голодный, постучавшийся в его дом, уйдет сытым, что всякий жаждущий – утолит свою жажду, что их единственная дочь, Мирьям, будет воспитана в духе веры, благочестия и добродетели.
И действительно. Их дом был полон всегда гостей и нищих. Ученые мужи, раввины и проповедники, которым приходилось по пути останавливаться в Цфасе, заезжали прямо к жене ребе Хии. И та любезно их принимала, оказывала им всякие почести, прося лишь гостей перед отъездом благословить дочь, возложив руки на головку ее.
И благословения праведников стали сбываться: Мирьям росла чудесным ребенком, истинным благословением небес. Весь Цфас любовался ею. Говорили: «Дочка ребе Хии сияет, как солнышко»; «Она ясна, как летний день»; «Она красива и милосердна, как царица Эсфирь». Девочка вся пошла в мать – росла красавицей.
Но пути Господни неисповедимы. Недаром, видно, Соломон Мудрый сказал: «Мужа, его же любит Господь, наказует». Иногда же Господь посылает беду во испытание праведника, чтобы убедиться, как глубока, велика и сильна его вера. По любви ли Божией, или во испытание, но праведная Сарра тяжело заболела. Ребе Хия в пути получил эту печальную весть. Предчувствуя недоброе, он оставил все дела и поспешил домой. Несется по долам и горам, пустыням и морям, встречая всякие помехи в пути. То верблюды и ослы в пустыне падают от жажды, то бури едва не разбили его корабль на море. Но заслуги ребе Хии перед небом велики были, и он, одолев все препятствия, добрался благополучно до дому… Застал он жену уже при смерти.
Однако, увидев супруга, праведница, пересилив свою боль, приподнялась на постели, произнесла хвалу и славу Творцу мира, услышавшему горячие молитвы ее и давшему ей перед смертью попрощаться со своим благоверным супругом. После чего стала утешать ребе Хию, уверяя, что спокойно принимает суд небесный и муки смерти…
Потом праведница стала его просить заботиться после ее смерти об их единственной дочери, которую вынесли в обмороке из комнаты… И ребе Хия обещал ей заменять дочери и отца, и мать, что он не даст чужим рукам вредить их юному деревцу, не допустит ломать и гнуть его… Она же в свою очередь обещает не забывать о них в Царствии Небесном; молить Господа о суженом для дочери, женихе, достойном ее… Бели же случится сомнение или помеха какая, она постарается с разрешения небес явиться ребе Хии во сне, чтобы указать ему истинный путь… После чего, попрощавшись с ребе Хией, Сарра еще раз произнесла: «Слушай, Израиль», приоткрыв глаза, с любовью взглянула в последний раз на супруга, попросила передать привет и благословение своей дочери, еще раз напомнила ему, что Господний суд следует принять с верой и любовью и кротостью, опустилась на подушки, вытянулась, обернулась к стене – и чистая душа ее поднялась к небесам.
* * *
Едва минуло тридцать дней со дня смерти супруги, ребе Хия прекратил свою торговлю, распродал весь свой товар чуть ли не за бесценок, решив отныне посвятить себя науке и служению Всевышнему… Собрал он в свои палаты из Цфаса и окрестностей юношей, известных своим усердием к науке, и стал ежедневно читать им Премудрость Божию. И они жадно внимали его речам. Бедных юношей ребе Хия содержал за свой счет. Отводил каждым двум, трем юношам отдельную комнату, снабжал их платьем и обувью, точно родных, выдавал им даже карманные, чтобы юноши могли себе позволить кое-какие удовольствия и не стыдились своих зажиточных товарищей…
Когда какому-либо ученику исполнялось восемнадцать лет, ребе Хия посылал за сватами и, выбрав для него невесту приличную и подходящую, оделив его приданым и подарками, снабдив обувью и платьем, сам вел юношу под венец и увеселял гостей после венца. Для дочери же своей, Мирьям, он отыскивал жениха себе подстать, которому бы Господь и люди возрадовались… Он писал об этом раз своему бывшему учителю, главе вавилонской семинарии, с которым он вел постоянную переписку, как о научных вопросах, так и о семейных делах. Писал по-древнееврейски, так что в нашей передаче письмо много потеряет в красоте своей. Вот как писал он:
«По соизволению Господа, да будет благословенно Его Святое имя, я развел прелестный сад у себя (т. е. семинарию) с различного рода деревьями, носящими всякие плоды (т. е. учениками). Когда какой-либо плод делается зрелым и сочным (т. е. ученик достоин идти под венец), я отыскиваю приличного человека и предлагаю ему вкусить от плода. Когда же Господь мне поможет, и в саду моем созреет золотое райское яблоко, без всякого изъяна и недостатка, я возьму его для дочери своей единственной, Мирьям, да здравствует она».
Когда же вавилонский Рош-иешиво по своему обыкновению лаконически отписал ему:
«Неужели в твоей семинарии нет достойного ее ученого»?
Ребе Хия дал ему понять, что дело не в одной учености.
«Наука, – писал ему ребе Хия в ответ, – подобна воде. Не все воды текут однако из рая. (Т. е.: не всякий занимается наукой во славу Божию)… Один усердствует из-за гордыни своей, желая превзойти и одолеть своих товарищей… Другой – желая использовать славу, доставляемую наукой, стремясь не к возвеличению науки, а чтобы наука его возвеличила… Третий занимается наукой по страсти своей, из-за любви к мудрствованию; радуясь не так Божьему слову, как изобретаемым им новшествам, любуясь своим словопрением, плодами своего досужего ума… Ради своих фокусов, такой иногда готов даже коверкать смысл и слова Священного Писания. Некоторые же, еще боле простые, смотрят на науку, как на топор или лопату, которой можно разрывать мусор, найти плотское счастье: тестя зажиточного, стол сытный, богатое наследство в будущем… Правда, иногда начиная не во имя Господне, потом переходят к изучению во имя и славу Господню, но все же рубец на душе, пятно или след остается навеки! Словом сказать, много хороших яблок райских в саду у меня, мне же нужно особенное, внутренность которого вполне соответствовала бы его внешности. Но внутренность человека определить не так-то легко. Невольно закрадывается сомнение…»
Рош-иешиво, признав его правоту, опять-таки кратко ответил: «Ищи и обрящешь!»
Но как искать?
Ребе Хия бывало говорит:
– Человека было бы легко узнать по глазам… Душа заточена в теле, словно в тюрьме. Но Господь, по неизреченной милости своей, устроил в тюрьме два оконца: очи, через которые душа может на мир посмотреть и себя показать! И возможно было бы по глазам узнать человека. Но, к сожалению, у оконец имеются занавески – веки с ресницами… И если у человека душа с недостатком, он прячет ее, точно некрасивую невесту до венца. И, когда душа хочет выглянуть на свет Божий, человек, будто из скромности, опускает занавески…
– Легче поэтому узнать человека по голосу! – говорил ребе Хия и развивал свою мысль так:
– Человек подобен глиняному горшку: одинаково легко они превращаются в прах. Как горшок – воду, так человек может содержать в себе науку, не теряя ни капли. Но это лишь в том случай, когда горшок цел… Как же узнать, цел ли горшок, когда глазом нельзя заметить трещины? Приходится постучать по горшку, прислушиваться к его звуку. Если звук чист и гулок – хорошо! Если нет – горшок с изъяном. Так же и человек.
У человека нецельного голос будет звучать надголоском, подголоском, приголоском, он будет раздвоенный или дрожащий, но никогда не даст чистого, ясного звука, настоящего голоса он лишен.
Но человек все же не горшок. Когда пробуют человека, он, боясь выдать себя голосом, подлаживается под чужой… Точно попугай! Иной раз услышишь издали пение и думаешь: такая-то птица поет; а подойдешь ближе – замечаешь фальшь; то попугай старается… Поэтому ребе Хия стал поступать так. Свой урок он давал до обеда. А перед вечером выпускал учеников в сад: пусть гуляют в тени дерев, пусть вкушают от плодов, благословляя их Творца, пусть наслаждаются ароматами цветов, запахами травы и кустов, пусть, прогуливаясь, разбирают пройденное, или говорят о священной науке; пусть, наконец, ведут меж собою дружеские беседы – и то не беда… Сам же ребе Хия тогда уединялся в своей комнате и занимался тайной наукой… Окна его комнаты выходили в сад и были завешаны тяжелым шелковым занавесом от солнца. Время от времени ребе Хия снимал очки и, положив их на книгу, накрывал ее фуляровым платком, – сам, бывало, подходит к окну, станет за занавесом и прислушивается к голосам учеников, парами или кучками гуляющих по саду. Те, гуляя, ведут между собою дружеские беседы, и некого им опасаться, незачем менять свой голос…
Суть их речи ребе Хия не хотел и не мог расслышать. До его комнаты достигали лишь звуки речи, но не слова…
Когда же прошло много времени, и ребе Хия ни одного истинно-чистого голоса не нашел, впал он в глубокую печаль.
Однажды он стал даже перед Господом изливать свою скорбь:
– Владыка Небесный! – воззвал он. – Птицы в саду, у которых лишь дух жив, поют славу Тебе; ученики же мои, имея душу и сознание, Слово Твое постигают… Почему же голос птичек Твоих так: ясен, так целен и чист, точно вся душа их в песне изливается, тогда как мои ученики…
Но он не кончил: произнести хулу на учеников он не хотел… Однако его не оставляет печаль!..
Время от времени поступают новые ученики, новые голоса раздаются в саду, но отборного, отменно хорошего нет!
Ребе Хия подозвал однажды дочь свою, Мирьям и, взглянув на нее с великой любовью и жалостью спросил:
– Посещаешь ли ты, доченька, когда-либо могилу матери?
– Да, батюшка! – ответила та, поцеловав его руку.
– О чем ты просишь ее, дочь моя?
Подняв на него свои ясные очи, Мирьям сказала:
– О здоровье твоем, батюшка, молю! Ты по временам такой скучный… И я, бедная, не знаю, чем бы развеселить тебя… Мать, мир ее праху, знала… И я молю ее, чтоб она, явившись ко мне во сне, научила меня, как ходить за тобою…
Гладит ребе Хия ее бархатные щечки и говорит:
– Я, слава Богу, здоров. Тебе о другом, дочь моя, следует просить мать…
– О чем?
– Пойдешь, дочь моя, на родную могилу, попроси мать, чтобы она потрудилась, постаралась ради исполнения моих дум о тебе…
Мирьям наивно ответила:
– Хорошо, батюшка!
Однажды ребе Хия, сидя у себя в комнате, услыхал крупный разговор в передней. Раздаются два голоса: один – сердитый, голос надзирателя, другой – юный, незнакомый голос – вероятно, новоприехавшего ученика. И этот второй голос произвел на ребе Хию сильное впечатление. На такой голос он надеялся, о таком он молил Творца. Ребе Хия закрыл книгу, лежавшую перед ним, и стал прислушиваться.
Но просящий юный голос вскоре замолк, слышится лишь голос надзирателя, укоряющий, сердитый. Постучал ребе Хия по столу. Открылась дверь, вошел надзиратель, взволнованный и испуганный, и стал в послушной позе у дверей. Но старое лицо его все еще бледно, глаза еще мечут молнии, ноздри пляшут – больно разозлился старик.
Ребе Хия напомнил ему, что гневаться грех.
– Нет, ребе! – еле отдышался надзиратель. – Это уже чересчур! Какова дерзость! Дерзость-то какая у юнца!
– В чем, однако, дело?
– Он лишь малого желает: поступить в семинарию!
– Ну, так что с того?
– Я его спрашиваю: «Знаешь Талмуд с комментариями?» – «Нет», – говорит. – «Но основные положения Талмуда, Мишну, знаешь?» – «Нет». Я тогда в шутку спрашиваю его: «А легенды талмудические проходил?» И того нет! Я уж вовсе рассмеялся: «Молиться, по крайней мере, можешь?» Парень расплакался. Молитвы, говорить, читать умеет, но значение слов забыл! – «Куда же ты прешься, глупец?» – В семинарию поступить желает. – «Зачем?» Хочет, говорит, просить у ребе Хии позволения посещать семинарию и слушать Слово Божие, авось Господь смилуется, и он вспомнит!
– Знал, значит, да забыл!? – вздохнул ребе Хия. – Болен, вероятно, бедняга. Зачем же сердиться?
– Как не сердиться? Я ему говорю: «Хорошо, я допущу тебя в семинарию». Но на нем полотняное рубище, опоясан он витой веревкой, в руке держит палку лесную, засохшую ветвь миндального дерева. Вот я ему и говорю: «Хорошо, паренек, я допущу тебя в семинарию. Но тебе придется переодеться. Есть у тебя платье?» Нет, он снять своего не намерен… Нельзя ему, говорит, сбросить с себя рубище. – «Хоть палку оставь!» Не желает; нельзя, говорит, ему палку из рук выпустить, ни днем, ни ночью; даже во сне не расстается со своей палкой!
Понял ребе Хия, что юноша – кающийся грешник, и велел надзирателю ввести его к себе.
Вошел бледный, изможденный юноша, одетый в рубище, опоясанный веревкой, с миндальной палкой в руке, и остановился у дверей.







