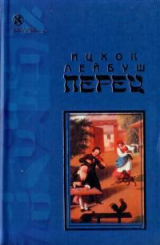
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Догадался, наконец, что дело неспроста «Бес попутал», – подумал он и усомнился в самом себе.
Кажись, ничего не остается делать другого, как поехать к цадику.
Но злой дух не оставляет его, он говорит:
– Не мешало бы съездить! Да куда? Цадиков много, кто из них истинный, кто действительно может наставить на путь?
Раздумье взяло ученого.
Получил он знаменье.
Пришлось как раз в то время ребе Довиду бежать из Талны. Путь его лежал на Радзивилл…
Историю с доносом вы небось слыхали.
Должен я вам сказать, что это было наказание Божье. Не следовало хасидам отнять ребе Довида у васильковцев, переманить в Талну. Оскорбили целую общину. Разрушили целый город.
Все гостиницы там закрылись; все корчмы кругом опустели. Многие с ручкой пошли…
И вот! Черкнули доносец, и Тална погублена.
Ребе Довид сидел, бывало, на золотом кресле с надписью: «Давид, царь Израиля, жив и вечен!» Доносчики придали этой надписи политический характер и донесли в Петербург.
Мы, правда, знаем, что это выражение иносказательно, в талмудическом значении: «Кто царь – се учитель!», но поди, растолкуй это генералам в Петербурге…
Словом, ребе Довиду пришлось бежать. По дороге ему пришлось субботовать в Радзивилле. Наш ученый пошел в вечер субботы к ребе.
Злой дух однако не совсем еще смирился.
Ученый вошел и видит низенького еврея, совсем маленького. Тот сидит за столом, на почетном месте. Ничего не видно кроме высокой, высокой меховой шапки и серебряных волос бороды.
Кругом народ. Тихо.
Не слышно молитвы, ни звука торы.
Растерялся ученый.
«И это все?» – приходит ему в голову.
Но ребе Довид уже заметил его и промолвил:
«Сядь, ученый!»
В то же мгновение ученый пришел в себя. Он поймал на себе взор ребе. Обожгло его душу!
Вы, вероятно, слыхали о глазах ребе Довида! В его взоре была власть, и святость, и сила, все было в его взоре!
Стоило ребе Довиду оказать: «Сядь», чтоб место за столом явилось. Ученый и ждет.
Ребе Довид произнес: «Спой что-либо, ученый!» У того даже в висках застучало. Ему – петь!
Но кто-то толкнул его в бок. Когда ребе Довид велит петь, так должно петь!
И ученый запел!
Начал он дрожащим голосом. Еле-еле вырываются первые звуки. Что ему петь? Конечно – песню сиротки, Другой он не знает. Он дрожит, заикается, все же поет. Но и песня другая уж стала. Она обрела дух науки, впитала в себя святость субботы, прониклась раскаянием ученого… Ученый поет и все сильнее чувствует песню, поет все лучше, вольнее…
Ребе Довид, по своему обыкновенно, начал подтягивать, народ заметил и подхватил. Пение толпы разогревает ученого. Он загорается! Он запел по-настоящему!
И песня разливается огненной рекой, волны вздымаются выше и выше, все горячее, пламеннее!
Тесно делается песне под кровлею дома, по улице разливается море огня, море святости, огненной святости.
Удивленный, изумленный, спрашивает на улицах народ:
– Господи, неужели песня сиротки? Песня сиротки?
Исправилась песня. Исправился ученый. Перед отъездом ребе Довид отозвал его в сторону и сказал:
– Ученый! Ты оскорбил еврейскую дочь! Ты не заметил первоначального корня ее песни. Назвал ее непотребной.
– Ребе! Назначьте епитимию, – просит ученый.
– Незачем! – ответил ему ребе, царство ему небесное, – вместо епитимии, лучше сотвори милостыню.
– Какую, ребе?
– Выдай эту девушку замуж. Доброе дело!
Теперь выслушайте еще кое-что.
Через несколько лет, когда девушка уже давно была замужем за вдовым писцом, узнали о ее происхождении.
Оказалось, что девочка – внучка старого Кацнера!
Его зять пошел как-то раз с молодою женою в театр, а в их отсутствие украли их единственную дочь…
Возвратить им дочь теперь не смогли. Мать давно умерла, а отец был в Америке.

Если не выше еще…
 ежедневно на рассвете во время «Слихос» немировский цадик исчезал.
ежедневно на рассвете во время «Слихос» немировский цадик исчезал.
Его не видно было нигде, ни в синагоге, ни в молельнях, ни – само собою – при домашнем богослужении. Двери оставались открытыми, входил, кто хотел (краж, конечно, не случалось): в доме никого.
– Где может быть цадик?
– Где ему быть! Конечно, на небе. Мало дела там, что ли, у цадика перед «страстными днями?» Мало о чем позаботиться надо? Евреям (не сглазить бы) нужны пропитание, спокойствие, здоровье; нужно удачно детей сосватать; что называется, быть как следует перед Богом и перед людьми. А грехи ведь велики, и дьявол тысячеглазый видит все и доносит и обвиняет…
Кому же заступиться, если не цадику?..
Но случился тут однажды литвак, – смеется…
Знаете литваков? Книг нравоучительных не очень уважают, а колют глаза талмудом да раввинскою письменностью. Так этот литвак приводит доказательство из Талмуда, прямо в глаза тычет, – что даже Моисей и тот не мог входить на небо и достигал лишь высоты на десять локтей ниже небесного свода… Ну, поди спорь с литваком!
– Все-таки – спрашивают его – куда же девается цадик?
– Да мне-то что! – отвечает он, пожимая плечами. Но тут-таки (на что литвак способен!) решает разъяснить это загадочное дело.
В тот же день, сейчас после вечерней молитвы, он прокрадывается в комнату цадика, залезает под кровать и лежит, надо прокараулить всю ночь и узнать, куда девается цадик и чем он занимается в это время.
Другой, может быть, не выдержал бы – уснул и проспал бы момент; литвак же находит средство: лежит и повторяет наизусть целый талмудический трактат, – не помню уже: «Хулин» или «Недорим».
На рассвете слышит он – стучат: зовут к «Слихос». Цадик давно уже не спит; более часа слышно, как он кряхтит… Кто когда-нибудь слыхал, как кряхтит немировский цадик, знает, сколько народной скорби, сколько мук в каждом его вздохе… Душа изнывает от этого кряхтения. Но у литвака ведь железное сердце, – слушает и лежит себе дальше. Лежит и цадик, – цадик в постели, литвак под кроватью…
Вскоре слышит литвак – в соседних комнатах поднимаются со скрипящих кроватей… Бормочут краткую утреннюю молитву… Слышен плеск омовения… Дверьми хлопают… Постепенно все утихает… Тишина и полумрак… В щели ставень пробивается бледное мерцание…
Сознавался литвак, правда, что, когда все кругом снова утихло и он остался один в комнате с цадиком, на него напала непреодолимая робость, вся кожа на нем запупырилась, как у испуганного гуся, и корни волос на висках начали колоть, как иголки. Шутка сказать: во время «Слихос» оставаться сам-друг с цадиком в одной комнате… Как знать, что тут может произойти! Кто вдруг появится!..
Но литвак ведь упорен: дрожит, зуб на зуб не попадает, а лежит!
Наконец, цадик встает. Сначала он исполняет все нужное по ритуалу, потом подходит к платяному шкафу и вынимает оттуда узел… Из узла появляется крестьянское платье: холщовые портки, огромные сапожищи, сермяга, большая баранья шапка и широкий кожаный кушак, обитый медными кнопками. Цадик все это надевает на себя… Из кармана сермяги торчит конец веревки – обыкновенной, грубой веревки… Коротко – цадик идет, литвак за ним. Мимоходом цадик заходит в кухню, нагибается под полати и, достав оттуда топор, засовывает его за пояс и выходит на улицу. Литвак весь дрожит, но не отстает ни на шаг.
Робкая, благоговейная тишина царит на темных уличках… Кое-где вырывается стонущий звук «Слихос» из какой-нибудь молельни…
Кое-где из-за оконных стекол доносится стон больного… Цадик держится все боле в сторонке, в тени домов и заборов… Временами фигура его выходит из тени, а литвак – за ним.
Ясно, отчетливо слышится литваку, как сердце колотится у него в груди в такт звукам от шагов цадика, но он идет дальше. И так выходят они за город.
За городом – роща.
Цадик заворачивает туда и, пройдя шагов тридцать-сорок, останавливается возле одного дерева. Литвак, вне себя от изумления, видит, как цадик вынимает из-за пояса топор и принимается рубить дерево. Цадик рубит, рубит; деревцо трещит и падает…
Цадик разрубает его на поленья, раскалывает на щепки, увязывает в вязанку и, вскинув ее на плечи, засовывает топор за кушак и направляется из лесу обратно в город.
В одном переулке цадик останавливается у полуразвалившейся избенки и стучит в окошко.
– Кто там? – раздается испуганный голос, и литвак слышит, что это голос больной женщины.
– Я, – отвечает по-русски цадик.
– Кто – «я»?
– Василь, – отвечает с хохлацким оттенком цадик.
– Какой такой Василь и что тебе надо?
– Дрова маю продавать! – отвечает цадик, – вязанку дров… и дешево, почти даром.
И, не ожидая ответа, он направляется в избенку.
Литвак прокрадывается туда же. При сером утреннем полумраке перед ним – бедная комнатка с убогою и поломанною утварью; на постели, под грудою тряпок лежит больная женщина, которая говорит с отчаяньем пришедшему Василю:
– Купить?.. А на какие деньги купить? Откуда мне взять их, бедной вдове?
– Я тебе в долг поверю, – отвечает переодетый цадик, – всего шесть грошей…
– А где я возьму их, чтобы уплатить тебе?
– Глупый ты человек! – строго возражает цадик, – смотри, ты бедная, больная женщина, и я тебе верю в долг… Я уверен, что ты заплатишь… Ты имеешь такого великого и всесильного Бога и… не доверяешь Ему?! И не надеешься на него даже на какие-нибудь шесть грошей за вязанку дров!..
– А кто затопит? – жалобно спрашивает больная, – я разве в силах встать? Сын не вернулся с работы…
– Я затоплю, – отвечает цадик.
Кладя дрова в печку, цадик, кряхтя, прочитал первую главу из «Слихос».
Затопив и видя, как дрова стали весело разгораться, он уже несколько бодрее стал читать вторую главу.
Третью главу цадик прочитал, когда печка истопилась, и он закрыл трубу.
Видевший это литвак с тех пор остался уже навсегда немировским хасидом.
Впоследствии, когда, бывало, какой-нибудь хасид начнет рассказывать, что во время «Слихос» немировский цадик поднимается на небо, литвак уже не смеялся, но тихо прибавлял:
– «Если не выше еще!»

Хасидское учение
 сему миру известно, что немировский раввин служил Господу Богу с ликованием.
сему миру известно, что немировский раввин служил Господу Богу с ликованием.
Как счастливы глаза, видевшие ту радость, тот огонь, тот экстаз, тот настоящий восторг, который излучался из него, царство ему небесное, как из солнца, озарял и обливал весь мир, как золотым, огненным светом! Что за счастье это было! Забывал еврей свое изгнание, свою скорбь и величайшие горести! Себя забывал человек! Души всех сливались в одно пламя с его душой, блаженной памяти! Как радовались! Какой живой, огненной радостью! Словно из ключа била она!
Есть праведники, которым дано сподобиться субботней и праздничной радости. Вонволицкий праведник, царство ему небесное, хвалился тем, что в его душе есть искра радости, навеваемой в вечер после Судного дня! Другие приобщаются этого счастия только при разных обрядах, как обрезание, окончание Торы и проч.
Но наш немировский, царство ему небесное, сиял благодатью Его на каждый день, и до последней минуты, до последнего дыхания! Да снизойдет его благоволение на нас!
А его пение, его пляска! Его напевы, его телодвижения были преисполнены духа святого.
– Я должен открыть, – воскликнул он как-то раз, и в очах его сиял святой небесный огонь, – я должен открыть, что весь мир не что иное, как песня и пляска Вседержителя! Все – только певцы, и воспевают славу Его! Каждый еврей – певец, и каждая буква Торы святой – голос поющий, и каждая душа в каждом теле тоже глас поющий, ибо каждая душа – буква Святой Торы, а все души, вмести взятые, это Тора Святая в целом, и все это вместе – одна великая песня Царю царствующих, да святится Имя Его.
И дальше он говорил, что, как бывают различные голоса для пения, так же имеются и различные инструменты для пения, и каждый напев связан со своим инструментом, приспособленным к данному мотиву, и каждый инструмент имеет свой напев, ибо инструмент – это тело, а мелодия, напев, это – душа инструмента…
И каждый человек – поющий инструмент, а жизнь человека – мелодия, веселая, или грустная; когда кончается мелодия, улетает душа из тела, и песня, душа то есть, сливается вновь с всеобщей великой песнью перед престолом Всевышнего…
И горе человеку, сказал он, что живет без своей песни; это —жизнь без души, это скрежет и стенанье – а не жизнь…
И всякая община, это – особый напев, и праведник, стоящий во главе общины, это дирижер общинного напева… И каждый член общины знает свою часть напева, и должен звучать, как это нужно и когда это нужно, а то он искажает напев; только капельмейстер должен знать весь напев, исправлять, когда нужно, и при нужде заставить повторить… Если же он слышит режущий звук, он должен изъять его, как злую силу, чтоб, не дай Бог, не испортить напева!
И благо вам, говорил он, что на вашу долю выпал веселый напев…
И еще многое говорил он, блаженной памяти, по этому поводу…
– Ученые, – сказал он, – которые изучают Тору только поверхностно, подобны людям, которые любуются издали на царский дворец и не могут проникнуть туда. У них нет смелости даже постучаться в ворота, авось им откроют… Они могут видеть только стены, окна, дымовые трубы, флаги, высоко развевающиеся над дворцом. Порою они видят дым, который валит из трубы, слышат иногда голоса слуг, которые вертятся в передних царского дворца. Но те, что углубляются в самую суть Торы, что сливаются душой с душою Торы, те входят во внутрь дворца, те видят всю славу Царя, слышат, как поют и славословят Ему и приобщаются к хору воспевающих Царя…
– А те, – говорил он, – что ходят вокруг дворца, порою подобны ремесленникам, которые делают инструменты для игры, могут их починить, но сами играть на них не умеют; порою у них ловкие руки, чтобы смастерить инструменты, но уши у них заткнуты, и когда играют на инструменте, ими самими сработанном, они не слышат; а то души у них черствые, не понимают, не чувствуют тою, что играют. Хороший мастер, который уже берет инструмент в руки, может, правда, испробовать его и сыграть кое-что, в подражание, но это холодно, без души, а играть от себя, по вдохновенно – этого они не могут, даже самые великие.
– Но я, – говорил он, – хотя не из ученых, то есть не мастер-ремесленник, и не могу ни сработать, ни починить инструмента, но играть, играть умею на всех инструментах.
– Они, – сказал он, – инструменты, а мы – мелодия! Они – платье, а мы – люди! Они – тело, а мы – душа!
Благо ушам, которым суждено было слышать такие слова! Счастливы глаза, видевшие ликование, царившее на дворе у немировского. Но в сравнении с весельем, царившим на свадьбе его дочери, все это было ничто!
Кто не видел свадьбы Фейгеле, тот ничего хорошего не видал!
Тогда-то воистину снизошел Божий дух, почил на всех, объял все… Все, от мала до велика, были в особенно повышенном настроении, все, даже кухарки, лакеи, извозчики, привозившие гостей… Даже мужиков, заметил он, и тех он вознес до степени праведных мира сего!..
Старший из всех, ребе Цоц, рассказывал мне, – а у него не было привычки говорить так себе, лишь бы говорить, – что это была первая радость с первых дней творения…
И я себе представляю, что творилось там, в небесных сферах, когда сам ребе пустился в пляску «непорочной невесты»!
– О! – пожелал я себе. – Как бы привести сюда всех неверующих, насмешников и мудрствующих лукаво, и показать им это счастье, это величие, этот восторг! Счастья на земле им тоже хочется, ведь так? – Пусть они увидят, как рай небесный в рай земной превратился, как весь мир, ликуя, вошел в наш дом и сиял, как солнце! Ноги они стали бы целовать, они бы увидали, чего стоит их рай земной!
Ибо, если всякая пляска ребе, даже самая будничная, когда он, бывало, пустится вприсядку по комнате, заключала в себе шестидесятую долю райской радости, то тогдашняя наверное равнялась трети, а может быть – целой половине!
Музыканты играли тогда «веселую». Народ разорялся по всем углам, как обыкновенно бывает на свадьбах. Иные танцуют в сторонке, взявшись за руки по двое, по трое; другие ведут хоровод; некоторые пьют, поют – столпотворение, какое бывает на свадьбах.
И вдруг ребе, царство ему небесное, встал, вышел на средину и… остановился. Пальцем он подал знак музыкантам, и они перестали играть.
Ребе стоял посредине комнаты, лицо его пламенело святым огнем, глаза светились, как звезды, атласный кафтан блестел и сверкал, меховая шапка переливалась тысячами серебристых лучей, – дух захватывало, в глазах мутнело…
Воцарилась тишина, все глаза направились к ребе и прильнули к его фигуре. Дыханье остановилось у всех – слышно было тиканье часов в седьмой комнате, и в этой сладостной тишине ребе затянул свою тихую песню.
Насредине он оборвал напев и стал издавать какие-то особенные, отрывистые звуки – и все поняли, что означают эти отрывистые звуки! То были добрые вести, которые он рассылал по миру, вести, что свадьба Фейгеле совершится в добрый и счастливый час… И мне казалось, что я вижу, как снежно-белые голуби вылетают из уст ребе. Потом ребе, да продлит Бог дни его, и сам признался, что эти звуки были посланцами всему миру – всему живому, всем деревьям и травам, всем пустыням, лесам, морям и рекам, небу и земле, аду и раю, всем праотцам, всем обитателям небес – посланием и приглашением на свадьбу…
И когда все почувствовали, что жара в комнатах вдруг усилилась во много раз, а он, царство ему небесное, увидел, что званные пришли, – он снова затянул свой сладостный напев, и стал петь его словами, святыми словами! И тут же он пустился в пляс, и все глаза опустились долу и впились в его святые ноги… Счастливы воистину глаза, видевшие это!
Все знают, что, когда, после кончины нашего святого учителя, с его зятем, мужем Фейгеле, случилось то, чему не должно было быть места, и я остался, как овца без пастыря, я объехал все общины еврейские и искал… Но то, чего я хотел, к чему тянуло меня, я нигде не нашел! Я многое видел, и великое, и страшное – волосы дыбом становились, но радости я больше нигде не видал! Горе, грусть, разбитые сердца… А если где и встретишь радость, то это лишь намек на радость, радость за столом – пока вино на столе. До цельности напевов после смерти немировского ребе никто не дошел… Так себе, бурчат… А о танцах и говорить нечего!..
Не поется – голоса одеревенелые; не пляшется – ноги не хотят оторваться от земли; руки неповоротливы, ленивое тело – холодное, замерзшее… А когда уже поют и танцуют – раз в году в Праздник Торы – то это как-то не вяжется; слова в одну сторону, мелодия – в другую, а ноги двигаются сами по себе; нет согласия между ними; трое незнакомцев случайно встретились, и врозь шагают по комнате взад и вперед…
Вместе с немировским ребе умерло веселье, душа плясок, песен, напевов. Только ему одному известно было, какие жесты полагаются при одном напеве, какие при другом, какая мелодия подходит к одним словам, какая к другим.
Но вернемся к нашему рассказу…
Ребе стоит посредине комнаты, поет, танцует, мы стоим кругом рядами, слышим мелодии, видим танцы; все, кругом стали петь и танцевать. Даже музыканты, и те побросали свои инструменты – и их рвануло к нам – и принялись петь и танцевать, а я удостоился даже танцевать лицом к лицу с ребе. И вдруг я вижу, что жених, один из всех, молчит, не поет и не танцует.
– Ребе, – крикнул я не своим голосом, – даже музыканты поют и танцуют, а он молчит.
И ребе, приплясывая, приблизился ко мне и сказал:
– Не бойся, верь в судьбу Фейгеле…
А затем уже, когда мы сидели за столом, он шепнул мне на ухо:
– Ты сейчас услышишь, как он будет читать слово Божие согласно моему напеву…
И действительно…
Речи, которую произнес жених, я не помню; вы ведь знаете, что я не из великих ученых, и не все было доступно моему уму, притом он говорил на чистом литовском наречии и так быстро, что чудилось, будто огненные колеса вертятся перед глазами…
Но разработка вопроса была очень глубокая – глубочайшая тема…
Весь народ, вобравшийся кругом, все люди ученые, знающие, стояли, разинув рты.
Ковальский раввин, у которого была привычка никого не выслушивать, а кричать в глаза: «неуч! невежда!», сидел молча, с улыбкой умиления на маленьком лице, сидел, и покачивал согласно головой…
Все слушали, и только я один знал тайну, что речь его – танец ребе, все они постигали форму, я один проник в содержание… И когда я закрывал глаза, я видел, как ребе танцует.
Все было так, как при пляске ребе… Кругом царила тишина, такая тишина, что слышно было, как часы тикали в седьмой комнате, в столовой ребе… Посредине стоял жених, вокруг него стоял народ, с раскрасневшимися лицами, горящими глазами, затаив дыхание…
Святость Торы снизошла на жениха, и от этой святости излучался, как от солнца, свет и зажигал сердца – кругом стояли пламенеющие души!
И губы его плясали, как ноги ребе, и очи всех были прикованы к его губам, как к ногам ребе, и сердца всех были преисполнены восторга, самозабвения…
В тот момент и он был святым праведником…
Душою всех!
Все тянулись к нему, как железо к магниту… Какой-то чарующей силой увлек он всех за собой, далеко, далеко, на улицу, за город, через горы и долины, моря и пустыни…
И глаза его горели, как у немировского ребе, а руки его двигались, как святые ноги того…
Я сижу, как зачарованный, вдруг кто-то коснулся моего плеча.
Я озираюсь – вижу ребе.
– Ты видишь, вот так я танцевал; только один напев не вошел сюда, он остался за дверью. Недаром мой зять – ученик Виленского гаона… Э!
Это «Э!» резануло меня по сердцу, словно ножом.
Вдруг он говорит.
– Хаим, ступай, дай водки мужикам, что привезли гостей.
И что это означало, этого уж я никак не мог понять.
Разговор
 еплый, истинно праздничный день. Сахна, высокий, худощавый еврей, один из последних Коцких хасидов, и Зорах, тоже худощавый, но низкорослый – остаток старых Бельских хасидов, отправляются за город погулять. В молодости они были врагами, кровными врагами, не на жизнь, а на смерть. Сахна воевал за Коцких хасидов против Бельских, а Зорах – за Бельских против Коцких! В настоящее время, на старости лет, когда Коцкие хасиды стали уже «не те, что раньше были», а Бельские утратили свой пыл, оба они вышли из партии, перестали посещать их молитвенные дома, в которых заправилами стали менее преданные, но зато более молодые и более крепкие люди.
еплый, истинно праздничный день. Сахна, высокий, худощавый еврей, один из последних Коцких хасидов, и Зорах, тоже худощавый, но низкорослый – остаток старых Бельских хасидов, отправляются за город погулять. В молодости они были врагами, кровными врагами, не на жизнь, а на смерть. Сахна воевал за Коцких хасидов против Бельских, а Зорах – за Бельских против Коцких! В настоящее время, на старости лет, когда Коцкие хасиды стали уже «не те, что раньше были», а Бельские утратили свой пыл, оба они вышли из партии, перестали посещать их молитвенные дома, в которых заправилами стали менее преданные, но зато более молодые и более крепкие люди.
Зимою, греясь у печки в синагоге, они заключили между собою мир; и сегодня, в праздник Пасхи, они воспользовались первым хорошим днем и отправились на прогулку.
Солнце ярко светит на далеком голубом небе, из земли пробивается травка; воочию видишь, как подле каждой травки сидит ангел и как бы понукает: расти! расти!
Целые стаи птиц летят и ищут свои прошлогодние места.
Сахна обращается к Зораху:
– Коцкие хасиды, ты понимаешь, настоящие Коцкие хасиды, о нынешних и говорить не стоит, – истинные Коцкие хасиды вовсе не высокого мнения об агаде…
– Зато о галушках? – улыбаясь, замечает Зорах.
– Оставь галушки! – строго отвечает Сахна. – Не шути! Ты знаешь тайну слов: «не водворяй раба к господину»?
– С меня, – заметает Бельский с гордою скромностью, – довольно знать тайный смысл обыкновенных молитв.
Сахна делает вид, будто не расслышал его слов и продолжаете:
– Буквальный смысл ясен: если раб или слуга сбежал, то по закону его нельзя ни ловить, ни связывать, чтобы передать помещику, владельцу; раз человек бежал, значит, невтерпеж ему было… значит, жизнь не мила! Но и тайный смысл этих слов также весьма прост: тело на положении раба – оно раб души! Тело жадно; видит оно кусок свинины, чужую жену, чужого божка и еще Бог знает что – так оно из кожи вон лезет. Тогда душа говорит ему не делай! И оно должно молчать. И наоборот – душа хочет сделать что-нибудь хорошее, и тело обязано сделать… Пусть оно устало, бессильно… руки обязаны работать, ноги – бежать, рот – говорить… Почему? – Господин велит, душа приказывает! И при всем том: «не водворяй!» Целиком отдать душе тело тоже нельзя. Пламенная душа сожгла бы его, в пепел превратила бы. А если бы Богу угодны были души без тел, он не создал бы мира! А посему и тело имеет свои права… «Тот, кто много постится, грешник» – тело должно питаться! Кто хочет кататься, тот должен кормить свою лошадь! И вот приходит праздник, день радости – веселись! Возьми каплю водки, веселись и ты, тело! И душа вкушает удовольствие, и тело тоже! Душа от прочитанной молитвы, а тело – от водочки! Пасха, день нашего освобождения – угостись, тело, вот тебе галушка! И благодаря этому, возвышается! Оно принимает участие в совершении обряда!.. Не шути, братец, с галушками.
Зорах признает, что смысл слов очень глубок, и слушает.
– Ты имеешь удовольствие от опресноков…
– У кого опресноков досыта? – улыбается Зорах, – да и где зубы, чтобы их раскусить?
– А как иначе ты применяешь веление: «и радуйся праздником твоим», по отношению к телу?
– Я знаю? Приятно ему изюмное вино – ну и ладно! Что же касается меня самого, то я испытываю особенное удовольствие от «Сказания о Пасхе». Сижу себе, читаю, перечисляю казни египетские, раз, другой, удваиваю их, и снова удваиваю…
– Возмутительно!
– Возмутительно? За столько несчастий и бедствий перенесенных… За столько лет изгнания? Мне думается, что следовало бы установить обычай, семь раз повторять казни, семь раз повторять: «Излей гнев Твой!» Главное – казни! Я просто оживаю при них! Мни бы еще хотелось открыть дверь при этих словах… Пусть слышат! И чего мне бояться? Они разве понимают священный язык?
Сахна молчит немного, а затем рассказывает:
– Послушай; у нас произошла такая история! Чтоб не преувеличить, домов за десять от ребе, царство ему небесное, жил мясник. Да простит мне Бог слова мои – он покойник уже, – грубый мясник, из мясников мясник! Шея у него была, как у быка, руки, словно бревна, брови, как щетки! А голос-то! Заговорит он, кажется, будто вдали не то гремит, не то стреляют. Он, насколько мне кажется, был бельский хасид.
– Ну, ну… – бормочет Зорах.
– Как Бог свят! – хладнокровно отвечает Сахна. – Молился он с изумительно дикими ужимками; то кричал, то понижал голос. Когда он произносил шипящие звуки, то будто водой заливают пожар.
– Будет! будет!
– Ну вот, представь себе, какой невообразимый шум поднимается, когда такой молодчик принимается за чтение «Сказания о Пасхе»! Каждое слово слышно было в доме у ребе! На то он и мясник, чтоб рубить каждое слово, как мясник. Так шутили за столом. Ребе же, царство ему небесное, чуть-чуть шевелит губами; видно, что он улыбается… А затем, когда фрукт этот стал перечислять казни, когда те, словно ядра, стали вылетать из уст его, сопровождаемые стуком кулака, словно молотом но столу, и мы услыхали, как там бокалы гремят, – грусть напала на покойного ребе, царство ему небесное, опечалился он…
– Опечалился – в праздник – в Пасху? Что ты говоришь?
– Да, действительно. Мы спросили его в чем дело.
– И что же он ответил?
– Сам Бог печалился, – сказал он, – при выходе евреев из Египта!
– Из чего это видно?
– Сказано так! Когда евреи перешли море, и волны морские покрыли собою фараона и все его войско, – ангелы запели, архангелы и серафимы полетели по всем семи небесам с этой доброй вестью! Все звезды и созвездия запели и заплясали! Ты можешь себе представить, что это была за радость. Нечисть утонула. Но Господь остановил их, с престола Его донесся голос: «Творение рук моих погибает в море, а вы распеваете? Дети мои тонут в море, а вы радуетесь и поете!» Потому, что фараон и все его войско, – даже нечистая сила, царство зла, тоже создано Богом… А сказано, что Он милосерд ко всем твореньям своим.
– Пусть так! – вздохнул Зорах. Помолчав немного, он опять спросил:
– Если так сказано, что же ваш ребе открыл нового?
Сахна умолк и затем серьезно ответил:
– Послушай, бельский дурень, во-первых, никто не обязан открывать новое. В Торе нет ни раннего, ни позднего… Старое всегда ново, а новое – старо… Во-вторых, он открыл нам, почему читают «Сказание о Пасхе», даже казни, грустным напевом, преисполненным тоски. И, в-третьих, он объяснил нам слова: «Израиль, не радуйся радостью всех народов», ясно – радоваться не следует, ты не мужик!.. Месть – не еврейское дело…
Радость и веселие в его доме
 ни все кричат:
ни все кричат:
– Наслаждений!
Наслаждений хочется им, радоваться… Веселиться хочется им, радости жизни испытать…
А я говорю вам, что радость в Его обители.
Источник радости – Он… Из Него она исходит!
Радость в Торе, в заповедях и в добрых дедах, в душах праведников, – во всем, что получает питание оттуда! От сияния престола Предвечного!
На всех земных наслаждениях, говорю я вам, – лежит печать грусти, тоски; все облечено и окружено унынием, грустью…
И в самом деле. По какому поводу радоваться?
И посему, каждое дело нуждается в «исправлении». Все должно освободиться от печали, от оцепенения, в которое оно погружено, когда нет луча Его милости.
Сами посудите:
Мы пьем, и они пьют…
Какой вкус имеет рюмка водки в трактире… и какой вкус имеет та же рюмка водки при трапезе: на поминках ли, при окончании Торы, или просто в субботний вечер!
У них водка не дает себя пить, им вовсе и не хочется выпить, только страсть побуждает! Бес уговаривает, а те слушаются… Поэтому, едва выпьют, лицо искривляется, душа сжимается, сокращается от боли, кожа стягивается и сморщивается, как пергамента…
А если над водкой прочтешь молитву и пьешь ее во славу Божью, то очищаешь ее… Она дает себя пить и душа наслаждается от питья, ей хочется пить!..
Они хвастаются, что едят благородно!
Ну, поди-ка, обойдись без благородства, когда ты окоченел, застыл, потемнел, как старая, полуобрушившаяся дымовая труба, которая уже давно не видала искорки огневой…
Сидят они поэтому прямо и холодно, словно ледяные: друг друга не терпят, отец с сыном не могут из одной миски есть! Даже солонки ставятся каждому особо… Откуда же может взяться веселье?
Радость заключена в душе, а что душе от того, что тело жрет?
Для этого и созданы были «десятины», и «вдовья часть», и столы для бедных, и обеденные трапезы с молитвой и хвалебным пением.
Им хочется просто веселиться! Без молитвы, без пения гимнов Богу, без доброго, дела при этом, а если приглашают бедняков к обеду, то сажают их за стол в людской…
На кухне-то может быть весело, – а в залах, доложу я вам, мертво, мертво, как на кладбище!
* * *
Я слышу, как вы читаете вслух свои песни…
Луна доставляет вам большое удовольствие… Я ведь слышу: прекрасная, задумчивая, бледнолицая луна, говорите вы… А о звездах и созвездиях вы говорите с восторгом, также и о природе, лесах, полях, реках…
И правда, свежий воздух, в особенности, когда страдаешь легкими, действительно целебное средство! Но восхищаться природой, (и я тоже был когда-то молод), я восхищался перед праздником «Верб»… Пред рассветом – небо серо, – тихо – меж тростников струится река… Пик-пик! – откликается где-то живое существо; тс-тс! – откликается в другом месте… Я брожу себе вдоль берегам режу вербы для праздника…







