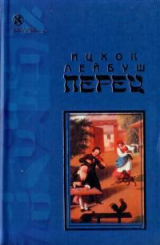
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
– Ведь он, – с ужасом думаю я, – в груду костей ее превратит!..
И я бегу к цадику. А он встречает меня у самой двери с улыбкой:
– Видал ли ты, – говорит он, – «величие Торы»? Настоящее «величие Торы»?
Я успокоился: раз, думаю я, цадик улыбается, значит – хорошо!
И вышло действительно хорошо. В «Шмини-Ацерес»[10] она родила. А назавтра, за столом, Брестский раввин произносил уже нам проповедь. Мне, правда, хотелось сидеть за столом не тут, но – не посмел. Тем более, что без меня не было бы полного миньона и нельзя было бы читать сообща потрапезную молитву.
Словом, о чем мне рассказывать вам? О том, как знает Тору Брестский раввин? Если Тора – океан, то он был Левиафан в океане, – одним движением он мог проплыть десять трактатов, одним движением он проникал, через весь Талмуд со всеми его комментариями. Так и гудит, бьет, кипит, клокочет… Словом, так, как рассказывают про настоящий океан. Он мне всю голову развинтил! Но «сердце знает горе души». Сердце мое все-таки было лишено радостей праздника. Я вспомнил тут про сон цадика – и остолбенел! Солнце светит в окно, вина на столе сколько угодно, все присутствующее, вижу я, обливаются потом, а мне? Мне было холодно, невыносимо холодно! Там, знал я, занимались другой Торой… Там светло и тепло… каждое слово пронизано и пропитано любовью и восторгом… ангелы, чувствуется, летают по комнате; слышишь буквально, как шумят их большие белые крылья… Ах, Творец мира! А уйти нельзя!
Вдруг он, брестский раввин, прерывает проповедь и спрашивает:
– Какой цадик имеется у вас здесь?
– Некий Hoax, – отвечают ему.
И резнуло же меня по сердцу! «Некий Ноах» – ах, льстецы, льстецы!
– Чудотворец? – спрашивает он далее.
– Не слышно что-то… Бабы, правда, рассказывают, но кто их слушает?
– Он так берет деньги, без чудес?..
Тут уже решаются правду сказать: «Берет мало и много раздает».
Брестский раввин задумывается.
– А Тору он знает?
– Говорят – великий ученый.
– Откуда он, этот Hoax?
Никто не знает и отвечать приходится мне. Таким образом, между мной и раввином завязывается разговор:
– Не был ли этот Hoax когда-то в Бресте? – спрашивает он.
– Был ли ребе в Бресте? – бормочу я. – Кажется, да.
– Ага! – говорит он. – Его хасид!..
Мне показалось, что он посмотрел на меня, как на паука.
И тут он обратился к присутствующим:
– У меня когда-то был ученик Hoax… Правда, голова у него была прекрасная, но его все тянуло в сторону. Я сделал ему одно предостережение, другое, собирался уже сделать третье, как он вдруг исчез… Но он ли это?
– Кто может знать?
И он начинает обрисовывать его: худой, маленький, с черной бородкой, с черными вьющимися пейсами, тихим голосом, задумчивый и т. д.
– Возможно, – говорят присутствующие, – что это он и есть – очень похож.
Я уж благодарил Бога, когда приступили к потрапезной молитве.
Но после молитвы произошло нечто такое, что мне и присниться не могло.
Брестский раввин понимается со скамейки, Отзывает меня в сторону и говорит шепотом:
– Веди меня к твоему учителю и моему ученику. Только, слышишь – никто не должен знать про это.
Я, конечно, послушался, но по дороге спрашиваю со страхом:
– Брестский раввин, – говорю я, – с какой целью вы идете к нему?
А он мне запросто отвечает:
– При потрапезной молитве мне пришла в голову мысль, что до сих пор я осуждал заочно… Я хочу видеть, видеть собственными глазами. А может, – прибавил он потом, – Бог мне поможет спасти своего ученика.
– Знаешь, безбожник, – говорит он затем шутливо, – если твой ребе тот же Hoax, что учился у меня, то он может стать великим мужем во Израиле, раввином в Бресте!
* * *
И две горные вершины встретились… И если я остался между ними на месте, то это только чудо небесное!
Бяльский цадик, благословенна память его, посылал своих хасидов в Симхас-Тору[11] гулять за городом, а сам сидел на балкончике, и глядел и радовался на них.
Это была не нынешняя Бяла. Тогда это было лишь маленькое местечко, одни только маленькие деревянные домики, не считая синагоги и бет-гамедраша цадика. Балкончик был на втором этаже, и оттуда все видно было, как на ладони: на востоке – холмы, на западе – река… А цадик сидит и смотрит. Видит нескольких хасидов, идущих молча, и бросает им сверху начало мелодии – они подхватывают ее и продолжают прогулку уже с песней на устах. И группа за группой проходят они мимо, и направляются за город с пением и истинной радостью, – с истинной «радостью Торы». Сам же цадик сидит себе на балкончике.
Но тут цадик, видно, услыхал другие шаги: он поднялся и пошел навстречу Брестскому раввину.
– Шолом-Алейхем, ребе! – сказал он скромно, своим сладким голосом.
– Алейхем-Шолом, Hoax! – ответил Брестский раввин.
– Садитесь, ребе!
Брестский раввин садится, а Бяльский цадик становится перед ним.
– Скажи мне только, Hoax, – говорит раввин, подняв ресницы, – почему ты убежал из моего иешибота? Чего тебе там недоставало?
– Мне, ребе, там недоставало, – отвечает цадик спокойно, – воздуху… Я не мог там дышать…
– Что это значит? Что говоришь ты, Hoax?
– Не мне, – объяснил цадик со спокойной улыбкой, – а моей душе недоставало…
– Почему, Hoax?
– Ваша Тора, ребе, лишь сухой закон. Она – без благодати, без искры милости ваша Тора! А потому она без радости, без воздуха… Одно железо и медь – железные постановления, медные законы… И слишком она недоступная Тора, – для ученых только, для одних избранников…
Брестский раввин молчит, а цадик продолжает:
– А скажите мне, ребе, что вы можете дать всему Израилю? Что у вас есть для дровосека, лесника, для ремесленника, простого еврея?.. В особенности для грешного еврея? Что вы можете дать не ученым?
Брестский раввин молчит, будто не понимает, что тот говорит, а Бяльский цадик по-прежнему стоит перед ним и продолжает своим сладким голосом:
– Простите меня, ребе, но правду я должен сказать: жестка была ваша Тора, жестка и суха, потому что она была лишь телом Торы, а не душой ее!
– Душой? – спрашивает раввин и трет рукой свой высокий лоб.
– Конечно! Ваша Тора, ребе, как я сказал, лишь для избранников, для ученых, но не для всего Израиля, а Тора должна быть для всего Израиля. Святыня должна осенять весь Израиль. Ибо Тора – душа всего Израиля.
– А твоя Тора, Hoax?
– Вы хотите видеть ее, ребе?
– Тору – видеть? – удивляется Брестский раввин.
– Пойдемте, ребе, я вам покажу ее. Я покажу вам блеск ее, радость, льющуюся из нее на всех, на весь Израиль.
Брестский раввин не трогается с места
– Прошу вас, ребе, пойдемте, это недалеко.
Он вывел его на балкончик. Я тихонько пошел за ними.
Цадик почувствовал это:
– Ты можешь пойти с нами, – сказал он, – Шмая, сегодня и ты увидишь… Брестский раввин также увидит… «Радость Торы» увидите вы, увидите истинную «радость Торы!»
И я видел тоже, что и всегда в Симхас-Тору, но видел иначе… Как бы завеса спала с моих глаз.
Бездонное, беспредельное небо, такое голубое, ярко-голубое, чарующее. По небу плыли белые, точно серебряные, облачка, и если всмотреться в них, то можно было видеть, что они буквально дрожали от радости, что они плясали с «радостью Торы». Город обхватывал широкий пояс темной зелени, но эта зелень была такая живая зелень, такая живая, точно сама жизнь витала между травами. Казалось, каждый раз то тут, то там вспыхивают огоньки отрады, упоения жизни… Видно было воочию, как огоньки прыгают и пляшут между былинками… точно обнимаются и целуются с ними…
А на лужайках, усеянных огоньками, группами гуляют хасиды. Атласные и даже ластиковые кафтаны блестят, как зеркало, одинаково блестят, как целые, так и рваные… А огоньки, вырываясь из травы, льнут и цепляются за блестящие праздничные одежды. Казалось, с восторгом, с любовью пляшут огоньки вокруг каждого хасида. И все группы хасидов смотрят с такими жаждущими глазами кверху, к балкончику цадика… И эти жаждущие глаза, я видел воочию, оттуда, с лица цадика, всасывают в себя этот свет, и чем больше они всасывают света, тем громче поют… тем громче и громче… тем веселее и священнее…
Каждая группа пела свою мелодию, но в воздухе все эти мелодии и голоса сливались, и до цадика доходила одна лишь песнь, одна мелодия… Точно все пели один общий гимн… И все кругом поет – и своды небесные поют, и земля снизу поет, и душа вселенной поет, – все, все поет!..
Творец мира! Мне казалось, я растворюсь в блаженстве…
Но мне это не суждено было.
– Пора вечернюю молитву читать, – вдруг резко заявил Брестский раввин. И все исчезло…
Тихо. Завеса опять упала на глаза: наверху обыкновенное небо, внизу – обыкновенные, самые обыкновенные хасиды в порванных кафтанах. Старые бессвязные отрывки мелодии… Огоньки потухли… Гляжу на цадика, и лицо его мрачно…
* * *
Они не сошлись: Брестский раввин миснагид по-прежнему, он с тем уехал.
Но кое-какое действие эта встреча оказала: Брестский раввин уже более не преследовал хасидизма.

Как он открылся,
или рассказ про козла
 ассказал эту историю ребе Нахман субботу вечером, всего несколько недель после того, как он открылся. Открылся он, как всегда водится на белом свете, совершенно случайно: приходит еврей или еврейка, хватает за полу и пристает: им нужен совет относительно заработка, относительно партии для дочери, о трудно родящей, вообще о какой-нибудь болезни…
ассказал эту историю ребе Нахман субботу вечером, всего несколько недель после того, как он открылся. Открылся он, как всегда водится на белом свете, совершенно случайно: приходит еврей или еврейка, хватает за полу и пристает: им нужен совет относительно заработка, относительно партии для дочери, о трудно родящей, вообще о какой-нибудь болезни…
Как отказать еврею! Скажешь слово, и оно как раз оправдывается; раз, другой – и всплывает это наверх, как масло на воде – а затем тянут уже со всех сторон…
То же самое произошло и с ребе Нахманом… Ему разве хотелось отказать кому-нибудь? – И пронюхали, узнали; тихая лампада разгорелась и светит уже на всех улицах!
Конечно, воцарилось в местечке веселье, радость. С одной стороны – горя всегда много, – праведник может пригодиться; с другой стороны – будет заработок, народ начнет стекаться со всех сторон… И, как грибы после дождя, вырастают маленькие чудодействия. И неудивительно: человек никому не отказывает, а всякое слово его – царское слово. И расходится молва по всей округе. По субботам негде яблоку упасть; стол на три комнаты накрывают местные жители, приезжие из окрестных сел и деревень… К столу подают уже вина, фрукты; при этом надо заметить, что в тот год был большой урожай фруктов…
И радость растет со всяким, вновь прибывшим лицом. К ужину, в субботу, из комнат доносится уже такое пение, что даже звезды в небе пляшут от радости! Да будет благословенно, говорят, Его святое имя, – и пускаются в пляс вокруг стола… А он, ребе Нахман, сам виновник торжества, сидит на первом месте – и ничего! К вечерней молитве, на исход субботы, он совсем загрустил, – даже руки стали у него дрожать, вот-вот выпустит из рук бокал с вином… После молитвы забрался в уголок, прочел про себя положенные славословия, и вдруг встал и вышел из комнаты.
Все, понятно, хотят следом за ним пойти; но он обертывается и знаками показывает, что ему это не желательно. Остались; подошли к окну, и видят, как он прошел по базарной площади и направляется за город; идет согбенный, пришибленный, как человек, у которого большое горе на душе.
Печаль овладела всеми.
Одни снова сели за стол, другие принялись ходить взад и вперед по комнате, а некоторые совсем разошлись по домам. Те же, которые остались, хотели затянуть песню, «Элиогу», но как-то не поется; послали за вином, – не пьется, не лезет!
– Что? почему? что недостает такому еврею?
– Куском хлеба, – вставил какой-то грубый голос, – он слава Богу обеспечен!
Взглянули на него, конечно, так, что кровь отхлынула от головы, но вопрос все-таки остается вопросом.
– Когда еврей дошел до такой ступени, – раздаются голоса, – он должен быть преисполнен радости!
Тут же был некто Иошуа, учитель из Парчева, очень набожный еврей, еще из последователей Баал-Шема, добрый, просто без желчи, как говорят, человек, и вот, этот Иошуа разозлился;
– Грусть, – заикаясь, заговорил Иошуа, – он, бедный, был заикой, – что значит г-г-грусть, – когда еврей дошел до такой ступени и может евреям добро делать, переменить, как говорят, – высшее решение… А? Что?
– Ну, да! – соглашаются все. – Разве мало помощи оказал он?
И начинают сказывать про чудеса. Оказывается, что в течение короткого времени ему удалось уже многого добиться… Чудес этих я вам рассказывать не стану, все это ничто, в сравнение с тем, что потом было… Но чудо с козой я должен вам рассказать, – ибо оно лучше всего доказывает его смирение, доброту его сердца.
Жила в местечке старая еврейка, из простых, вдова чуть ли не портного. У этой вдовы была коза, единственное ее достояние. Вся коза и понюшки табака не стоила, но старая женщина кормилась этой козой. У старушки этой руки стали дрожать от старости, не про вас будь сказано, и она не могла ее доить; проливала и то небольшое количество молока, которое давала коза. Она возьми и поплетись к ребе Нахману: так и так, коза у нее невоспитанная, никакого почтения не имеет к старой еврейке, и не дает себя доить спокойно… Он ее выслушал, улыбаясь, и сказал:
– Ступай домой, милая женщина, все будет по-хорошему,
И у нее было по-хорошему… А именно? Руки у нее не перестали дрожать, – глубокая, ветхая старушка, лет за восемьдесят, а то, может, и больше, – но коза стала совершенно другой, сама в свое время стала приходить к старушке, становилась с приподнятой ногой и так оставалась, пока не отдаст до последней капли молока.
После чуда с козой, кто-то хочет рассказать другую историю; он начинает, но вдруг из противоположного окна раздается голос:
– Еще раз с доброй неделей вас, евреи!
Это голос ребе.
Все бросаются к окошку. И что же? Ребе Нахман стоит, облокотившись на подоконник, охватив голову руками; глаза блестят странным блеском, но радости в них все нет как нет.
– Я кое-что расскажу вам, – начал он, – чтобы вас не поражало…
Хотели ему стул подать, он не позволяет: он хочет стоять; выбежал народ и окружил его. Он стоит у окна, а там, наверху, над ним, поднимается луна, венец над его головой… И стоя так, он рассказал про козла, о сути «откровения».
– Однажды, – начал он, и голос его был пропитан грустью, – жил-был козел.
Козел, как козел… А может, и нет… Никто его не мерил… Никто его не знал.
Ибо любил он одиночество; он никогда не показывался на людях… Был, может быть, первенцем, а может быть, и нет…
Где-то за городом были старые развалины… остатки величия времен стародавних. Поговаривали, и, очевидно, это правда была, что это были развалины старой синагоги или молитвенного дома… Когда-то здесь молились, изучали Тору, и, быть может, когда был разрушен этот храм Божий, кто-нибудь и погиб за веру свою… Дела давно минувших дней… Теперь же на месте этой развалины растет трава… Божья травка; никто ее не сеет, никто ее не жнет.
Вот в этой-то развалине и жил козел, и ел эту травку…
На таких развалинах, как известно, растет особенная трава – средство для ращения рогов… От такой травы они растут быстро, быстро… И еще одним свойством обладает трава эта: рога, которые вырастают, благодаря ей, живые рога: их можно свернуть и спрятать, выпустить и раскрыть.
Когда они свернуты, – ничего! Лежат они спокойно, и никто не знает об их существовании… А выпрямятся они, то, может, – до самого неба.
И козел этот был большой отшельник, щепетильный отшельник: другую траву отвергал, не брал ни одной травинки, только траву развалин… и не со всех развалин…
Он был знатоком трав и выбирал самую лучшую и самую пышную, как по вкусу, так и по аромату… И он был тонким знатоком травы. Вот эта травка, чувствовал он, растет на месте Торы, эта на месте молитв, а та выросла на крови, на еврейской крови, пролитой во святое Имя Его… И такой он главным образом и искал…
И рога его росли и росли… И рога у него были спрятаны, отшельник он был скрытный… Только в полночь, когда все местечко, бывало, спит, а набожные евреи сидят в молитвенных домах и читают полуночную молитву, когда сквозь окна молитвенных домов вырывается стон песни «На реках Вавилонских» и разливается в пространстве между небом и землей, – тогда-то козлом овладевала тоска… И он встает, бывало, на задние ноги, выпрямляет свои рога, вытягивается, насколько возможно, и если при этом еще бывает первая четверть луны, недавно освященной молитвой, то он концами своих рогов зацепляет ее край и спрашивает:
– Что слышно там, освященная луна? Еще не время придти Мессии?
И луна повторяет этот вопрос звездам, а звезды содрогаются и останавливают свой бег. И воцаряется тишина. Тихой становится ночь, песнь ее обрывается…
А там, наверху, перед престолом Предвечного, удивляются, почему это не слышно песни ночи. И посылают проведать, что такое случилось. И посланный приходит с ответом, что луна и звезды остановились и спрашивают, не наступил ли уже час освобождения…
И вздох раздается у престола Предвечного…
А это может иметь свое действие…
* * *
На этом голос ребе Нахмана оборвался…
Он закрывает лицо руками, и видно, как голова и руки дрожат у него, и луна, что там, наверху, остановилась, как венец над его головой, и тоже будто дрожит… И только минуту спустя он поднял голову, показалось его бледное лицо, и со странно дрожащим голосом он продолжал:
– И то, – говорил он, – что он здесь остался, тоже было великой милостью с его стороны…
Другой на его месте, будь у него такие рога, задевал бы луну, подскочил бы… и прямо в небо, живым бы в рай… Ему-то что?
Но он милостив; ему жалко общины; не хочется покинуть ее… От поры до времени бывают голодные годы, община беднеет, женщины продают свои наряды, мужчины – парчу с талесов… Лампады, подсвечники, праздничное и субботнее платье – все уходит к ростовщикам… И становится все хуже и хуже… Детей забирают из хедера; нечем за учение платить… Бьются люди, как рыба об лед, появляются тяжелые болезни, наступает голод, – и тогда он должен придти помочь!
Есть на небе «млечный путь», так астрономы называют белые пятна, разбросанные там и сям по небу… Но это не путь… Никто по нему не ходит и не ездит…
Это – поля, огромные-огромные поля, усеянные драгоценными камнями, алмазами и жемчугом, без меры и без числа – драгоценными камнями для венцов праведникам в раю… Никто их не считает и никто их не мерит, – как песок морской!
Они все растут и растут, эти драгоценные камни, их становится все больше, а праведников – все меньше – пусть себе растут! И поля ширятся все больше и дальше.
И когда чаша скорби переполняется, а Всевышний неумолим, тогда обладатель живых рогов – в тихую полночь, когда все местечко объято сном, и из молитвенных домов доносятся голоса, оплакивающие свое изгнание – отправляется и, став на задние ноги, выпрямляет рога свои, закидывает кончики их в млечный путь, задевает его и, вырвав оттуда драгоценный камень, бросает его на середину базарной площади; и этот камень рассыпается на тысячи мелких кусочков.
И евреи, возвращаясь домой после полуночной молитвы и видя, как вся базарная площадь сверкает драгоценными камнями; находят их – на время хлеб обеспечен…
Вот почему он не может подняться на небо.
* * *
И снова обрывается голос его, но через минуту он продолжает:
– И жалость погубила его.
Благодаря его доброте, его открыли; не его – а рога…
И из-за пустяка, из-за нюхания табака…
И дивно стал звучать голос ребе под самый конец рассказа, и трудно было разобрать, смеется ли он или плачет.
– Из-за нюхания табака, – сказал он. – Вошло в обычай нюхать табак… Светло в глазах становится. Ну, когда нюхают табак, требуется табакерка… Ищет еврей кусок рога, находит среди мусора и делает себе из него табакерку… Идет другой, встречает козу или корову и просить дать ему кусочек рога, – и в ответ получает удар в бок… Случилось, встретил еврей козла возле развалин и просит его:
– Дорогой мой, у тебя столько рога, подари мне кусочек на табакерку!..
Тот не может отказать – и еврей отрезал кусочек… Приходит еврей в синагогу и угощает табачком. Спрашивают у него, где он раздобыл такой хороший рог. Еврей рассказал…
И пошли все, от мала до велика, просить… Все, кто только нюхает табак… А он не может отказать… Перед каждым сгибает голову, и все срезают рог на табакерки.
Кто ни придет, перед каждым сгибает голову: на, режь… И рог его входит в славу… Из окрестностей приходят за рогом… Со всех концов, где только евреи живут, придут… И будут табакерки и тавлинки… Зато не будет чем уцепиться за луну и спросить о пришествии Мессии… Даже драгоценный камень нечем будет сбросить…
Он оборвал, отвернулся от всех и ушел…
И в ту же минуту туча закрыла собою луну, грусть и даже страх какой-то объял всех…
Но, как известно, все обошлось благополучно.

Сказания ребе Нахмана
(Блуждание по пустыне)
1. Зачем и когда ребе Нахман сказывал сказания
 вои сказания ребе Нахман сказывал на исходе субботы, после вечерних молитв.
вои сказания ребе Нахман сказывал на исходе субботы, после вечерних молитв.
Должны вы знать, что целью их было, во-первых, раскрывать тайны Писания, поддающиеся объяснению лишь посредством притчи, а во-вторых, – разогнать печаль, грусть и тоску по субботе и «избытки души», уходящих на целую неделю. Пряности, говаривал он, услаждают своим запахом тело, сказания – душу, осиротелую, будничную душу.
Потому что наша тоска по «избытку души» не поддается сравнению. Он бывало говорит, имей еврей целую неделю «избыток души», он имел бы также надежду, а, как следствие этого, – хлеб.
Голос, которым он сказывал свои сказания, менялся в зависимости от содержания. Он сначала звучал печально, как поминальная молитва, но мог подняться до радости «Аллилуя» и далее достигнуть такой святой силы, как в «Да возвеличится»…
Но сказание о своем блуждании в пустыне он и начал и кончил печально…
Потому что этот вечер был необыкновенный, как необыкновенна была предшествовавшая ему суббота.
Весь почти день мы, почти напрасно, боролись с охватывавшей нас печалью… Во-первых, сход был невелик, как по качеству, так и по количеству, – уже разгорался тогда спор между ребе Нахманом и прочими цадиками, и народ, немного испуганный, держался в стороне, – что давало ощущение, упаси Боже, разгрома. «Мои воины, – сказал ребе Нахман, – еще пороха не нюхали». Во-вторых, сам день был насыщен грустью.
С утра, казалось, будто все сносно: чуть прохладно, но все же солнце. Показалось несколько туч, но поднявшийся ветерок разорвал их на клочья и полоски и отогнал от солнца. «Се нас утешит», сказал ребе Нахман, указывая на солнце. Но наши чаяния не оправдались: клочья и полоски вновь соединились, и к утренней молитве все небо же заволоклось точно занавесом, как позднею осенью. Ветер не одолел, и с горя заплакал. Мы за столом поем славословия, а ветер на улице воет, и стекла окон вторят ему, и так грустно, что нас и самих потянуло к скучным напевам…
Под вечер – как сейчас помню – ветер улегся, и полил дождь ведром, потоп, упаси Боже! И он лил и лил, без конца, ни приходящих, ни уходящих, и мы густой толпой стояли в комнате ребе…
Сейчас же после вечерних молитв ребе Нахман закурил свою трубку. Как известно, курение представляло для ребе Нахмана вид подвижничества. Он никогда не курил ради своего удовольствия или здоровья, а лишь для духовного постижения. Я слыхал об этом из его святых уст. Но тогда все воочию видели, что он курением своим с кем-то воюет, борется; кольца исходили из его уст, как «стрелы из рук богатыря».
Как я говорил, нельзя было ни придти, ни уйти, мы стоим толпой, а ребе Нахман сидит посреди нас, в самой середине, в обитом красным бархатом кресле – подарок данцигского купца – и курит. И чем дольше он курил, тем меньше становилась печаль, и его святые очи уже стали блестеть и искриться, как всегда, и из них выглянули и просияли твердая воля и истинная сила великого праведника, убежденного, что в конце-то концов он победит! Что он все же вождь поколения, глава народа, вовсе не имеющий желания выпустить власть из рук…
Заметив это, весь народ кругом, точно сговорившись, закурил во всю мочь! Дым «кадильный» подымался и подымался, и глаза ребе Нахмана засияли, как звезды…
Свечи в подсвечниках и люстрах пожелтили и потускнели со стыда, в дыму исчез потолок, и народ почуял над собою открытое небо… И над головами ощутили взмахи крыльев, и все знали, что это шумят крылья ангелов, прилетевших пополнить недостаток в народе, что они ждут и тоскуют, как и мы, по сказанию ребе. И он начал…
2. О блуждании
– Однажды, – тихо заговорил он, – я блуждал…
И прибавил, что это было не в первый и не в последний раз. И люди, более великие, нежели я, – сказал он, – блуждали! Его кротость несравненна!.. И неудивительно.
Кто более велик, нежели Моисей?
А Моисей ударил по камню…
Разве Моисей не знал, что камень живет, что он также чувствует боль?
Разве Моисей не постиг писанного, что «камень из стены закричит?» Не знал, что часто человек в пути про все забывает, и лишь камень, булыжник, или далее простой памятник заставляет его вспомнить?
Но он блуждал! Дух святой оставил его на мгновение, и он блуждал!
И кто не блуждает?
Разве миснагид?
То есть: и тот также блуждает, но не по своему намерению, и – не на свой страх!
Тот блуждает по намерению какой-либо книги, |на риск какого-либо авторитета!
Никогда – на свой! Он идет по проторенной дороге, проложенной ногами предков!
И если он заблудится в пути, то «отцы согрешили» – те, что путь прокладывали!
Он сам не отважился бы!
Но кроме этих – все блуждают!
Человек ходит по улице с кружкой, собирая милостыню на доброе дело. Богатый еврей сидит в полупраздничный день, в Пурим или Хануку, с кошелем и оделяет вдов, сирот и убогих… Кантор, стоя у амвона, с воплями молит за пославших его! Наш брат иногда углубится в сказания каббалы и творит чудеса… А в самом деле это вовсе не человек, а лишь тень его, а сам он, человек, блуждает, избави нас Господь, в пустыне… В безлюдном месте, без путей и дорог, без воды, а иногда, без неба над головою…
Бывает, человек веселится: открывает новое в Писании и наслаждается этим; держит в руке факел, горящий факел, или яркую свечу – ведет под венец своих, или чужих бедных детей… Или гордо читает пред народом молитву! Или даже жертвует собою и идет на мученическую смерть во славу Господню!..
И все это совершает тело, а душа блуждает в эту пору где-то за черными горами…
Испуганная, усталая, измученная, вздрагивая от холода…
3. Сущность «Блуждания в пустыне»
– Итак, – вздохнул ребе Нахман, – я заблудился… И когда?
При утренней молитве, на слови «Един». Я глубоко вдумался в это слово, и мыслил право, но занесло меня влево, в пустыню…
А знаете, каково блуждать в пустыне?
Блуждают тысячи тысяч, и один другого не слышит, так как каждый блуждает своим путем… Всегда в одиночестве, оставленный, забытый миром.
Случается, что два пути недалеки, и на одном слышится стон разбитой души с другого, или на один путь ложится с другого тень изломанного человека… Думаешь: дикий зверь кричал, тень звериная легла на дорогу, и убегаешь!
Если и чувствуется небо над головою, то оно холодное, смотрит на тебя холодными очами своих звезд и планет. «Не мое, мол, дело… Эка важность, человек блуждает!» Чувствуешь иногда даже скрытую насмешку над твоим убожеством. Будто звезды говорят: «Мы не блуждаем! Мы своей дорогой идем… Мы не ищем сокровенных смыслов! Нам приказано идти, идем; приказано светить – светим!» – Настоящие миснагиды!
А в одиночестве чувствуешь себя таким осиротелым, таким забитым, таким оставленным, что не хочется даже поднять глаза к небу!.. Смотришь себе под ноги; на песок, что катается под ногами, на кладбище высохших кустов и листьев, сгоревших раньше времени…
И, может быть, я заблудился бы до преисподней, если бы не сомнение. Я вдруг подумал: Быть может? Быть может, бродить в одиночества не след, не путь?.. А вдруг, мир вовсе не пустыня, жизнь вовсе не песок?
И в этом сказывается различие между кем-либо из нас и миснагидом.
У миснагида не бывает сомнений: проторенные дороги!
Он не ищет сокровенного и не блуждает. Приказано молиться – он молится, изучать Закон – изучает, соблюдать заповеди – он соблюдает… Зато уж, если какой-либо миснагид заблудится, то до скончания веков! И остается… в пустыне!..
Путь по песку труден, он остановится, садится, вынет молитвенник и молится, вынет книгу духовную и зачитает… И остается там сидеть. Ветер порошит песком в лицо, он закроет лицо молитвенником, книгою… А ветер свое делает: заносит и хоронит его в песке…
А обретаясь вне «стана», он не услышит даже гласа трубы Мессианской… А ангел, – воскреситель мертвых, не пойдет искать его в пустыню, в пески. Предается забвению миснагид.
Я же ходил, не присаживаясь… И чем дольше; чем быстрее я ходил, тем яснее мне становилось, что я блуждаю, что не там мое место, что следует выбраться из песка. С опухшими ногами бежал я… Все дальше… все дальше… И небо стало взглядывать на меня с милосердием, как на ищущего спасения… Время от времени звездочка сжалится надо мною и, жертвуя собой, упадет с высоты и, падая, разгорится, чтобы показать мне путь из пустыни…
Но не так легко это достигается…
И не всегда можно в небо смотреть. Часто небо закрыто, замкнуто, и пред тобою лишь песок да песок, а в душе, – песчаные мысли…
И со временем прежние мысли, думы о людях, вылетают из твоей головы, как белые голуби из голубятни… И нечем тебе их назад приманить, и голоса нет, чтоб просить их, звать их назад. И остаются у тебя лишь мысли пустынные, думы о песке и всем, что связано с песком!
С ума можно сойти! Ведь, если человек знает лишь: «Хлеб да хлеб», – это сумасшествие, тем паче, – «Песок да песок!»
Я думаю, например:
– Здесь вероятно было море; потому что песок создан был для морских берегов…
– Песок кругл, как яйцо, и так же катится, как судьба человеческая.
– И евреи подобны песку… Сухие, жесткие, сыпучие зернышки, нечем им прилепиться друг к другу.
– И нас было бы столько же, сколько песку в пустыни, если бы не гонения и муки…
И судьба песка такая же: стояли некогда скалы у моря, море их подмыло, сокрушило, низвергло в кипящие бездны свои, и разбило их, и измололо, превратило в песок.
И много еще говорил он о песке и о блуждании по пескам, пока не перешел к самому сказанию.
4. Стая птиц, и что рассказывал царь этих птиц
Уж приближалось время моего избавления, когда я увидал стаю птиц.
Стая имела вид треугольника, занимала много миль и двигалась впереди меня по пустыни.
Сзади длинный ряд птиц, в милю длиною, чем дальше, тем уже становились ряды, пока у вершины не сходились в одной птице, главе стаи, птичьем царе…
И я восхвалил Господа, давшего мне увидеть что-либо, кроме песка; и сейчас у меня появились новые мысли:
Почему стая треугольна?
И я скоро понял почему:
По закону и по справедливости все должны быть равны, все ряды должны быть равны, и стая должна представлять четырехугольник, квадрат. Но те, что составляют ряды, не равны между собою, и поэтому, чем кто выше, тем уже его ряд, тем меньше у него товарищей; тем большее число движется позади него, и тем меньшее, – впереди него… И так до царя, шествующего впереди всех, и равноценного поэтому всем остальным, вместе взятым…







