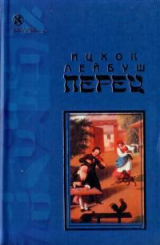
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Только Шпринце, бедная, лежит в земле. Жалко Шпринце.
– Как только прекратились откупа, она стала на себя не похожа. И то сказать, до того, как я приучился к своему теперешнему занятию посыльного, раньше, чем я научился говорить помещику: «ясновельможный пане», вместо «ваше благородие», и мне стали доверять и деньги, и документы, пришлось порядком таки поголодать…
Ну, я, мужчина, бывший кантонист, мог и не поесть денек-другой. Ей же, бедняжке, это стоило жизни. Глупая женщина, чуть что, она теряет силы, под конец она и браниться не могла уже, как следует; куда девалась вся ее прыть! Она только и умела, что плакать.
Это отравляло мне жизнь. Не знаю почему, она стала вдруг бояться меня. А когда она боится, я начинаю куражиться, кричу и бранюсь. Кричу я ей: «Почему жрать не идешь ты?» Иногда она доводила меня до бешенства, до того, что я чуть ли не с кулаками набрасывался на нее.
Но как бить плачущую женщину, когда она сидит сложа руки и с места не двинется? Только я побегу с кулаками и поплюю на них… а она говорит мне: «Поешь ты раньше, а я после поем.» И я принужден был сперва сам поесть хлеба, а ей предоставить остатки…
Иногда она для отвода глаз усылала меня куда-нибудь на улицу: иди, я без тебя поем, – может быть, ты заработаешь что-нибудь, и при этом старается улыбнуться и даже приласкаться иногда.
А когда я возвращался, то находил хлеб почти нетронутым.
Она старалась, бывало, уверить меня, будто не может есть сухого хлеба и будто ей нужна каша.
Он опускает голову, точно на него навалили тяжелую ношу, и грустные мысли, одна другой быстрее проносятся в его голове.
И какой рев подняла она, когда я хотел заложить свой субботний кафтан – тот, что теперь на мне. Ужас, что она вытворяла и со всех ног побежала заложить свои медные субботние подсвечники.
И до самой своей смерти она молилась уже над свечами, вставленными в картофель… Перед смертью она призналась мне, что никогда не хотела развода и что говорила это только со злости.
– Язык мой, язык мой! – вопила она, – Боже милосердный, прости мне мой язык.
И она так и умерла в страхе, что ее на том свете повесят за язык.
– Бог, – говорила она, – не будет милосерд ко мне; чересчур уж много грешила я. Только когда ты придешь туда, – не скоро, Боже упаси, а через сто двадцать лет, поскорей сними меня с виселицы. Скажи Всевышнему, что ты простил меня…
Она уже почти потеряла сознание, как вдруг стала звать детей. Ей казалось, что они здесь, около нее, и она стала просить и у них прощения.
Глупая женщина, как будто кто-нибудь не простил ее.
Сколько ей было всего? Лет пятьдесят! Умерла такой молодой! Шутка сказать, когда человек все так близко принимает к сердцу. Когда уносилось что-нибудь из дому – ей казалось, что уносят часть ее собственного тела, половину ее здоровья.
Что ни день, она становилась все желтее и зеленее, и как-то вся высохла и ростом стала меньше.
Она говорила, что чувствует, как у нее мозг в костях высыхает…
Она знала, что умирает.
Как она любила дом со всем, что в нем находилось! Что бы ни уносили – стул, железную сковороду, что бы то ни было, она обливала все это горькими слезами. С каждой вещью она прощалась, как мать с ребенком, чего вам больше – обнимала и чуть ли не целовала их… «О, говорила она, когда я умру, вас уже не будет в доме».
Что говорить, женщина всегда останется дурой… То она казак в юбке, а чуть что становится настоящим ребенком. Подумаешь, не всели равно, когда умираешь со стулом или без стула!..
– Фу! – прерывает он сам себя. – Что только не приходит мне в голову… Из-за пустяков я зашагал совсем медленно.
– Ну, солдатские ноги, живее ступайте! – командует он.
Он оглядывается. Вокруг него сплошной снег. Наверху – серое небо, испещренное черными заплатами. – Совсем как моя нижняя бекета! – думает он. – Неужели, Великий Боже, и у тебя нет кредита в лавке?..
Меж тем мороз усиливается. Борода и усы превратились в сосульки. Дышать стало как будто легче, но голова горячая, на лбу выступили капли пота, и ноги что ни шаг все больше устают и зябнут. Ему хочется присесть, но он стыдится самого себя. Первый раз в жизни у него является потребность отдохнуть на таком небольшом пути – в две мили. Он не хочет сознаться, что ему уже за семьдесят и пора бы совсем на отдых.
Но нет. Он должен идти. Идти не останавливаясь… Пока идешь – ноги несут тебя, но стоит поддаться искушению и присесть, – и ты уже никуда не годен.
– Так и простудиться можно, – стращает он сам себя, всячески стараясь побороть в себе сильное желание отдохнуть.
– Недалеко уже и до деревни, успею и там отдохнуть.
– Непременно надо будет отдохнуть. Я пойду не прямо к помещику… его приходится целый час прождать на дворе… пойду сперва к еврею.
– Хорошо еще, – думает он, – что я не боюсь помещичьих собак; но ночью, когда спускают Бурого, все-таки становится опасно; у меня хотя с собою мой ужин, а Бурый любит сыр, но все же лучше раньше дать отдых своим костям. Сперва я зайду к еврею; погреюсь немного, помою руки, перекушу чего-нибудь…
И у него текут слюнки; он с самого утра ничего не ел. Но это пустяки, его не беспокоит то, что он голоден, это доставляет ему даже удовольствие: если человек голоден, это признак, что он живет… Но ноги!..
Ему осталось пройти всего каких-нибудь две версты; он различает уже в темноте большие сараи помещика… но ноги – они ничего не видят, они все-таки требуют отдыха…
– С другой стороны, – думает он, – что, если я и отдохну немножко? Одну минутку, полминутки! Может быть, и в самом деле отдохнуть? Попробую. Так долго слушались меня мои ноги, послушаюсь и я их хоть раз.
И Шмерль садится в сторонке на снежный сугроб. Теперь только он слышит, как сильно бьется его сердце, как сильно колет в боку, и чувствует, что холодный пот выступил у него на лбу…
Ему становится страшно… Не заболевает ли он? При нем чужие деньги! Он может еще, Боже упаси, потерять сознание… Слава Богу, – утешает он себя, что никого не видно! А даже если бы и проходил кто-нибудь, ему и в голову не придет, что у меня деньги. Курам на смех – кому деньги доверяют!..
Чуточку только посидеть, а потом – валяй дальше!
Но глаза его слипаются.
– Ну, вставай, Шмерль, вставай! – командует он. Командовать он еще может, но не так-то легко выполнить. Он не в состоянии и пошевельнуться. Но ему кажется, что он идет, идет все быстрее… Он уже видит перед собою деревенские избушки: здесь живет Антек, там Василий, он всех их знает, нанимает у них подводы… К еврею еще далеко, но лучше пойти к еврею… там иногда и «мзумене»[32] застать можно. И ему кажется, что он идет к домику еврея; но домик отодвигается все дальше и дальше… Должно быть, так и надо… В печке горит веселый огонь, окошко светится красным, веселым светом… Вероятно, толстая Мирль варит большой горшок картофеля, – она постоянно угощает его картофелем, горячим, рассыпчатым картофелем!.. И он – кажется ему – подвигается дальше.
Мороз немного спал. Снег начинает падать большими, пушистыми хлопьями.
Морозу, по-видимому, тоже стало теплее в его снежной ризе… И кажется Шмерлю, что он уже в комнате у еврея. Мирль отцеживает картофель, он слышит, как журчит вода… Вода струится и с его ластикового кафтана… Иона расхаживает по комнате и тихо напевает какую-то песенку. Привычка у него такая – напевать после поздней вечерней молитвы, потому что тогда он голоден и ежеминутно понукает жену: «Ну, Мирль!»
Но Мирль не торопится, – исподоволь работается приятнее.
«Сплю ли я и мне снится все это?» Эта мысль сменяется вдруг приятным удивлением: ему кажется, что дверь отворяется, и входит его старший сын… Хоно! Хоно! О, он узнает его! Но как он попал сюда? Хоно не узнает отца и притворяется, будто ничего не знает… Вот тебе и раз! Он рассказывает Ионе, что идет к отцу… расспрашивает об отце… он не забыл отца! А Иона хитрит и не говорит ему, что отец сидит тут же на скамье!.. Мирль занята, она суетится у печи, ей не до разговоров, – она растирает картофель большой деревянной ложкой и весело улыбается!
– О, Хоно, должно быть, разбогател, сильно разбогател! Все на нем новенькое… И цепочка!.. Может быть, она поддельная? Нет, наверное из чистого золота. Хоно не станет носить поддельной цепочки, Боже упаси…
– Ха, ха, ха! – Он бросает взгляд на печку. – Ха, ха, ха! – Он чуть не надрывается со смеху. Иекель, Берель, Захария… Все трое… Ха, ха, ха! Они спрятались на печке… ах, жулики!.. Ха, ха, ха!.. Жалко Шпринце, жалко! Хорошо было бы, если бы и она дождалась этой радости… Меж тем Хоно заказывает к ужину пару гусей… «Хоно, Хоно, ты не узнаешь меня?. Ведь это я!..» И ему кажется, будто он целуется со своим сыном…
– Слышишь Хоно, жаль матери, жаль, что она не видит тебя… Иекель, Берл, Захария, долой с печки! Я вас сразу же узнал. Слезайте же, я знал, что вы придете. Доказательство налицо, – я принес вам сыр, настоящей овечий сыр!.. Взгляните-ка, ну, дети! Вы, помнится мне, любили солдатский хлеб! Что, не правда?.. разве!..
Да, жалко мать!
И кажется ему, что все четыре сына окружили его, целуют, крепко прижимают к себе.
– «Вольно», детки! «Вольно»! Не прижимайте меня так сильно! Я уже не молодой человек, восьмой десяток уже пошел… – «Вольно»!.. вы душите меня, вольно, детки мои!.. Старые кости!.. Осторожно! у меня деньги в кармане! Слава Богу, мне доверяют деньги!. Довольно, детки, довольно!..
Довольно…
Он замерз, – с рукой, прижатой к боковому карману…
Утро в подвале
 тарый Менаше едва кончил полуночную молитву и несколько псалмов на придачу, когда бледный летний рассвет смотрел уже в подвальное окошечко.
тарый Менаше едва кончил полуночную молитву и несколько псалмов на придачу, когда бледный летний рассвет смотрел уже в подвальное окошечко.
Печальными, усталыми глазами смотрит Менаше на новорожденный день. Хрустнув своими худыми пальцами, он закрывает псалтырь, тушит маленькую керосиновую лампочку и подходит к окну. Он глядит на узкую полоску неба, бледнеющую наверху, над тесным переулком, и на его обрамленном серебристой бородой и пейсами зеленоватом, сморщенном лице показывается бледная тень печальной улыбки.
– Отдал, – думает он, – свой долг, большое Тебе спасибо, Творец мира!
– И зачем, – вздыхает он, – я Тебе нужен здесь, Творец мира? Тебе нужна еще одна молитва, еще один псалом… а? Тебе мало!
Он отворачивается от окна и думает, что по его разумению было бы лучше, если б в его кровати спала его внучка Ривке, а то вот валяется она на полу, среди хлама, которым торгует его сын Хаим По его совести, совести человеческой, было бы гораздо справедливее, если б стакан молока, которым он живет чуть ли не целый день, выпивала Соре, его сноха, с утра до вечера бегающая по базару, не съедая и ложки супа за день. Янкелю, новому отпрыску семьи, это молоко тоже не повредило бы…
Правда, ему, старику, мало нужно, но ведь семье было бы легче, если бы ему ничего не нужно было… Хаим весь обносился… Старшая внучка, Ханэ, больная, малокровная… Врач говорить: «Девичья немочь»… прописал железные капли, рыбий жир… немного вина… Копят для нее в отдельном узелочке, уж месяцы копят – и все мало. Бедная Ханэ не растет; не растет и ум ее, стоит на одном месте… Ей уже семнадцать лет, а понимает столько же, сколько двенадцатилетняя.
– Творец мира, зачем Ты меня взвалил им на плечи?..
Он прислушивается, как резко и отрывисто дышит во сне Хаим. Он видит, как костлявая рука Соре, только что, видно, качавшей ребенка, устало свешивается с кровати…
Он замечает, что Янкель ворочается в колыбели. «Скоро раскричится и разбудит мать!» И торопливыми, частыми шагами подбегает он к внуку и начинает качать колыбельку.
– А может, – думает он, поворачиваясь к окну, – Ты хочешь, Боже, чтобы я дождался радости от Янкеле, чтобы я учил его молитвам, научил читать… а?
* * *
Точно румяное яблочко, цветут щечки Янкеле во сне. Сладкая улыбка блуждает вокруг маленьких губок… они то раскрываются, то закрываются опять. «Обжора, сосал бы и во сне!»
Тут старик замечает, что Ривке мечется на постели.
Она лежит на сеннике, прикрывшись до груди грязной, усеянной черными пятнышками простыней. Что у нее под головой – не видно.
Покрытое нежным румянцем лицо, белая, как алебастр, длинная, выточенная шея кокетливо шевелятся на фоне спутанных ярко-рыжих волос, покрывших все изголовье и концами своими (дрожащими при каждом дыхании девушки) достигающих до полу.
– Вылитая покойница моя… – думает старик, – горячая кровь… сны… Храни Бог ее на долгие годы!..
– Ривке! – подходит он к ней и дотрагивается до ее обнаженной руки, высунувшейся из-под простыни.
– Что? А? – пугается Ривке, широко раскрывая свои большие голубые глаза.
– Ш… ш… – успокаивает он ее, улыбаясь, – я это… иди на мою постель.
– А, ты, дедушка? – спрашивает она с широким, здоровым зевком.
– Я уж спать не буду… не спится в мои годы… я приготовлю чай. Ты ведь слышала вечером, – они встанут рано; у отца есть дело в городе, а маме нужно закупить на помолвку у Пимсенгольц.
– Я, дедушка, приготовлю чай.
– Нет, Ривке… ты иди на мою постель… Можешь еще долго поспать… Ты сегодня, говорила мать, на фабрику не пойдешь… ты ей нужна будешь… выспись-таки…
– А-а! – еще громче зевает Ривке. Она уже все вспомнила.
Отец пришел вчера с радостной вестью: Бог послал ему порядочное количество старья.
Мама также принесла новость: у Пимсенгольц, для которых она закупает, будет, наконец, помолвка, хотя невеста не совсем еще довольна: ей-таки достанется, а помолвка будет.
Особенного удовольствия эта весть Ривке не обещает: она, правда, выспится, и ходить с матерью на базар, конечно, приятнее, чем работать на фабрике, но потом – таскать корзинки с яйцами и курами и, особенно, гнаться за убежавшей курицей, – занятие не из приятных.
Но ничего не поделаешь.
Она закутывается в простыню и перепрыгивает в кровать старика.
Этот прыжок опять доставляет старику удовольствие: «Вылитая старуха моя!»…
* * *
Пока старик развел огонь, пока он наколол несколько тоненьких лучинок, разложил их под плитой, обсыпал мелким каменным углем («Дорог уголь», – подумал он при этом), облил их керосином и поставил на конфорку старый, покрытый красноватой ржавчиной жестяной чайник, – Соре успела уже дать Янкеле грудь, выразив при этом желание дожить до тех пор, когда Янкеле будет читать молитву над молоком…
Бледная Ханэ тоже проснулась и села в своей кровати.
Из-за спины матери она играет со своим маленьким братишкой в «ку-ку!».
Обрамленное густыми, пепельно-серыми, растрепанными волосами, ее маленькое личико, с бледными щечками и мечтательными глазами, показывается то справа, то слева Однако, ее движения слишком медленны, улыбка на лице слишком бледна, и взгляд слишком неподвижен, чтобы игра эта могла уже рано поутру оторвать «Янкеле-обжору» (так звали его дома) от груди.
Он сильно занят: он смотрит на сестру, но ему некогда заняться ею.
Одну ручку он держит под боком, на котором он лежит на коленях матери, другой отгибает край ее открытой на груди рубахи, чтоб не падал ему в лицо, и смотрит на свою сестру спокойно и равнодушно, – она от него не уйдет…
Хаим облачился уже в талес и филактерии и молится, шагая по комнате.
Он часто останавливается, бросает взгляд на Соре, хочет ей что-то сказать, но тут же взглянет на старика и опять начинает шагать.
Старика он боится.
Старик думает, что теперь еще прежние, добрые времена, когда еврей мог помолиться, как следует, слово за словом читать по молитвеннику… Теперь на одну пару поношенных штанов семь торговцев! Он, правда, принял вчера меры предосторожности; – условился за шесть рублей без пяти копеек, оставил задатка семь злотых и двенадцать грошей… уходя дал три копейки дворнику, чтоб тот до его прихода не впустил во двор ни одного старьевщика… Однако, он неспокоен. Кто знает… пока он достанет компаньона!
Он пьет уже чай, держа стакан на ладони и дуя на него перед каждым глотком, и не знает еще, что предпринять.
Трудно достать компаньона!
К кому обратиться? к процентщику? – он с него кожу сдерет! К лавочнику? – этот последний грош у него вырвет!..
А если уж удастся достать компаньона, так ведь придется отдать ему половину барыша, хотя торговался он один.
По временам он достает у Соре несколько злотых, но сегодня – куда! еще вчера она сказала ему, что ей не хватит денег на закупки!
А, может, она все-таки поверит ему на один день из узелочка Ханэ?
Он боится, однако, сделать попытку… он уж не раз пытался и потом лишь каялся.
Он еще раз бросает взгляд на Соре, и ему кажется, что момент как раз подходящий.
Она уж положила Янкеле обратно в колыбельку. Стоя возле него, она одевается и улыбается такой доброй улыбкой, что – авось выгорит…
– Я думал ночью, – делает он попытку, – покупка очень удачная. Я, слава Богу, заработаю…
– Дай Бог, – отвечает Соре, – пусть это будет на счастье Янкеле. С тех пор, как он родился, легче подвертывается заработок…
– Я думаю, – обращается к ней Хаим с заискивающей улыбкой, – что это на счастье Ханэ. Знаешь, Соре, когда я покупал, я так думал: из прибыли нужно будет взять хоть треть для Ханэ! И вот, когда я так думал, барыня стала мягкой, как шелк, и давай сбавлять с цены один пятачок за другим.
– Тем лучше, – улыбается ему Соре, и становится, кажется ему, моложе и свежее… «Былые годы, – мелькает у него в голове, – что ж, если б лучшие времена…» Но ему некогда думать об этом…
– Итак, Ханэ – компаньонка!
– Прекрасно, чего ж лучше!
– Да, – бормочет он, – если Ханэ – компаньонка… я рассчитываю-таки на ее счастье, если компаньонка…
– Ну, так что? – спрашивает Соре, навострив уши и уставив на него глаза… «Он уж к чему-то ведет… он уж хочет чего-то», – подозрительно думает она.
– Так что? Так я хочу, чтоб она была действительной компаньонкой… чтоб она вложила в дело часть капитала.
– Что? что ты говоришь? – Соре ушам своим не верит и, не получая ответа, набрасывается на него:
– Разбойник! изверг!.. Вот отец! вот муж! Знает, что девочка так больна… что я дала обет не спекулировать ее деньгами… Это ведь ее деньги! ее кровные деньги! Корзинку иной раз понесет за мной, я иногда даю ей сколько-нибудь…
Соре успокоиться не может… Хаим хочет что-то ответить, но старик не дает:
– Молчи уж лучше, Хаим, молчи, не видишь разве, что Сореле права?.. Иди, поищи себе компаньона… не обижай людей… живи сам и дай жить другим.
Хаим молча кладет в свой мешок кусок хлеба с луковицей и уходит из дому. Старик напутствует его:
– Видал ты, как птички подбирают крошки на дворе? Крошку покрупнее берут вдвоем…
* * *
В постели старика Ривке спит не менее беспокойно, чем прежде. В молодой голове бродит мысль, не дающая крепко уснуть…
Она имела «встречу»!
Однажды под вечер, возвращаясь с фабрики, она столкнулась на тротуаре с каким-то молодым человеком. Она шла прямо, думая, что он уступит ей дорогу, но тот ни с места, – так уставился ей прямо в лицо своими весело смеющимися серыми глазами, что она вся вспыхнула. Она посторонилась и пошла домой быстрыми шагами. Заворачивая в боковую уличку, она против своей воли обернулась и увидела, что он стоит на том же месте и смотрит ей вслед с тою же улыбкой, сверкая двумя рядами своих белых зубов.
– Я расскажу это Ханэ, – думает она и, однако, она этого не сделала: что поймет эта бедняжка, больная Ханэ!
Несколько дней спустя она с ним встретилась опять. Сердце ее начало биться усиленно, ей стыдно поднять глаза, она быстро проходит мимо, но так неловко, что чуть не поскользнулась на гладком тротуаре.
Удаляясь, она (кажется ей) чувствует, как его светлая, веселая улыбка скользит по ее голой шее.
Это пугает ее: ей кажется, что это замечают все прохожие, и она убегает еще поспешнее.
Раз он вырос перед нею, точно из-под земли.
«Ах!» – вскрикнула она, а он стоит и загораживает ей дорогу.
– Кажется, барышня, – говорит он, – я имею счастье быть знаком с вами.
«Барышня», – сказал он ей!
Она тем не менее сердится и отходит от него нетерпеливо и полуиспуганно. Однако, должна она признаться, голос у него очень приятный. «Золотой голос», – говорит ей сердце…
С тех пор они встречаются почти каждый вечер; она с ним не говорит, молчит, но больше уж не убегает от него…
И каждый вечер он провожает ее с фабрики домой.
Они идут рядом и молчат.
Часто она не в силах удержаться и бросает на него взгляд сбоку…
«Усики его»…
На ее взгляд он отвечает еще более светлой улыбкой-
Какие у него необыкновенные глаза… Иной раз, кажется, из них тянутся золотые лучи.
Между тем про все узнали на фабрике, товарки подметили, и пошли разговоры.
Смеются над нею, пошучивают на ее счет.
– Молодо-глупо, – говорит кто-то, – сегодня убегает, завтра сама за ним побежит.
«Не доживете вы до этого», – думает Ривке.
– Она язык высунет, как овца за солью…
Ривке закусывает губы и молчит.
– И красавец же, – говорят, – глаза, волосы, а нос, точно точеный. Из жилетного кармана висит золотая цепочка чуть ли не с десятью золотыми брелоками!
Ривке это льстит.
– Может, томпак, – сомневается одна.
– Еще бы! – думает Ривке.
Другие также говорят:
– Что ты, что ты! Сейчас видно, что богатых родителей.
Еще больше удивляются:
– Не хочется тебе еще романа – успеешь! Но будь умна, говори ласковые слова, бери небольшие подарки, обедом пусть угостит, конфетами… билеты в театр…
Кто-то громко смеется:
– Конечно! Бери нахрапом, как норовистая лошадь… Но в руки даваться – ни-ни!.. Чтоб им пусто было!.
Раздается, наконец, голос старшей работницы с длинным костлявым лицом, острым подбородком и косыми зеленоватыми глазами:
– Те-те-те, – говорит она, – подумаешь, что такая потерять может! Венец ее ждет! Приданого, поди-ка, не сосчитать! Сваты пороги обивают, женихи у дверей толпятся! Только держись!..
Ривке плотнее сжимает губы, еще ниже опускает пылающую голову, и две горячие слезы падают ей на руки, занятые при машине.
И это не дает ей спать.
Нет! Она ничего, ничего не возьмет!
Билета в театр подавно нет!
Однажды она поздно задержалась на фабрике: была спешная работа… Мать прибежала ни жива ни мертва… Когда она увидела свою дочь, глаза у нее начали моргать, и из них фонтаном брызнули слезы. В коридоре фабричного здания у лестницы стоял дедушка и ломал руки…
– Слава Богу, – бормотал он, – слава Богу.
«Нет, она этого не сделает!..»
* * *
Соре тоже стала собираться в город. Она ставит для старика стакан молока на столик, пододвигает к нему колыбельку с Янкеле. Ей еще нужно позаботиться хоть кое о каких мелочах по хозяйству… Однако, она успевает еще пожаловаться дедушке на плохие времена:
– Вы ведь слышали, тесть! Должна быть помолвка… последний срок… телеграфируют, чтобы все закупили… а она, невеста, устраивает скандалы. Не хочет! Не хочет жениха из провинции… у нее, говорит она, есть варшавянин, варшавский «франтик»-.
Ханэ, все время лежавшая с открытыми глазами и смотревшая на потолок, как оттуда одна за другой срывались мухи и разлетались во все стороны, услышав слова матери, вдруг садится, и ее всегда матовые глаза начинают вдруг блестеть. Она видимо прислушивается, интересуется… Навостряет уши и открывает рот, точно глотая слова матери.
Мать, однако, уверена, что заработок будет.
«Помолвка, с Божьей помощью, состоится. Старик Пимсенгольц еще постоит за себя». «Расплывшаяся Пимсенгольц тоже молчать не станет… Ну, и коготки же у нее!»
– Прежде всего, – сказала мне их кухарка, – сделали обыск, нашли письма какого-то франтика-прощелыги, и все сожгли. Потом уж она получила, здорово получила! За волосы оттаскали ее!
Ханэ чувствует, что глаза у нее становятся влажными, лицо краснеет и искажается от сострадания. Она с плачем падает на подушку. Соре пугается, старик подбегает к ней.
– Что такое, Ханэ? Что с тобой?
– Жалко, мама, жалко…
– Кого, дочь моя? Кого? – удивляется Соре, забывая обо всем.
– Н-н-невесту… она такая… добрая… сердечная… дает мне постоянно деньги, те деньги, что я тебе отдаю… она меня ласкает… иногда целует… она хочет учить меня писать…
– Еще этого недоставало! – говорит Соре сердито. – Врагам моим на погибель!.. И тебе она хочет голову вскружить, чтоб и ты не слушалась матери?..
Ханэ отвечает с плачем:
– Нет, мамочка, нет! Не бойся только! Я тебя всегда буду слушаться! Какого бы жениха ты мне ни дала!
Раздается вдруг звонкий смех.
То Ривке смеется над наивностью сестры.
– Злюка! – кричит Соре. – Ребенок болен, опасно болен… смеяться бы тебе, знаешь, как?…
– Не проклинай, Соре, – успокаивает ее старик, – ведь и она еще ребенок.
Соре уходит раздосадованная и, оставляя комнату, кричит Ривке:
– Встань, франтиха! Дай Ханэ чаю, вымети комнату…
* * *
Старик Менаше выпил свое молоко и уселся у окошка.
Через оконце виднеются лишь длинные, узкие тени, которые от ног прохожих падают на маленькие стекла…
Чем ближе к полудню, тем быстрее меняются тени, и тем печальнее становится старик. Люди спешат, бегут, торгуют, работают, он лишь один (так кажется ему) ни для чего уж не годится.
Он берется за псалмы с жаргонным переводом.
Дрожащим голосом прочитывает он стих по-древнееврейски, стих на жаргоне и дрожащею ногою качает колыбельку Янкеле.
Ривке, полуодетая, сидит на кровати Ханэ: обе пьют чай. Рядом с Ривке, пышущей здоровьем и жизнью, Ханэ кажется еще более болезненной, еще более бледной и маленькой, еще более ребенком.
У них идет интимный разговор.
– Я не скажу, Ханэ, расскажи!
– Клянись!
– Клянусь…
– Чем?
– Чем хочешь.
Ханэ морщит лоб и придумывает:
– Здоровьем Янкеле!
– Здоровьем Янкеле, – повторяет за нею Ривке.
– В чем?
– В том, что сохраню в тайне все, что ты мне доверишь…
Ханэ задумывается.
– Сиди, – говорит она, – я не могу… я лучше лягу и буду смотреть на потолок, а то я забываю, путаюсь… Когда я лежу и смотрю вверх, я все вижу перед собой… мне все представляется ясно…
– Ну, ложись, Ханэ…
– Ты также. Приложись ухом к моим губам, это – страшная тайна! Я не хочу, чтобы дедушка слышал!
И Ханэ морщит лоб еще сильнее. Она дышит тяжело, точно на ней лежит большая тяжесть. Она откидывается на подушку.
Сильно заинтересованная, Ривке ставит быстро стаканы на стол и ложится возле Ханэ.
Старик прерывает чтение псалмов и, обернувшись к кровати, говорит:
– Не лучше ли, Ривке, прибрать?
– Сейчас, сейчас, дедушка, – отвечает Ривке, – Ханэ хочет мне кое-что рассказать.
Старик с печальной улыбкой качает головой и опять начинает распевать свои псалмы с жаргонным переводом.
И Ханэ рассказывает, сморщив лоб и широко раскрыв почти неподвижные глаза, которых Ривке несколько пугается. Ей кажется, что Ханэ рассказывает не по памяти, а видит что-то перед собой и говорит то, что видит. И голос ее такой глубокий, и дыхание такое горячее…
* * *
Ханэ рассказывает:
«Кухарка куда-то вышла… Я осталась в кухне одна… жду мамы… она должна прийти за мною.»
– Ривке, – перебивает она себя вдруг, – когда мы ели пшено с медом?
– Вчера, – отвечает Ривке недовольным голосом.
«Так это было-таки вчера… да, вчера… Сижу себе так и пью чай. Кухарка дает мне всегда чай… когда ни прихожу, она мне дает чай… А там пить чай так приятно… серебряной ложечкой… блестит… От чая становится тепло во всем теле… И сахар, слышишь ты, в накладку.
Я хочу пить в прикуску, остаток домой отнести, так она не дает, кухарка: сахар, говорит, для тебя полезен, – говорит она… и следит, чтобы я положила все три куска!
Кухарка получает там целый фунт сахару… целый фунт в неделю! Кроме того, она берет еще сама.
Мама говорит… она берет из серебряной сахарницы, что стоит в первой комнате… она стоит открытая… я сама видела! Но я брать не буду…
На сахарнице изображен олень. Сама Пимсенгольц мне сказала, что это – олень…
С такими большими, ветвистыми рогами… действительно, олень…»
– Итак, ты сидишь на кухне? – напоминает ей Ривке.
– Да, сижу я там на кровати… Ну, и кровать же у кухарки! Три большие подушки, наволочки белые, как снег… вязаные кружева, а сквозь них видно красное… Большие перламутровые пуговицы, величиною с двугривенный! Стеганое атласное одеяло, посредине большой круг, вроде колодца! Кругом орлы с громадными крыльями… Поверх кровати еще зеленое шелковое одеяло… Настоящая барыня эта кухарка, но добрая. Она меня приглашает сидеть на кровати, в ногах… одеяло отгибает… Она меня любит, говорит она, и, знаешь, Ривке, почему?
– Почему?
– Она имела, – говорит, – такую же девочку, как я, ее не звали Ханэ, но моих лет… так она меня любит, говорит она… Отчего ты вздрогнула, Ривке?
– Так, ничего… рассказывай дальше, Ханэ…
– Сижу и пью чай… а она входит…
– Кто?
– Битая невеста.
– Как битая?
– Ты разве не слышала? Ведь мама рассказывала Да, да, ее бьют, потому что она не хочет того жениха…
– Ага! Ну… хорошо, она входит?
– Она входит – бледная… с покрасневшими глазами… Слышишь, Ривке, дома она носит голубое шелковое платье, новенькое, с красными крапинками… Сзади болтаются две длинные, широкие атласные, также красные ленты… На концах обшиты черной шелковой бахромой… Сережки брильянтовые… Прическа такая великолепная… высоко на голове волосы венчиком собраны, а посередине венчика голубь с распростертыми крыльями – понимаешь? – из волос же. Сзади волосы собраны золотой пряжкой, спереди – также золотая пряжка, кажется – даже две! На поясе опять золотая пряжка – ослепнуть можно! Повернется – так и сверкает!
Ханэ замолкает.
– И все?
– Подожди, – это большая тайна, Ривке! – и она добавляет со страхом: – Бог накажет, если ты расскажешь.
Ривке уверяет, что она ее не выдаст. Ханэ кладет свою руку под голову Ривке, прижимает ее крепче к себе и продолжает рассказывать еде более тихим, еще более глубоким голосом:
– Она увидела меня и бросилась ко мне с плачем.
– Чего она хотела от тебя?
– Она хотела от меня услуги…
– Услуги? От тебя услуги?
– Всунула мне в руку полтинник, тот полтинник, который я вчера отдала маме – и еще кое-что…
– Что еще, Ханеле?
«Ханеле» в устах Ривке верный ключ, чтоб раскрыть сердце Ханэ.
– Письмо… И чтоб я отдала это письмо в строжайшей тайне.
– И ты взяла?
– Подожди… Она устно заучила со мною адрес – ведь я писать не умею – Герман… другое имя я уж забыла… улицу также… но, кажется, № 40…
– Ты взяла и отдала? – спрашивает Ривке со скрытым испугом.
– Не так скоро, – отвечает Ханэ наивно. – Долго искать пришлось.
Но не это интересует Ривке.
– Он – холостой? – спрашивает она резко.
– Откуда мне знать? Должно быть…
– Он живет один?
– Кажется… да Он сам открыл мне. Я только нажала белую пуговку – это она меня научила.
– Он взял письмо?
– Взял.
– Дал ответ?
– Он не дал ответа… напишет по почте, сказал он. Но он так обрадовался письму… На радостях попросил меня в комнату, усадил на стул…
– Зачем?
– Он был очень рад! Он далее гладил мои волосы, – как мама делает иногда, в субботу или праздник, когда у нее есть время… Потом он смеялся и даже целовал меня… в губы, прямо в губы… потом в глаза… «Красивые глаза», говорил он…







