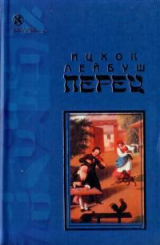
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Но не об этом речь идет. Я хотел бы лишь рассказать, как иногда ничтожная мелочь приводит к лишнему воплощению, а начиная падать, по обыкновению падают все ниже и ниже…
Некогда предстояло великому праведнику закончить свои воплощения на земле. Душа собиралась уже отлетать в обитель свою, к Святому Престолу, откуда она высечена была, чистая, как золото, как святыня… И в небе уже задвигались сонмы святых, бегут к вратам Нeбecным на встречу чистой душе, – однако в последнее мгновение радость была омрачена…
В последний раз душа праведника была воплощена в человека, довольного малым; жил праведник тогда в образ еврея, не вкушавшего от прелестей мира сего. Постился и изучал священные книги. Во все дни свои не познал женщины. И поэтому смерть ему очень трудно давалась. Тело ни за что не хотело отпустить от себя душу и отправиться в мрачную могилу. Тело говорило: «Я вовсе еще не жило! Я еще своей доли жизни не имело!» И всякий член боролся с ангелом смерти. Сердце толковало: «Я еще ничего не чувствовало!» Глаза: «Мы еще ничего не видали!» Руки: «Что мы имели?» Ноги: «Куда мы ходили? Из дому шагу не ступили!» И так все. И ангел, посланный за душою праведника, вынужден был бороться с каждым членом, каждой жилой, каждой каплей крови в теле; ибо все удерживало душу тисками, и ангелу приходилось вырвать ее, как нежную розу иссреди колючих терний… Муки исхода души были так велики, страдания при расставании души с телом так сильны, что праведник в последнее мгновение издал стон. И стон этот был от зависти: праведник позавидовал тем, кому смерть легко достается, пожелал иметь легкую смерть! А времени для раскаяния в своем желании у него не было!
И так как праведник преступил против заповеди: «Не пожелай», – ибо еврей даже легкую смерть себе пожелать не должен, – то на небе растаяли сонмы, и снова замкнулись врата, и праведнику пришлось снова воплотиться для исправления преступленной им заповеди: «Не пожелай».
Но в вышних мирах сильно жалели его. Часть из сонмов небесных даже обижалась на ангела смерти, почему тот не обождал мгновения, не дал праведнику раскаяться.
Решили поэтому облегчить душе испытание, дать ей такую жизнь, столько счастья, чтобы человеку никак не пришлось позавидовать кому-либо; чтобы ему ничего пожелать не пришлось; ему была обещана также легкая смерть.
Выслушал лукавый решение и усмехнулся… Не так-то легко он выпустит из своих рук человека.
Снова был воплощен праведник. И стал жить на белом свете, под именем Зайнвеля Пурисовского! Кто такой Зайнвель Пурисовский?
Еврей – дай Бог всем евреям не хуже! – вельможа! И чего ему не хватает? Знаний у него больше, чем у раввина; поет лучше кантора; библию пред народом читает лучше литовского учителя. И жена у него – добродетельная домохозяйка, и дети удачливые, и торговля прибыльная при доме!
Вдобавок самый приличный дом в городе! И из дому милостыня ручьем течет. При доме – куща бревенчатая, увешанная пальмовыми ветвями и всякими плодами Святой земли! У кого лучшее райское яблоко в лучшем серебряном сосуде? – У ребе Зайнвеля! Кто самый честный третейский судья и умнейший советчик? – Ребе Зайнвель. Пусть захочет старостой стать! Ведь старосты и так без его совета пальцем о палец не ударят! Без его указания ни один служка с места не двинется!
И сидит ребе Зайнвель над учением. И глаза его сияют под большим лбом, как у истинного мудреца древности. А раскроет уста – жемчуг сыплется! И красив был старик – король! Белая, кудрявая борода, высокая кунья шапка с серебристым волосом, бархатный кафтан с оторочкой и серебряными застежками; словом сказать: наука и величие – в едином.
Кажись, можно быть уверенным, что это последнее воплощение?! Да, было бы так, если бы не нечистый.
Взял однажды лукавый и принял образ странника, молодого человека, невзрачного на вид, заморыша. Забрался в зимний вечер перед молитвой в молельню и сел у печки. Ребе Зайнвель, конечно, пригласил странника к себе отужинать; он рад всякому гостю! Отправился заморыш к ребе Зайнвелю на ужин. В промежутках между блюдами ведутся, понятно, ученые разговоры. Сын ли, зять ли начнет, укажет на какое либо неразрешимое противоречие в Талмуд, все глаза обращаются к ребе Зайнвелю. Он, мол, все разрешит. Ребе Зайнвель улыбается и предлагает гостю честь первой молитвы после еды. Молитва прочитана. Ребе Зайнвель начинает свое разъяснение, и речь его ясна и чиста, и кажется, будто расстилается далекая, прямая, широкая санная дорога, белый, ясный простор; дорога гладкая, ровная, точно стол – запрягай сани и покати! Сыновья и зятья сидят, превратившись в слух, впитывая всю радость науки. А заморыш сидит и смотрит злым взглядом со стороны, улыбается тонкими губами. Заметил это ребе Зайнвель и спрашивает: «Вы не согласны?» И заморыш дерзко отвечает: «Ни-ни!» Ребе Зайнвель спрашивает: «Почему?» Заморыш начинает свое объяснение и разгорается спор!
Заморыш в один миг проехался по всему Талмуду и комментариям, забрасывает стихами Писания, точно горящими угольями, точно острыми пиками, сыплет цитатами из разных мест, точно град. И, говоря, заморыш растет, и глаза его растут, и злоба в глазах растет! И слова его с каждым разом делаются пламенней, резче. Он окружает ребе Зайнвеля точно изгородью из горящих терниев. И ребе Зайнвель чувствует, что вокруг него делается все теснее и теснее, и нет ни входа, ни выхода; нечем дышать… У сыновей и зятьев руки опустились, никто не приходит ему на помощь, а изгородь вокруг надвигается, все приближается к телу, ближе и ближе. И ребе Зайнвель начинает ощущать некую умственную слабость, сердечную боль; спирает дыхание в груди. Он поднялся с места, вышел за дверь немного отдышаться, собраться с мыслями; потому что он чувствует свою правоту; сознает, что заморыш – лишь фокусник; что тот бьет лишь, словно градом, а град должен растаять и превратиться в ничто – в воду; надо лишь подумать!
А было это, как сказано, в зимнюю ночь. И когда ребе Зайнвель вышел за дверь, базар был устлан свежевыпавшим, искрящимся снегом, а сверху в небе сияли миллионы звездочек. Ребе Зайнвель легко задышал. В мозгу его просветлело и прояснилось. И вдруг он воочию увидел, что тернистая изгородь, которой окружил его заморыш, шатается, качается вокруг него на базаре; всмотревшись, он замечает, что изгородь вовсе не цельна, что во многих местах она прерывается, что в ней остались неогороженные места. И кажется ему, что в свободных промежутках стоят: здесь ученый, там комментатор, которые, дружелюбно улыбаясь, говорят: «Зайнвель, изгородь эта обманчива, – чары одни; пойди-ка сюда, мы тебя проведем». И перед ним снова расстилается длинная дорога, простор, широкая даль…
И ребе Зайнвель мысленно улыбается открывшемуся проходу, замечает, что везде открыто, пред ним раздолье, открытый мир! И он вспоминает: тот гений так-то сказал, тот комментатор то-то разъяснил и предупредил, а относительно того ясно сказано у Раши. Ребе Зайнвель страшно доволен, снова мысленно пробегает талмуд с комментариями – везде ширь и гладь… Он уж покажет гостю!.. Для ребе Зайнвеля все теперь ясно, как ясный снег, все так светло, как светлые звездочки в небе! И ребе Зайнвель не чувствует, как, двигаясь мыслью в мирах науки, он движется ногами взад и вперед по базару, пошел за базар, все дальше и дальше по снежной дороге. И вот он уже далеко за базаром, давно за городом, где не видать ни домов, ни крыш, ничего. Он шагает по снегу, по чистому полю, без плетней, без границ, по истинно ясному, белому, искрящемуся простору, такому же светлому, как его мысли.
Но вдруг ребе Зайнвель остановился ошеломленный.
Тяжелая туча протянулась по небу, внезапно потухли сияющие звездочки, широкая тень налегла и затемнила блестящий снег. И также сразу, вместе с небом и землею, омрачились мысли ребе Зайнвеля – и он блуждает по снегу, и блуждает также в талмудическом вопросе, не зная, где входы, где выходы…
И издали увидел ребе Зайнвель небольшой редкий дымок, змеящийся под небом. Догадался он, что близко жилье… Исхолодавшийся, уставший, до глубины своей души павший духом, он пошел на дымок и добрался до бедной, полуразвалившейся корчмы. Ребе Зайнвель вошел в закуренную избу и остановился у двери, никем не замеченный. Видит: v корчемной стойки, над посудой с вином и закуской, дремлет старая крестьянка-корчмарка; через окна с выбитыми стеклами влетает и вылетает мокрый, холодный ветер; в стороне – печь; в печи горят, трещат и пламенеют сухие поленья; все места вокруг печи заняты. Везде кругом сидят полупьяные мужики, с чарками водки в одной руке, сельдью или огурцом в другой; крестьяне пьют; их лица горят; глаза светятся любовью и удовольствием; время от времени они наклоняются друг к другу, то целуются и плачут от великой любви, то ругаются скверными словами; снова пьют и снова закусывают… И нет ему места у печи, и нельзя погреться.
И тогда ребе Зайнвель, который наукой превосходил раввина, пением – кантора, читает Библию перед народом лучше литовского учителя; обладатель зажиточнейшего дома в городе; ребе Зайнвель, у которого жена – добродетельная домохозяйка, дети удачнейшие, прекраснейшая куща, лучшее райское яблоко; ребе Зайнвель, мудрейший советчик, честнейший судья, дававший самую обильную милостыню, – этот ребе Зайнвель тогда не сдержался и, стоя посреди корчмы в шубейке, висевшей на нем, точно жестяная, (тогда как ветер всякий миг пробирался и замораживал пот на его теле) – позавидовал в глубине души каждому из крестьян, сидевших вокруг печи; позавидовал мужикам, пившим водку из жестяной чарки, закусывая сельдью или соленым огурцом, произносившим богомерзкие слова…
И начался новый ряд воплощений…
Фокусник
 Волынский городок однажды прибыл фокусник.
Волынский городок однажды прибыл фокусник.
И хотя дело было в полное треволнений предпасхальное время, когда у всякого еврея больше забот, нежели волос на голове, все же прибытие фокусника произвело сильное впечатление, Загадочный человек! Оборванный, обтрепанный, но с цилиндром, правда, измятым, на голове; еврейское лицо – о его происхождении достаточно говорит один нос, – но с бритой бородой! И паспорта нет при нем, и никто не видал, ест ли он, и что он ест, разрешенную ли евреям пищу или всякую. Знай, кто он такой! Спросят его: «Откуда?» Говорит: «Из Парижа». Спросят: «Куда?» – «В Лондон!» – «Как вы сюда попали?» – «Забрел!» Как видно, пешком ходил! И не показывается в молельне, даже в Великую Субботу не пришел! А пристанут к нему, соберутся толпой вокруг него, он вдруг исчезает, точно земля его проглотила, и появляется на другом конце базара.
Между тем он снял помещение и стал показывать свои фокусы.
Ну и фокусы! При всем народе глотал горящие уголья, точно галушки; изо рта тянул разноцветные ленты, красные, зеленые, какие только кто хотел, длинные, как еврейские муки. Из голенища сапога вытаскивал шестнадцать пар индюков, величиной с медведя, живых индюков, разбегавшихся по сцене; подымет ногу, поскребет подошву и падают золотые червонцы, целую миску червонцев наскреб! Хлопают «браво». Фокусник свистнет, и слетаются, точно птицы, в воздухе калачи да булки, и пляшут под потолком хоровод или «пляску ссоры». Свистнет в другой раз, и все исчезает, точно ничего и не было! Ни калачей, ни лент, ни индюков – ничего!
Что ж, всякий знает, что «нечистая сила» также способна чудеса показывать! Египетские чародеи вероятно обнаруживали еще большее искусство! Но вопрос таков: почему фокусник сам так беден?
Человек скребет червонцы с подошвы, а не может уплатить за постой хозяину. Свистом печет калачи да булки, точно настоящий пекарь, индюков из голенища тянет, а лицо у него изможденное, краше в гроб кладут, и голод горит пламенем в его глазах! Народ шутит: пятый вопрос явился к четырем обрядно-пасхальным!
Но раньше чем говорить о Пасхе, оставим фокусника и перейдем к Хаим-Ионе и его жене Ривке-Беле. Хаим-Иона некогда был лесопромышленником. Однажды он купил лес на наличные, но лес запретили рубить, и Хаим-Иона остался гол, как сокол. Стал он приказчиком у другого лесопромышленника, но потерял должность; и вот несколько месяцев как он сидит без работы. Зиму прожили – не дай, Господи, никому такой; но после зимы наступает Пасха! А все уже заложено, от подсвечников до последней подушки. И Ривка-Бела говорит мужу: «Пойди в общество и попроси на мацу». Но Хаим-Иона отвечает, что он надеется на Господню помощь, и не станет унижаться пред людьми. Ривка-Бела снова начинает искать во всех уголках – и, чудо небесное! – нашла старую, вытертую серебряную ложку, много лет назад завалявшуюся! Хаки-Иона пошел на базар, продал ложку, а полученные деньги внес в кассу для бедных. «Бедняки, – говорит, – еще больше нашего нуждаются». Между тем время движется; осталось всего недельки две до Пасхи, – Хаим-Иона однако надежды не теряет. «Господь, – говорит он, – нас не оставит!» Ривка-Бела молчит, знает, что женщина должна слушаться мужа. Но день уходит за днем. Ривка-Бела ночи напролет глаз не смыкает, плачет, уткнувшись лицом в сенник, чтобы Хаим-Иона не услыхал. А Пасхи у них еще и следов нет! Днем-то Ривке-Беле хуже, чем ночью: ночью человек хоть выплакать может свое горе, а днем – пусть от щипков, но щеки должны быть красны! Соседки следят за нею и, удивляясь, без конца переглядываясь, пронзают ее, точно иглами, жалостливыми взглядами… Некоторые спрашивают. «Когда печете мацу? Когда квасите свеклу?..» Более близкие говорят:
– Что с вами, Ринка-Бела?! Если у вас недохватка, мы вам одолжим!
Но Хаим-Иона не желает «даров человеческой руки», а Ривка-Бела против мужа не пойдет.
Она старается как-либо отклонить предложение, а лицо от стыда горит…
Соседи видят, что дело плохо, отправились к раввину:
– Что делать?
Раввин выслушал, вздохнул, задумался, а под конец сказал, что Хаим-Иона – человек ученый и богобоязненный. И если у него есть надежда, так есть!..
Ривка-Бела даже без свечей осталась к празднику…
А вот и Пасха!
Хаим-Иона возвращается из синагоги домой; видит, все окна на площади сияют праздничной радостью; лишь его дом стоит, точно юная вдовица среди веселых гостей, точно слепой меж зрячими. Он однако духом не падает: «Захочет Господь, и будет еще у меня праздник». Вошел в дом и весело говорит: «С праздником! С праздником тебя, Ривка-Бела.» И голос Ривки-Белы, пропитанный слезами, доносится до него из темного угла: «С праздником! Добрый год тебе.» И глаза ее светятся из уголка, точно два горящих угля. Подошел он к ней и говорит: «Ривка-Бела, нынче праздник; вечер исхода из Египта, понимаешь? Нельзя печалиться! Да и о чем печалиться? Если Всевышний не пожелал, чтобы мы свою вечерю справляли, надо принять это как должное, как благо, и пойти к чужой вечере. Что ж, мы и пойдем! Нас всюду впустят… Сегодня двери и ворота открыты… Евреи говорят: „Всякий кто хочет, да придет и ест.“ Пойдем. Накинь платок, отправимся к первому попавшемуся еврею…»
И Ривка-Бела, исполняющая всегда желание своего мужа, всеми силами сдерживает рыданья, которые рвутся из горла, накидывает на плечи изорванный платок и собирается идти. Но в этот момент открывается дверь, кто-то вошел и говорит:
– С праздником!
И они отвечают:
– Добрый вам год! – не видя, кто вошел.
Вошедший сказал:
– Я желаю быть гостем на вашей вечере.
Хаим-Иона отвечает:
– У нас самих нет вечери.
Вошедший сказал:
– Я принес вечерю с собою.
– В темноте справлять вечерю? – замечает со вздохом Ривка-Бела.
– Будет и свет! – отвечает гость. Он махнул рукою: раз-два! И появляются посреди комнаты две пары серебряных подсвечников с зажженными стеариновыми свечами, и повисли в воздухе! Стало светло. Хаим-Иона и Ривка-Бела увидали фокусника, изумились, и от удивления и страха не могут произнести ни слова. Схватив друг друга за руки, они стоят с широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами. Фокусник меж тем обращается к столу, стыдливо стоявшему в уголке, и говорит:
– Ну-ка, молодчик, накройся и подойди сюда!
Сейчас же с потолка падает на стол белоснежная скатерть и накрывает его; накрытый стол задвигался, идет и становится посреди комнаты, как раз под свечами; и серебряные подсвечники опускаются ниже и располагаются рядом на столе.
– Теперь нужны ложа для возлежания! Да будут! – И три скамейки, из трех концов комнаты, направившись к столу, размещаются с трех сторон его. Фокусник велит им стать шире, и они вытягиваются в ширину, превращаясь в кресла. – Мягче! – произнес фокусник – и они покрылись красным бархатом, и в тот же миг подают на них с потолка белые, снежно-белые подушки, ложатся, по велению фокусника, на кресла – и ложа готовы! По велению его показывается блюдо со всеми припасами для обряда, появляются красные чаши и графины вина, маца и все, что нужно для веселой, праздничной вечери, даже сказанья молитвенные в переплетах с золотым обрезом.
– А вода для омовения рук есть у вас? – спрашивает фокусник. – Если нет, я распоряжусь, принесут!
Лишь при обращенном к ним вопросе, хозяева пришли в себя от изумления. Риика-Бела спросила шепотом Хаим-Иону: «Можно ли?» И Хаим-Иона не знает, что ей ответить. Тогда она советует ему сходить и спросить у раввина. По он отвечает, что не может ее одну оставить с фокусником; пусть, мол, сама пойдет. Тогда Ривка-Бела замечает, что глупой еврейке раввин не поверит; подумает, что она с ума рехнулась. И они оба отправились к раввину, оставив фокусника с вечерей.
И раввин им ответил, что все, сделанное колдовством, не имеет в себе реального содержания, потому что чары – лишь обман зрения. И он велит им идти домой, и если маца даст крошиться, вино – литься в чаши, подушки на ложах – ощупать себя, тогда хорошо… Тогда это дар неба, и они могут этим пользоваться.
Так решил раввин. С сердечным волнением Хаим-Иона с супругой отправились домой. Пришли, – фокусника уж нет; а «вечеря» стоит, как и раньше, и подушки оказываются настоящими, вино льется в чаши, маца крошится… Они поняли, что пророк Илия посетил их дом, и весело, радостно справляли праздник!
Хорошо
 ы спрашиваете, по чьим заслугам я остался евреем?
ы спрашиваете, по чьим заслугам я остался евреем?
– Только по своим, а вовсе не по заслугам предков. Мои предки из рода в род арендовали корчму под Вильной и были простыми евреями. Я был тогда шестилетним мальчишкой и обрел милость в глазах «Деда из Шполы».
– Вы удивляетесь, как я мог знать тогда Деда из Шполы?
– «Дед из Шполы» еще не был тогда дедом. Он был молодым человеком, и переживал тогда искус скитаний. Бродил долгое время с толпою нищих из общины в общину, с одного постоялого двора на другой – такой же нищий, как и прочие, оборванный, обтрепанный, как и прочие. Что внутри, в сердце его делалось – поди, знай!
Когда он выдержал искус скитаний, ему не пришло еще время объявиться. Пришел он поэтому к виленским раввинам, получил разрешение на убой скота, и стал деревенским резником. Он уж не скитается больше по миру, а околачивается в окрестностях Вильны. Но у миснагидов[12] есть нюх; они что-то учуяли в нем. Стали его преследовать, распространять про него всякие слухи и небылицы, жаловаться судилищу, будто он преступает все еврейские заветы! Миснагиды на все пойдут!
А я тогда был мальчиком лет шести. Он иногда заходил к нам в корчму зарезать овечку, переночевать. И я его сильно полюбил. Да и кого другого я мог, кроме отца с матерью, любить, если не его? Мой учитель был человек вспыльчивый, страшно бил меня; а тот – добрая, милая душа, одним взглядом людей оживлял! А ложные слухи меж тем своего достигли: ему запретили убой. Как видно, мой учитель также принимал участие в преследованиях, потому что его сейчас же оповестили о состоявшемся решении. И едва резник вошел в дом, как учитель крикнул: «Вероотступник! Анафема! Вон!», схватил его за шиворот и вышвырнул на двор. Меня точно острым ножом кольнуло. Но я пуще смерти боялся учителя. И лишь после, когда учитель немного успокоился, я выбрался из дому и побежал по дороге нагнать резника. А тот, невдалеке от нашего дома, повернул в лес, тянувшейся до самой Вильны. Что я хотел сделать, не знаю, но меня что-то гнало к бедному резнику. Мне хотелось хотя бы попрощаться с ним, хотя бы еще один раз заглянуть в его добрые, сердечные очи.
Бегу и бегу, бью ноги о камни придорожные, а предо мною никого. Взял я вправо, поглубже в лес, и думаю отдохнуть немного на мягкой лесной земле. Совсем уже собрался присесть, как услыхал голос: будто его певучий голос раздается в глубине леса. Я тихо пошел на голос. Еще издали увидел его: он стоит и качается под деревом. Я стал прислушиваться: он читает «Песню песней!». И вижу я, что дерево, под которым он стоит и читает, не похоже на другие деревья. Все деревья еще голы и наги, а это зеленеет, и цветет, залитое солнцем, и протягивает цветущие ветви над головою резника, точно покров. И стаи птиц, прыгая по ветвям, подпевают «песню песней»! Я остановился, испуганный и изумленный, стою, широко раскрыв рот и глаза, не двигаясь с места.
Он кончил свою «песню песней», и потухло дерево, и исчезли пташки. Он обернулся ко мне и любовно сказал:
– Послушай, Юдель[13], (Юдель – мое имя) у меня к тебе просьба!
– Пожалуйста, – ответил я с радостью, полагая, что он попросит принести ему пищи.
И я собираюсь побежать и хорошенько очистить клетушку матери. Но он произнес:
– Послушай, все виденное здесь тобою пусть при тебе останется.
Потухла радость во мне, но я обещаю верно блюсти его тайну и молчать.
– Слушай дальше, Юдель. Тебе вскоре предстоит далекий, весьма далекий путь, и долгий путь,
И я удивился: какой далекий путь может мне предстоять? А он продолжает:
– Науку, полученную от учителя, выбьют из твоей головы, ты отца и мать позабудешь, – смотри же, останься при своем имени! Тебя зовут «Юдель» – оставайся евреем!
Я сильно испугался, но из груди моей вырвалось:
– Честное слово! Быть мне так живу!
Но я все же не перестаю думать о своем!
– Однако, – говорю я ему, – вы кушать хотите?
Раньше, чем я успел окончить свой вопрос, он исчез с моих глаз…
А на следующей неделе окружили наш дом, и меня увели в кантонисты…
И много времени прошло, и я действительно все позабыл… Все из головы моей вышибли.
Я служил в глубине России, среди снегов и страшных морозов. Еврея в глаза не видал… Быть может, там проживали тайком евреи, но я о них не знал. О субботах и праздниках не ведал, о постах не знал, все перезабыл… И однако я вере своей не изменил!
Чем больше я перезабывал, тем сильнее являлось искушение избавиться от мук и страданий – разом положить конец! Но едва эта дурная мысль приходила на ум, пред моими глазами вставал он, и я явно слыхал его голос: «Останься при своем имени! Оставайся евреем!»
Что это не призрак, я знал наверное… Я видел его всякий раз старше и старше… Борода и пейсы – все белее, лицо – бледнее… Только глаза оставались прежние, те же добросердечные очи, и голос тот же, будто скрипка играет…
Когда меня раз наказывали плетьми, он стоял подле меня и, обтирая холодный пот с моего лба, гладя меня по лицу, тихо шептал: «Не кричи! Стоит потерпеть. Оставайся евреем!» И я не издал ни звука, ни стона, точно не меня пороли…
Однажды, уже в последний год службы, мне пришлось стать на часы у цейхгауза за городом. Был вечер. И носилась снежная метель. Ветер подымал целые горы снега, растирал их в иглы, рассеивал в пыль; снежная пыль и снежные иглы носились в воздухе, били по лицу, кололись… Ни глаз раскрыть, ни дух перехватить! Вдруг я услыхал будто невдалеке людские голоса, и будто один по-еврейски сказал: «Ныне пасхальная вечеря!» Был ли то небесный глас, или действительно люди проходили – не знаю до сих пор… Но слова эти запали мне в душу свинцом. И едва я добрался до цейхгауза и зашагал взад и вперед, меня охватила странная тоска, такая душевная печаль, что описать невозможно. Хочется мне непременно прочесть пасхальное сказанье, а я хотя бы слово припомнил! И чувствую я, что глубоко, глубоко в сердце моем лежит оно, это сказанье (я некогда знал его наизусть); и кажется мне, что пусть я вспомню одно лишь слово, одно-единственное слово, и остальные также выявятся, потянутся из меня, точно ряд заспанных птиц из-под снега. Но я никак не могу вспомнить первое слово!
– Владыка Небесный! – воззвал я из глубины души. – Одно слово, одно лишь слово!
И крик мой раздался по-видимому в добрый час. Мне вспомнилось: «Рабами мы были» – точно с неба мне бросили их. И я исполнился радости. Чувствую, что я переполнен радостью, что радость изливается из меня, просияв из моей души. Шагая взад и вперед с ружьем на плече, я читаю и пою белому запорошенному снегом, охваченному снами миру пасхальное сказанье… И сказанье льется из моей груди, льется и тянется, точно золотая нить, словно нить жемчуга… Ах! Вы этого и понять не можете, и постигнуть не сумеете… Для этого надо бы вас послать туда!
А ветер меж тем затих, метель улеглась, показалось ясное искрящееся небо, белый, сияющий бриллиантами мир… Кругом и вокруг тишина и белизна. Необъятная даль и необъятная белизна… Тихая, мирная, милая, безмерно далекая белизна… А над тихой, безмерно далекой белизной показалось вдруг нечто еще более белое, более светлое, более яркое. И оно идет, приближаясь из необъятной дали… В кителе белом и молитвенном покрывале… Покрывало на плечах, над покрывалом спереди дрожащая серебряная борода, выше – два лучистых глаза, над ними горящий венец – оторочка покрывала с серебряными и золотыми узорами. И оно становится все больше, все ближе… Проходит мимо меня, равняется со мною, произнесло:
– Хорошо!..
Точно скрипка сыграла!.. И исчезло оно!..
Но те же глаза, тот же голос…
Возвращаясь домой, я проходил мимо Шполы. И зашел к «Деду». Я узнал его, он узнал меня…

Собачья вечеря
 Баал-Шему[14] наезжал иногда один недавно разжившийся еврей, которого трудно было сносить. Я даже назову его по имени, пусть придет душить меня сонного. Его звали Иокель из Консковоли. Уж на что Баал-Шем был хорош, кажись – сама доброта, но и тот при появлении Иокеля, бывало, поморщится. Про остальной народ и говорить не приходится. Во-первых, этот еврей не был истинно верующим хасидом. Разбогатевший человек и, вероятно, с кучей бесов за пазухой! Поссорился как-то с раввином и общиной при выборах на какую-то почетную должность и им в отместку стал ездить к Баал-Шему. Обыкновенный еврей из населенного одними миснагидами городка не отважился бы на такой шаг, его бы поедом ели, в порошок истерли. А денежный человек может себе позволить и против всей общины пойти. Во-вторых, этот Иокель – сама простота, а дерзок и хвастлив, как обыкновенно бывают недавно разжившиеся богачи. За молитвой всегда лезет в канторы – грамотный, мол. Люди ведут серьезный разговор, а он вдруг бултыхнет: «А какую, господа, я лошадку купил!» – и чмокнет губами, гул стоит! Однажды он смутил весь стол своим внезапным замечанием о кнуте с золотым ободком, что он получил от лакея вельможного пана Потоцкого… Вдобавок он отчаянный скупяга! Ради похвальбы он вынимал, бывало, ежеминутно золотую табакерку, будто хочет понюхать табаку! Но к носу и близко не поднесет! Боже упаси, с табаком жаль расставаться. А сунет кто-либо со стороны палец в его табакерку, он не прочь закрыть табакерку с чужим пальцем. Трудно было сносить его скупость… Однажды приехал этот Иокель после первых дней Пасхи и остался на пасхальную субботу у ребе. Сидит за общей трапезой. Баал-Шем не давал срамить его – вот он и сидит. А Баал-Шем держал в это время важную речь о том, как молитвы возносятся к Престолу Господню. Говорит, что не все молитвы одновременно достигают туда, что иногда рожденный женщиной молится поздно, а молитва его достигает раньше других! Все зависит от того, как чиста была молитва! Молитва, пояснял он, состоит из тела и души. Слова – это тело, молитвенное благоговение – душа. Чем больше благоговения, тем больше духа, тем быстрее молитва подымается ввысь, тем скорее она возносится и восходить, точно жертвенный фимиам… Если же в молитве мало благоговения, она не может прямо подняться, влачится она в пространстве вдоль и поперек, подхватывает ее ветер или туча в пути, относит ее в сторону, кидает ее в бездны… Иной раз проливается молитва, увлеченная попутным облаком, вместе с дождем на моря или пустыни… Все же всякая молитва когда-либо достигает небес! Святые звуки сами подымают ее кверху. Ибо всякое тело тянется к корню и источнику своему… И вот в конце концов, приходит время, когда воздух проясняется, и нет помехи из-за ветров или туч, и звуки молитвы подымаются кверху и падают поодиночке пред престолом святым… И всегда поэтому прибывают молитвы! И в этом – смысл изречения: «Не дремлет и не спит Страж Израиля» – всегда падают молитвы пред святым престолом! Миснагиды рано произносят молитву, затем молятся хасиды… Затем случайно запоздавшие… И днем, и ночью подымаются они, и Милосердое Око не может сомкнуться ни на мгновение… Оно стоит на страже! Но бывает и так, – продолжал Баал-Шем. – Еврей читает молитву, а думает о ржи и пшенице! И молитва, упаси нас Боже, загромождается плотью, мешками жита, интересами телесными. И такая молитва может придти слишком поздно! Много лет спустя после смерти молившегося! Явится душа на тот свет, предстанет на суд праведный, положит обвинитель на левую чашку весов грехи да грехи – целые пуды грехов, а защитник стоит с пустыми руками и нечего класть ему. Крикнет тогда еврей в ужасе: «Владыка Небесный! Ведь молитву-то я во всяком случае совершал!..» Но не достигли еще небес молитвы его. И дабы он видел, что суд небесный праведен и справедлив, открывают пред ним окошечко в небе, предлагая посмотреть… Смотрит он и видит, как молитвы его валяются где-то близ жилья… А бывает, что еврей во время молитвы помыслит греховное! А всякое тело тянется к корню своему… И греховные помыслы увлекают за собою молитву в преисподнюю…
Баал-Шему[14] наезжал иногда один недавно разжившийся еврей, которого трудно было сносить. Я даже назову его по имени, пусть придет душить меня сонного. Его звали Иокель из Консковоли. Уж на что Баал-Шем был хорош, кажись – сама доброта, но и тот при появлении Иокеля, бывало, поморщится. Про остальной народ и говорить не приходится. Во-первых, этот еврей не был истинно верующим хасидом. Разбогатевший человек и, вероятно, с кучей бесов за пазухой! Поссорился как-то с раввином и общиной при выборах на какую-то почетную должность и им в отместку стал ездить к Баал-Шему. Обыкновенный еврей из населенного одними миснагидами городка не отважился бы на такой шаг, его бы поедом ели, в порошок истерли. А денежный человек может себе позволить и против всей общины пойти. Во-вторых, этот Иокель – сама простота, а дерзок и хвастлив, как обыкновенно бывают недавно разжившиеся богачи. За молитвой всегда лезет в канторы – грамотный, мол. Люди ведут серьезный разговор, а он вдруг бултыхнет: «А какую, господа, я лошадку купил!» – и чмокнет губами, гул стоит! Однажды он смутил весь стол своим внезапным замечанием о кнуте с золотым ободком, что он получил от лакея вельможного пана Потоцкого… Вдобавок он отчаянный скупяга! Ради похвальбы он вынимал, бывало, ежеминутно золотую табакерку, будто хочет понюхать табаку! Но к носу и близко не поднесет! Боже упаси, с табаком жаль расставаться. А сунет кто-либо со стороны палец в его табакерку, он не прочь закрыть табакерку с чужим пальцем. Трудно было сносить его скупость… Однажды приехал этот Иокель после первых дней Пасхи и остался на пасхальную субботу у ребе. Сидит за общей трапезой. Баал-Шем не давал срамить его – вот он и сидит. А Баал-Шем держал в это время важную речь о том, как молитвы возносятся к Престолу Господню. Говорит, что не все молитвы одновременно достигают туда, что иногда рожденный женщиной молится поздно, а молитва его достигает раньше других! Все зависит от того, как чиста была молитва! Молитва, пояснял он, состоит из тела и души. Слова – это тело, молитвенное благоговение – душа. Чем больше благоговения, тем больше духа, тем быстрее молитва подымается ввысь, тем скорее она возносится и восходить, точно жертвенный фимиам… Если же в молитве мало благоговения, она не может прямо подняться, влачится она в пространстве вдоль и поперек, подхватывает ее ветер или туча в пути, относит ее в сторону, кидает ее в бездны… Иной раз проливается молитва, увлеченная попутным облаком, вместе с дождем на моря или пустыни… Все же всякая молитва когда-либо достигает небес! Святые звуки сами подымают ее кверху. Ибо всякое тело тянется к корню и источнику своему… И вот в конце концов, приходит время, когда воздух проясняется, и нет помехи из-за ветров или туч, и звуки молитвы подымаются кверху и падают поодиночке пред престолом святым… И всегда поэтому прибывают молитвы! И в этом – смысл изречения: «Не дремлет и не спит Страж Израиля» – всегда падают молитвы пред святым престолом! Миснагиды рано произносят молитву, затем молятся хасиды… Затем случайно запоздавшие… И днем, и ночью подымаются они, и Милосердое Око не может сомкнуться ни на мгновение… Оно стоит на страже! Но бывает и так, – продолжал Баал-Шем. – Еврей читает молитву, а думает о ржи и пшенице! И молитва, упаси нас Боже, загромождается плотью, мешками жита, интересами телесными. И такая молитва может придти слишком поздно! Много лет спустя после смерти молившегося! Явится душа на тот свет, предстанет на суд праведный, положит обвинитель на левую чашку весов грехи да грехи – целые пуды грехов, а защитник стоит с пустыми руками и нечего класть ему. Крикнет тогда еврей в ужасе: «Владыка Небесный! Ведь молитву-то я во всяком случае совершал!..» Но не достигли еще небес молитвы его. И дабы он видел, что суд небесный праведен и справедлив, открывают пред ним окошечко в небе, предлагая посмотреть… Смотрит он и видит, как молитвы его валяются где-то близ жилья… А бывает, что еврей во время молитвы помыслит греховное! А всякое тело тянется к корню своему… И греховные помыслы увлекают за собою молитву в преисподнюю…
Нас всех охватил ужас и печаль. И пожелал нас ребе обрадовать и сказал:
– Могу вам сообщить радость великую! Имел я знак, что наше пасхальное сказание нигде не задержалось, что оно прямо поднялось и принято было милостиво! А сказание о единой козочке, прочитанное с новым напевом, весьма понравилось…
Не сдержался тут простак из Консковоли, прервал речь ребе.
– А мое сказание, ребе?
Поморщился ребе и говорит:
– Твоя молитва еще небес не достигла! Носится она близ нашей обители, желая войти сюда ради исправления…
А тот, дурак, снова спрашивает, будто даже с недоверием:
– Когда вы ее впустите?
– После субботы! – спокойно ответил ребе.
Из того же городка, Консковоли, приехал к нам еврей-учитель, сказав там, что едет домой к жене. Когда приехал из Консковоли богач, учитель испугался и больше не выходил к трапезе. Богач, боялся учитель, приехав домой, расскажет о нем; и миснагиды закроют его школу, а, пожалуй, и в загривок наложат. И вот сидит учитель на постоялом дворе, не появляясь к трапезе, ждет отъезда богача. Мы пожалели его, отнесли ему остатки с трапезы, немного вина… Спрашиваем мы учителя, не знает ли он, как справляет богач из Консковоли пасхальную вечерю. Но учитель ведь зол на богача, вот он и говорит:







