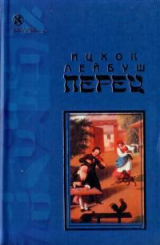
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
В тот же миг раскрылась дверь. И они увидели свадьбу.
Развалина освещена. На потолке и вокруг стен развешены черепа людей, и в их впадинах, глазных и ротовой, горят красные огни… В стороне черные музыканты, стоя, играют на черных инструментах. Черные инструменты изрыгают звуки и огненные языки пламени… Нагие женщины, с венками из красного мака на черных головах, с огненными поясами на чреслах, пляшут и ведут хоровод, и из-под их босых ног, козлиных копытец с подковками, летят огненные искры… Бешеные снопы огня вырываются из их глаз, из поясов, из их уст вместе с пением…
Шут, стоя на скамье, выкрикивает: «Шабаш! Шабаш!» – гул стоит…
А в середине хоровода пляшут молодые «танец девственной невесты»…
Взявшись за концы белого платочка, танцует отшельник с Лилит – невестой.
Он поет: «Гряди, невеста! Гряди, невеста!» и тянет к себе платочек; Лилит хохочет, все больше придвигается к жениху, вот они танцуют, уж взявшись за руки.
– Шабаш! Шабаш! – кричит во всю глотку шут; все буйнее гремит музыка, бешеней кружится хоровод, все грознее изрыгается пламя. Но вдруг в развалине почуяли непрошенных гостей, чужих людей, и все задрожало.
Поднялся шум, крик, гул и скрежет зубовный. Хоровод разорвался; замелькали в воздухе кулаки. Все устремляются на непрошенных гостей…
Но Орах-Хаим духом своим сдерживает их на расстоянии. Подняв, готовясь прыгнуть, одну ногу, стоят нечистые в четырех локтях от него, и не могут преступить границы. Стоят оцепенелые, будто окаменевшие, лишь руки их сжаты в кулак, зубы скрежещут и глаза горят злобой…
– На помощь! На помощь! – крикнула Лилит.
И сейчас же послышался шум и гул снаружи… Бурный ветер налетел откуда-то, носится вокруг развалины, пытаясь ворваться внутрь, но не может…
Вся развалина дрожит, в стоне вихря слышатся тысячи криков, но ворваться нельзя ему. Орах-Хаим сдерживает его усилия духом своим, своими заклинаниями. Развалина наполняется духом святым и заклинаниями; дух спирает у черной рати, широко разеваются рты, красные языки высовываются… Черная рать отступает, ежится, задвигается в уголки. Тогда Иоханан, подняв свой топор, прицелился в голову Лилит, и ловким взмахом пустил его. Топор расщепил ведьму пополам от головы до самых ног…
И тотчас же отшельник упал лицом к земле… И вмиг ветер затих, исчезли лики, инструменты лопнули, потухли огоньки, черепа упали со стен и рассыпались в прах, настала тишина… И некое черное, чернокрылое существо схватило отшельника с земли, при полете распахнуло окно и исчезло…
Через раскрытое окно ворвался свежий рассвет.
* * *
– Так-то, так-то, господа! – легче вздохнул Орах-Хаим.
Скрылся лже-отшельник; кто знает, предали ли его погребенью на кладбище. В городе думали, будто отшельник отправился совершать искус скитаний…
Судебного служку мы вдвоем, я и Иоханан, едва привели в чувство и доставили домой. Ни одна душа ничего не видала…
Раввинша ни о чем не знала. Она не заметила ни ухода моего, ни прихода… Утром она спросила меня, почему я так бледен, но я притворился, будто не слышу.
– Теперь вы знаете, что за значение может иметь такой еврей, как Иоханан. Простой еврей обладает нюхом и чует такое, чего не почуял такой ученый, как Орах-Хаим… И если Орах-Хаим силен мыслью, духом, заклинаниями, то у этого еврея есть сильная рука, и в руке острый топор. И без долгих размышлений он кидает топор, куда следует, и попадает…
– И все это достигнуто силой главы Псалтири… Понимаете?
А когда Иоханан-водонос явился в праведный мир, – кто, думаете, вышел встречать и приветствовать его? Царь Давид на скрипке своей…
Это показали мне во сне.
…Так рассказывал Орах-Хаим.
«Слушай, Израиль…»
 Томашове – небольшом польском городке у галицийской границы – однажды, в прекрасный летний день, полнился юноша, бедный паренек, о котором никто не знал, откуда он, кто он, где он днюет и где ночует, и который лишь время от времени являлся и просил покушать.
Томашове – небольшом польском городке у галицийской границы – однажды, в прекрасный летний день, полнился юноша, бедный паренек, о котором никто не знал, откуда он, кто он, где он днюет и где ночует, и который лишь время от времени являлся и просил покушать.
Что ж – «всякому, кто прострит свою руку», следует подать. Притом юноша ничего не брал, кроме сухого хлеба, ни денег, ни кушаний, и следовательно незачем особенно расспрашивать о нем. Однако заметили, что паренек со странностями. Глаза его, кажется, смотрят куда-то вдаль, а что перед его носом делается, он не замечает; его уши постоянно движутся, как у некоторых – брови, точно он ловит звуки из воздуха; хотя кругом тихо, как перед грозой. И так как он смотрит вдаль и прислушивается к дали, он постоянно задумчив. Когда к нему обращаются с вопросом, он содрогается, словно его разбудили из крепкого сна. И ответ его всегда краток: «да» или «нет», иначе он запутывается в собственных словах, точно в тенетах; пот проступает на лбу, и он будто не может выбраться…
Случалось, что горожанин или горожанка вздумает использовать парня, послать его куда-либо по делу. Юноша, пропав на несколько дней, возвращался с совершенно неподходящим ответом, не выполнив своей задачи не по лени, но по задумчивости.
– Застал ты того-то? (к которому его посылали).
– Только сегодня.
– Почему не раньше?
Оказывается, что, отправившись, он по дороге встретил мышку. Мышка жалобно пищала, верно не могла найти свою норку… Потом его окликнула сверху какая-то птица, он побежал за ней, и тому подобное, так что он лишь сегодня пришел туда, куда его посылали, и ему сказали… Но этот ответ он или забыл, или перепутал, либо вовсе не понял; и все получилось навыворот… Наивно улыбаясь, он протягивает худую руку за куском хлеба – юноша все эти дни и маковой росинки во рту не имел.
В бедном городке, где и делать нечего в долгие летние свободные дни, хозяева сидят у окон и зевают, глядя на базар, не покажется ли что-либо достойное внимания. Стоя раз у окна, некий хозяин увидел пришлого бедного парня и подозвал его – делать все равно нечего, уже все мухи переловлены и передавлены, остается лишь поболтать с парнем.
– Зайди-ка, паренек, в дом.
Юноша отрицательно мотает головой: он мол, не хочет.
– Почему?
– Так!
Засмеялся хозяин, не поленился выйти из дома и, сев на порог, завел разговор:
– Как звать тебя, молодчик?
– Как меня зовут? – повторяет за ним парень. – Авраам! Кажется, что Авраам? Да, – Авраам!
– Ты наверняка не знаешь?
Он никогда не знает наверняка, да и как знать? Так много кажущегося. Хозяин смеется.
– А фамилия твоя как?
Об этом парень и представления не имеет. И он наивно переспрашивает, зачем оно нужно.
И хозяин ему объясняет:
– Ведь Авраамов может быть много, легко перепутать…
– Так что с того?..
– А чей ты, парень?..
– Отцов.
– А как звать твоего отца?
– Его имя: Отец.
– А где живет твой отец?
– Там же, где твой Отец проживает! – И Авраам подымает палец, указывая вверх на небо.
– Хорош гусь! – улыбается хозяин и спрашивает снова:
– А другого отца у тебя нет?
– Нет.
– А где твоя мать?
– Зачем нужна мать?
Хозяин держится за бока со смеху, а Авраам спрашивает;
– Могу идти?
– Сейчас, сейчас! – отвечает хозяин, истаивая от удовольствия: – А откуда ты пришел, мой умник?
– Из деревни!
– Как называется деревня? Где она находится?
Этого Авраам не знает.
– Далеко ли отсюда?
Он ходил, и ходил, и ходил…
И юноша столько раз повторяет слово: «ходил», пока язык заплетается, и он заканчивает: «и еще ходил!»
– Сколько дней и сколько ночей?
Он не считал.
Вздумалось хозяину спросить:
– А молиться умеешь?
Молиться?!.. Хозяин должен был объяснить ему, что значит: «молиться», и после девяти мер хозяйских речей, Авраам догадался, что «молиться» означает: беседовать с Отцом.
– Да, да! – говорит домохозяин, и ему кажется, что у него внутренности переворачивает от смеха.
Парень знает молитву: «Слушай, Израиль!»
– Кто тебя учил?
И юноша рассказывает, что, идя лесом из деревни в город, он встретил старика. И старец сказал ему, кто его Отец и научил говорить с Отцом, читать: «Слушай, Израиль, Господь Бог Наш, Господь Един!..» И хотя он не понимает значения этих слов, обращаемых к Отцу, но он их говорит, так как старец его уверил, что Отец понимает и радуется.
– А когда говоришь ты с Отцом?
– Трижды в день.
И при этом он играет.
– Что играешь? На чем?
– На чем случается.
В деревне он играл на травках, на аире; потом его научили делать деревянные дудки, и он играл на дудке… В городе ему подарили глиняный свисток, и теперь он свистит.
– А если бы тебе, паренек, подарили скрипку?
Глаза Авраама разгораются: Ах, как хотелось бы ему иметь скрипку, как у городских музыкантов, особенно ту тяжелую, большую скрипку, что носят на ремне через плечо… Вот уж заиграл бы!
– Позволь, – продолжает шутить мещанин-следователь, – может быть, тебе и купят такой инструмент. Покажи лишь раньше свое уменье!
Авраам вынимает из-за пазухи глиняный свисток и свистит.
По свисту замечается смятение в поднебесном царстве, слетаются стаи птиц, и носятся взад и вперед, а юноша, глядя вверх, улыбается им, потом снова прячет свисток. Но хозяин головы не поднимал и всего этого не видел. На свист появляется из дома хозяйка, затем прислуга, к окну подошли две юные парочки; все удивлены. А хозяин, желая показать перед публикой свое следовательское искусство, снова обращается к юноше:
– А чем ты питался в лесу?
Он питался грибами. Он знаток грибов.
– А раньше в деревне?
– Тем, что люди подавали…
– Кто подавал?
Крестьяне, крестьянки, даже поп и корчмарь.
– Что они тебе подавали?
И хозяин сдерживает дыхание. Сейчас обнаружится неправоверие юноши.
Авраам наивно отвечает, что подавали всякое: и щи, и рыбу, и мясо, и хлеб, но он питался одним хлебом, – все остальное он брал, но раскидывал птицам.
– А почему только хлеб?
Он любит один лишь хлеб; другие кушанья ему противны.
О том, чем он питается, его спросил и старец в лесу. И когда он сказал, что питается одним хлебом, старец похвалил его и в награду научил говорить с Отцом, – а старца этого он так любит, так любит… И он так преданно читает – Слушай, Израиль! – потому что старец ему велел…
Но хозяин все еще продолжает допрос:
– А если бы старец повелел тебе красть?
Он бы крал!
– А грабить?
Он бы грабил… Но тот никогда такого не прикажет, он добрый, этот старец…
– Но все же, если бы старец приказал тебе убить человека?
Он бы убил.
– И ты бы не побоялся Отца своего?
– Почему его бояться?
– Он может наказать.
В первый раз лицо Авраама улыбнулось.
– Вы шутите: отец не наказывает!
В это время ударили к предвечерней молитве. Хозяин побежал в синагогу рассказать в перерыве между предвечерней и вечерней молитвой, как искусно он расспросил парня.
Этот случай вероятно после долгих разговоров было бы предан забвению, если бы не другое происшествие.
В городе был оркестр; две скрипки, флейта, кларнет, литавры, и для полноты эффекта – бас. Бедный оркестр, играющий на еврейских представлениях и свадьбах; музыканты зарабатывают кое-что в Пурим и Хануку; а иногда, если другие оркестры заняты, их приглашают играть к мелкопоместным панам. Особенным искусством в игре оркестр не отличался.
Однажды, ранним зимним утром оркестр возвращался с панского бала. Все были навеселе, выпили чуть ли не натощак, так как покушать как следует им не пришлось, (нельзя есть христианской пищи) обошлись одним сухим хлебом. Идут вразброд, напевая, крича и ругаясь. Еврей с басом плетется позади всех, еле волочит ноги по глубокому снегу, – он был стар и слаб. Он кричит, просит, умоляет остальных не спешить, но те и слушать не хотят; идут, рассыпавшись, шутя и переругиваясь; завели спор о получке. Трезвых среди них не было… Между тем разыгралась непогода; поднялась метель. Люди живее задвигали ногами; ветер действует отрезвляюще – они побежали; добравшись до города, всякий спешит в свою хатку; падают на постели и как мертвецы засыпают. Но спать долго не пришлось: бас не вернулся домой. Жена его бросилась с криком к музыкантам, тащит их с постелей, спрашивая о муже.
Пьяные от вина и от сна музыканты приходят в себя, догадываются в чем дело и дрожат от испуга. Спохватились, побежали разыскивать баса; ни путей, ни дорог – белые, гладкие саваны – свежевыпавший невинный снег. Догадайся, где лежит бас.
Вернулись ни с чем домой. Одна лишь надежда: авось бас умудрился зайти в какую-либо деревушку.
Проходит день и другой. Морозы убрались, снег наполовину растаял; и в пятницу, когда народ направлялся в баню, вдруг въехали в городок и остановились на базаре крестьянские сани. На санях лежал замерзший бас… Покойника сейчас же обмыли и предали земле, до наступления субботы… Боялись вскрытия.
На следующий день вдова не дает приступить к чтению Торы в синагоге: пять детишек, мал-мала меньше, осталось после баса. Ей обещают о них позаботиться. Ночью был объявлен сход. Позвали музыкантов. Сход, не нашедши свободных статей дохода, порешил, чтобы музыканты обходились без баса и выплачивали вдове долю баса; но музыканты закричали: – «Не могим»! Оркестр без баса, мол, – не оркестр. На еврейских свадьбах, с позволения мира, можно было бы и без баса обойтись, но пан без баса и плясать не пойдет… Раввин пытался, правда, доказать, что благополучие еврейской души ценнее панской пляски, но музыканты дерзко заметили, что раввин, да простит он им, в музыке ни черта не понимает. Сход вступился за оскорбленного раввина. Поднялись крики, шум. Дело дошло бы до потасовки. Но по счастью случился здесь домохозяин, который вел беседу с нашим юношей и так мудро расспросил его, вот он и ударил по столу:
– Тише, государи мои!
У него, мол, готовый совет: есть парень, который очень охоч до баса и наверное научится играть… Пусть выдадут за этого парня вдову, – и волк будет сыт, и козы целы; притом миру все это ни в грош не обойдется…
Хозяин, быть может, пошутил. Но раввин и весь сход с одной стороны, музыканты с другой ухватились за этот совет, как утопающий за доску. Вдова согласилась, паренек Авраам также не прочь. И в тот же месяц сыграли свадьбу…
И внезапно Авраам получил жену, пять деток и бас со смычком в придачу.
С женою он живет мирно: никогда не бывает дома, ночует за дверью; на целые дни – где-то пропадает; разве, если случается веселье в городке, или бал у пана, тогда он играет. Разберет Авраама голод, стукнет жене в окошко, та подаст ему краюху хлеба, и он снова исчезает, пока не почувствует голода… Соседки спрашивают жену баса, каково ей живется. Та смеется: лучше и быть не может! Что нужно старухе?.. Муж не ест, не пьет; она ни разу худого слова от него не слыхала; долю заработка на руки выдают ей… Чего ей не хватает?
Авраам, как видно, также доволен. Сначала он терпел немало от музыкантов: он никак не попадал под такт, наигрывает нечто свое… Те перестанут играть, а Авраам продолжает серьезно свою партию, точно он участвует в каком-то другом оркестре, играющем где-то далеко, далеко, которого никто кроме самого Авраама не слышит… Но со временем к этому привыкли… Играя у панов, кто либо из музыкантов, когда следовало перестать, придерживал конец смычка. А на еврейских свадьбах иногда предоставляли Аврааму нарочно играть, пусть публика посмеется. Этим развеселяли народ, особенно за свадебным ужином.
Мир также доволен Авраамом. Тихий и чистый, он сидел всегда лицом к стене, чтобы не взглянуть случайно на женщину… На пирушках ничего в рот не брал: у него свой кусок хлеба с собою. Никто даже не видал, когда он ест; кроме того он заменял в течение круглого года синагогального будильщика.
Последнее потому, что у него в обычае было трижды в день сыграть на басу свое «Слушай Израиль!» Утром при восходе солнца, вечером при солнечном закате, и в полночь. На рассвете и вечером он проделывал это на лугу за городом; а в полночь на базарной площади. И звуки его баса, расплываясь среди тихой матери-ночи, врывались через двери, ворота и ставни в дома, в сердца… И в этих звуках чуялась наивно-глубокая, простая вера; и даже те, кого синагогальный молот бывало не будил, просыпались от баса, от звуков: бу-бу! буу-буу! И евреи нехотя соскакивали с постелей на служение Всевышнему, зажигали фонари и бегали к полунощной. Пан иной раз оставит, бывало, свою панну средь танца, подбежит к Аврааму и надерет его за ухо, или потянет за пейсы за игру не под такт; евреи на свадьбах глумились над Авраамом, но в обыкновенное время, просыпаясь от его баса к полунощной молитве, вздыхая, говорили:
– Простоват бедный, но в его звуках нечто таится, должно таиться!
А некоторые прибавляли:
– Бедная немая душа. Желает говорить со Нее. вышним Творцом, а другою речью не обладает.
Однажды в Томашове состоялась знаменитая свадьба, свадьба, которая случается раз в полвека. Шутка ли! Старшина люблинской общины выдавал свою дочь за сына краковского раввина, а Томашов на полпути между этими городами.
Люблинский старшина желает угостить краковского раввина, чтобы тот знал, за кого он сына просватал.
Велел старшина выкатить из погреба бочонок червонцев на свадебные расходы и послал вперед людей в Томашов, которые бы приготовили все по-царски, как полагается люблинскому старшине-богачу, удостоившемуся чести породниться с краковским раввином.
Приехав в Томашов, люди стали первым делом искать место для свадьбы: будут гости из Люблина, из Кракова и местные, томашовцы! Понаедут богачи, зажиточные домохозяева, именитые горожане, ученые талмудисты, раввины и судьи в Израиле…
И три оркестра музыки будут играть. Люблинский оркестр, краковские музыканты, а томашовцы также не уступают своего права играть на местных свадьбах.
В стороне, почти за городом стоял громадный амбар, где зимою сушились купеческие дрова, теперь спущенные на Вислу для отправки в Данциг. Сняли люблинцы амбар, с Ноев ковчег величиной, приказали его разрисовать снаружи разными красками, обили его изнутри, точно кущу, дорогими коврами, расставили там столы во всю ширину амбара, отдельные для мужчин и для женщин, украсили стены канделябрами и бумажными фонариками – раздолье для сорока десятков званых гостей. Устроили входы: один для женщин, другой для слуг, третий для музыкантов, и большие ворота посредине, с разрисованным венцом Божьей Премудрости сверху, для краковского раввина и прочих гостей…
И день свадьбы наступил. Гости съезжаются да съезжаются; их размещают в домах местных хозяев. Всякий считает это за величайшую честь и уступает гостю лучшую горницу. И когда гости уселись за свадебный ужин, когда разгорелись свечи в серебряных подсвечниках в столах, свечки в канделябрах и бумажных фонариках, и заискрились драгоценные камни в серьгах, убрусах и нагрудниках – ковчег исполнился света священной науки – краковские и люблинские ученые! А томашовские также лицом в грязь не ударят… Во главе собравшихся – краковский раввин.
Появился ряд слуг с большими полумисками рыб; зазвенели серебряные вилки да ножи; весело зажужжали разговоры за женским столом; поплыла, заливая их, ученая беседа за столом краковского раввина – но все оборвала громкая «веселая» музыка… Три оркестра заиграли, гул прокатился, задрожали от радости огоньки на столах, по стенам; краковский раввин оперся на спинку кресла и довольный прислушивается.
Он был большим знатоком музыки…
От «веселой» музыканты перешли на «валашскую», даже не перешли, а переплыли, – так незаметен был переход – плывет, течет «валашская» мелодия. Краковская скрипка играет, о чем-то ясно говорит она, проникает в сердца… И три оркестра тихо и чисто ей вторят…
И чудится, будто река течет, некая Висла, сверкая, разлилась и, тихо качаясь, шумит и дрожит в честь жениха с невестой, в честь раввина из Кракова и прочих гостей дорогих; а над рекою носится чудное диво – светлая птица, тихо летая, играет – поет она сладко-умильно, и будто плачет тихими молитвенными воплями; вдруг их прерывают выкрики страстные, веселые, возвышенные звуки и снова тихие вопли: – правда, радость велика, но нельзя забыть про изгнание Израиля, про скитания Духа Святого – и снова бурные клики радости: – все же здесь светлый праздник, собрание ученых с краковским раввином во главе!
И оркестр вдруг подымается высоко-высоко, все инструменты играют, все громче и громче, выше и выше, точно они подымаются радостью со ступеньки на ступеньку, все гудит, пляшет, светом играет, и вдруг разом обрывают, точно все струны и трубы разом лопнули. Затихли, и в тишине раздается: «Бу! бу! буу!..»
Лишь один Авраам продолжает играть; все глаза обращены на его плечи, – кругом молчание, никто бровью не моргнет, одна лишь рука Авраама движется и, вытягиваясь, сгибаясь, ведет смычком:
– Бу, бу, буу, буу!..
Музыканты нарочно подстроили такую штуку, чтобы развеселить публику.
Но им не удалось.
Музыканты ждут – не дождутся, чтобы народ прыснул смехом, но народ глядит на Авраама и переводит взоры на краковского раввина; в его присутствии смеяться не станут; лица морщатся, губы кривятся, глаза выпирает от смеха, но все смотрят на краковского раввина и ждут. А краковский раввин сидит, опершись высокой меховой шапкой на спинку стула, с нависшими бровями и закрытыми глазами – не задремал ли краковский раввин?..
А бас продолжает выводить:
– Бу, бу, буу, буу!..
Народу не по себе становится.
Вдруг все глаза обратились от краковского раввина к средним воротам.
За воротами послышался шум, шаги приближаются.
Слуги подбегают, открывают ворота и испуганно кричат:
– Нет, нет! Для вас, нищих, отдельно поставят столы!
Догадываются, что нищие хотят войти. Краковский раввин подымает глаза и собирается что-то сказать, вероятно, прикажет опустить, как же иначе?
Но в эту минуту в воротах появился старец в изорванном кафтане, со всклокоченными седыми пейсами и бородою, нищий, как и все нищие, но с царственно гордым взглядом и властным, царственно величавым мановением руки… Слуги в испуге отступили перед взором его, нехотя, но с великим почтением раскрывают ворота; он махнул рукою, и они невольно расступаются и дают дорогу…
И старец в платье нищего, но со взором и поступью царскими, входит.
За мим движется целая рать нищих. Старец дошел до средины амбара и остановился, за ним длинной вереницей выстроилась нищая рать. Нее глядят молча, ошеломленные
Краковский раввин также молчит. Лишь Авраам продолжает свое; и все видят, как дрожит его сутулая спина, как рука водит взад и вперед смычком, и бас сердечно-тоскливо кряхтит
– Бу, бу, буу, буу!
Царственный старец в нищенской одежде спустя несколько мгновений раскрыл свои уста – гости спереди наклоняются через стол, другие выскакивают из-за столов без шума, на цыпочках, влекомые точно магнитом к устам старца, и все глаза остаются висеть на его устах.
И старец произнес: «Полнощь»!
– Раввин из Кракова! – продолжает он потом. – Авраам призывает к полунощной молитве… Он играет полунощную славу! Вы не верите, краковский раввин, но услышите… Дабы вы удостоились слышать, как Авраам играет полунощную славу, вам суждено было выдать своего сына за дочь люблинского старшины, чтобы Томашов оказался на полпути… А ради вас и все гости услышат, однако не все, как вы! Вы – знаток музыки!..
– Бy, бу, буу, буу! – выводит свое Авраам. Народ изумленный, точно опьяненный, молчит. Нищий старец, подняв правую руку, дает знак навесу, и навес распахнулся, полнавеса вправо, полнавеса влево, точно крылья кущи.
Показалось небо, звездное, играющее искрами небо. Над распахнувшимся навесом плывет луна. Тихо проплыла она.
Лишь только она проплыла, нищий старец снова взмахнул рукою, и небо разверзлось. В высоте плывет раздолье из самородного трепещущего света, и в этом свете, что дрожит и качается, слышится пение, музыкальная игра – то небесные сонмы читают полунощную молитву, ангелы-певчие славу поют, ангельские оркестры песню играют, и все они исполняют одну мелодию, и бас Авраама играет под их такт, он также витает в песне светлого раздолья, что, качаясь, дрожит в высоте… И в содрогании народ…
Снова взмахнул старец рукою, и сомкнулись небеса, прекратилась игра, только звездочки плывут и мелькают, как бы дрожа от тихой, грустной радости…
И снова взмахнул рукою старец, и обе половины навеса падают, смыкаются и закрывают небеса. В оцепенении, еле дыша, сидит народ, лишь бас Авраама продолжает тянуть:
– Бу, бу, буу, буу!
И вдруг смычок и бас выпали из рук Авраама. Он встал, обратился лицом к народу и начинает: «Слушай Израиль, Господь, Бог наш, Господь Един!..» Читает нараспев, под те же звуки, что раздавались в небесах.
…Он кончил и упал в обморок…
Старец подхватил его…
– Снесите его в богадельню! – приказал он слугам.
И слуги взяли его и понесли…
– Раввин из Кракова! – сказал старец после того, как вынесли Авраама. – Не ради свадьбы вы приехали, а лишь на похороны. Авраам призван на лоно небесное, там недоставало баса…
И старец исчез вместе с нищею ратью…
Так оно и было.
Авраам на следующее утро преставился в богадельне, и краковский раввин вместе со всеми гостями был на похоронах.
Говорят, что старец тот был никто иной, как святой праведник ребе Лейб-Сорес…
Вполне возможно…

Чудеса на море
 голландской земле, в осевшей полузасыпанной избушке у берега моря, также жила «немая душа» – еврей-рыбак Сатья. Имя, быть может, по его прадеду Саади и, но об этом Сатья не знал. Он вообще мало что знал о еврействе. Испокон веку рыбак, он дни и годы проводил на море. Одна всего-навсего еврейская семья среди многих не-евреев – откуда же ему знать? Сатья ловит рыбу, его жена вяжет сети и ведет хозяйство, дети катаются в песке и ищут янтарь… И когда Сатья отправляется в море, и начинается буря, и великая опасность грозит рыбаку – ни он сам на море, ни его семья дома даже не знают, как молить своего Бога… Сатья тогда молча глядит в небо; его жена рвет на себе волосы или бросает гневные, полные укоризны взоры к гневному, мрачному небу, а дети падают на песок и вместе с другими детьми взывают:
голландской земле, в осевшей полузасыпанной избушке у берега моря, также жила «немая душа» – еврей-рыбак Сатья. Имя, быть может, по его прадеду Саади и, но об этом Сатья не знал. Он вообще мало что знал о еврействе. Испокон веку рыбак, он дни и годы проводил на море. Одна всего-навсего еврейская семья среди многих не-евреев – откуда же ему знать? Сатья ловит рыбу, его жена вяжет сети и ведет хозяйство, дети катаются в песке и ищут янтарь… И когда Сатья отправляется в море, и начинается буря, и великая опасность грозит рыбаку – ни он сам на море, ни его семья дома даже не знают, как молить своего Бога… Сатья тогда молча глядит в небо; его жена рвет на себе волосы или бросает гневные, полные укоризны взоры к гневному, мрачному небу, а дети падают на песок и вместе с другими детьми взывают:
– Санта Мария, Санта Мария!
Да и откуда им было знать больше? Пешком ходить в еврейскую общину – далеко; ездить семья, еле зарабатывавшая на хлеб, не могла; да и море к тому же не отпускает. Отец Сатьи, его дед и прадед погибли в море. Но море уже силу такую имеет в себе: море – опаснейший враг человека, часто лукавый враг, и все же его любят, и тянет к нему человека, точно клещами… Нельзя от него оторваться, хотят жить на нем и погибнуть в нем…
* * *
Лишь один еврейский обычай сохранила семья – Судный день.
Накануне Судного дня Сатья утром выбирал самую крупную рыбу. Всей семьей отправлялись с этой рыбой в город и отдавали рыбу общинному резнику, у которого заговлялись и разговлялись.
Все сутки Судного дня семья проводила в голландской синагоге, прислушиваясь к пению хора, игре органа, пению и чтению кантора… Они ни слова еврейских молитв не понимали. Они лишь глядели на Святую скинию да на проповедника в шитой ермолке. Как подымется шитая золотом ермолка, и они подымаются; опустится золотая ермолка, и они также садятся. Иногда Сатья от усталости бывало задремлет, и сосед локтем будил его, когда следовало подняться… В этом состояла их служба в Судный день. О том, что это день Небесного суда, когда рыба в воде содрогается и трепещет, о том, что вообще в небе в этот день совершается – Сатья не знал. У него просто было в обычае: в Судный день слушать хор и орган, не евши, а после «заключительной» молитвы (он даже не знал, что молитва так называется потому, что в этот час небесные врата запираются на ключ), отправляться к резнику на трапезу… Сам резник также знал немного больше Сатьи. На то и Голландия!
И сейчас же после черного кофе Сатья, его жена и дети подымались, прощались с резником и его семьей и, пожелав друг другу счастья на грядущий год, отправлялись ночью пешком к морю. Не «домой», говорили они, а – «к морю».
Ни за что дольше их не удержать было.
– Как так? Ведь вы даже города еще не видали? – говорят, бывало, резник и его жена.
Сатья усмехается:
– Город!
Сатья не многоглаголив, море учит молчанию. Сатья не любит города. Там тесно, нет воздуха и нет неба. Одна лишь полоска меж крышей и крышей… То ли дело – море! Простор! Раздолье! И дышится там так вольно…
– Ведь оно – ваш враг… ваша смерть! – пытаются переубедить его резник с женою.
– Зато сладкая смерть!
Сатья желает кончить свои дни так, как кончмлего дед и отец, – чтобы море его поглотило здорового, чтобы не пришлось ему хворать долгое время издыхать медленно на постели… Слушать, как плачут над ним… И потом быть схороненным… в жесткой земле… бррр!.. Холодом веет на Сатью, как вспомнит про такую могилу…
И семья пешком отправляется домой, к морю…
И идут они всю ночь, и лишь когда начинает брезжить на востоке, они замечают золотой отблеск песчаного берега, а затем засверкает пред ними зеркало морское, и они от великой радости весело бьют в ладоши…
Жених не радуется так своей невесте…
И так проходит год за годом…
Сменяется рыбак, реже сменяется резник, а обычай сохраняется.
А обычай заключается в общей сложности: в пост, хор с органом, крупной рыбе, трапезе после, заключительной молитвы, в прощании с резником и взаимных пожеланьях…
Все это вместе представляет единственную нить, связывающую Сатью с еврейским миром…
* * *
И однажды в пятницу, в канун Судного дня случилось следующее. Заалело на востоке. Тихо просыпается море. Оно едва дышит, едва слышен шум его: оно лениво потягивается и, грезя, опять впадает в дрему… Кое-когда задрожит в голубой дали пара белых крыльев, прокричит что-либо птица… И снова тихо… Тихие блески летают по морю, золотые пятна скользят по желтому песку, и заперты рыбачьи хатки на берегу. Одна лишь дверь скрипнула: вышел Сатья…
Нынче канун Судного дня. Набожно и серьезно лицо Сатьи, тихо светятся его глаза; он отправляется на божье дело, ловить рыбу для святой трапезы!
И, подошедши к челну, он берется за цепь, которой челн прикреплен у борта. Цепь гремит. Справа и слева раздаются голоса:
– Нельзя! Нельзя!
Эго кричат соседи, высунувши головы из маленьких оконец.
Тихо и спокойно лежит, слившись с краем предрассветного, смеющегося, веселого неба, распростертое вширь и вдаль море… Едва дышит море, едва морщится оно у берегов, и, как у доброй бабушки, пляшут светлые блестящие улыбки между его морщинками… И что-то шепчет оно; бабушкину сказку сказывает море разбросанным, длинными водорослями, точно волосами обросшим скалам; и улыбаясь, играя, гладит их море по волосам… Но рыбак знает свое море и не верит ему.
– Нельзя…
Море теперь колышется, потом раскачается, и треснет вдруг светлое зеркало вод, и игра превратится в грозное дело, тихий шепот – в крик и шум, из морщин подымутся волны, громадные валы, что станут глотать челны и барки, как левиафан мелкую рыбешку…
– Нельзя…
И босой старик, с дрожащей седой непокрытой головой, с морщинистым, как у моря, лицом, но без фальшиво-сладкой морской улыбки, вышедши из хатки, подошел к Сатье и положил руку на его плечо:







