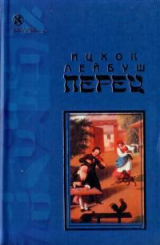
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
О звездах и созвездиях и говорить нечего… Но луна, откуда, думаете вы, она получила свою красоту?
Or нашей молитвы по случаю ее обновления…
Поверьте мне, что если бы не наша молитва, если бы не свет, исходящий из наших уст, – у нее был бы глупый вид, совсем-таки глупый, – как у оловянной тарелки в еврейской больнице.
* * *
В доказательство, истинное происшествие!
Жил, был когда-то царский сын. Овладела им грусть-тоска… Доктора хотели узнать причину его тоски. Одни говорили, что у него глаза нехорошие, что все, на что они ни взглянут, принимает желтый цвет, желто-зеленый!.. И старались подыскать очки для его глаз, но ни одни не помогли…
Другие объясняли это тем, – что он в детстве проглотил что-то, нечистую тварь какую-то, и она держится в его душе, и оскверняет его жизнь, – и для этой болезни тоже не могли найти никакого лекарства!
Как бы то ни было, царь, желая его спасти, развеселить, накупил ему массу золотых и серебряных вещей… Со всех концов света привезли ему различных благовоний, драгоценных камней и безделушек, – но ничего не помогало!
Выстроили ему дворец в саду, и в саду этом развели разного рода деревья, растенья и цветы; дорожки усыпали золотым песком; вырыли русло для реки и наполнили ее живой, ключевой водой, и по воде пустили белых лебедей с длинными белыми шеями, и те тихо и ровно колыхались над водой, словно души в раю, – но все это не помогало…
– На всем этом, – говорит царский сын, – лежит печать грусти и уныния… Дерево, – говорит он, – растет печально, цветы цветут уныло. Вода, – говорит он, – плачет в тиши, словно тоскует по ком-то; белые лебеди напоминают ему только саван.
А сладкие фрукты, наливные яблоки, гранаты, виноград, все, – говорит он, – имеет горький вкус… Горько и тошно.
Но самое худшее, бывало, когда царский сын в саду, смотрясь в воду, или во дворце, смотрясь в зеркало, увидит свое собственное лицо…
– Я мертвый, – кричал, он, – на моем лице не видно сияния жизни…
И вдруг все изменилось!
Царский сын вдруг рассмеялся!
И вдруг в саду все ожило, зазеленело, стало красиво, – все стало жить, и он вместе со всем.
А что, вы думаете, случилось? Мелочь!
По дороге, мимо сада проходил праведник. Шел он, усталый и измученный: на обряд обрезания или на другой праздник, не знаю.
Но устал он, проголодался, и жажда мучила его; того и гляди в обморок упадет! А на небе этого не хотят допустить!
Срывается яблоко с дерева и падает к ногам праведника…
Поднял он яблоко, прочел молитву и откусил… И в этот момент грусть и уныние снялось со всего; исчезло колдовство, все преисполнилось радости! Ибо, как я вам говорю: – Радость в Его обители!

Слово Божие
(Монолог хасида)
 не читать перед вами Божие Слово?
не читать перед вами Божие Слово?
Что-то вы, господа? Разве вы постигнете «нашу» Тору?
Ах, да, ведь ваши души также находились у Синайской горы? – Следовательно – нельзя про вас сказать: нет?!
«Един Творец, едина Тора и един Израиль», – говорите вы. Конечно так, никто и возражать не станет.
Однако, обратите внимание, господа! Сказано: «Нельзя постигнуть Его деяния». И действительно, Он сидит на троне славы и сочетает людей; за сорок дней до рождения младенца оповещается: «дочь сего предназначается сему!» И, что совершенно непонятно нам, человек нашего сословия, ребе Берель из Творичева просватывает свое дитя за дитя… ну, именитого богача ребе Израиля Гольденберга – человека совсем иного покроя! И оказывается, что сват нашего ребе Береля – зажиточный еврей, поставивший свой дом на барскую ногу!.. Он – миснагид, и в юных летах, как рассказывают, будучи еще настольником тестя, избил в синагоге еврея за отступление от принятого у нас текста… А к старости занял почетное положение в общине, среди «отцов» города числится.
И живет согласно своему положению – ежегодно едет с семьей на воды…
Вот он недавно возвратился из-за границы, смотрит теперь совсем юношей…
И брак был счастливый, и Господь благословил их плодами, и плод, как бабка уверяет, пригож… И мы, таким образом, будем праздновать вместе торжество обрезания, а ныне собрались на богоугодную трапезу в честь новорожденного – угощаемся горохом и компотом из слив с изюмом.
Так? Но обратите внимание: кажись, за одним столом сидим, за одним и тем же угощением, однако – едим мы по-разному!
«По еде и служба» – сказано, и наоборот…
Уважаемый ребе Израиль Гольденберг по зернышку клюет, как птичка в Субботу Песен, доволен малым, ради желудка… Да и бородка его свою долю у губ требует – пусть ест на здоровье! А там, в уголке сидит один из наших, хасид; проголодался бедный, наглотаться не может…
Сомневаюсь, вспомнит ли он про заповедь: «ешь Досыта, но в сосуд твой не клади», – дома ждет жена и дети!
Почему ты покраснел, глупец? Бедность – не порок…
«Не единым хлебом жив человек» – сказано, – душа также требует пищи, а что составляет ее пищу? – Слово Божие… Но не все одинаково его постигают… Притом, у всякого своя манера воспринимать, свои пути…
Один – «глиняная яма», что все удерживает, а другой – больной, едва поест, его сорвет…
Боже упаси, я ни на кого пальцем не указываю.
Вот наш уважаемый ребе Израиль говорил перед нами «откровение»… из жизни на водах… Там, – говорил он, – горы до небес вышиной! Он добрался до самой вершины, и в награду за труд пешехождения получил – всю окрестность, как на ладони! Глаз не мог насытиться! Сады и виноградники, города и села, дворцы и замки! На гору, рассказывал ребе Израиль Гольденберг, ведут много тропинок, коротких и длинных, с большими и малыми препятствиями… Есть также широкие дороги для лошадей! Так он передавал…
Вы думали, что я дремал… Ничуть не бывало. Я все слышал… Наверху, рассказывал он, воздух очень редок, трудно дышать! И у слабогрудых, нуждающихся в более плотном воздухе, является кровь из носу!.. Поэтому они не добираются до вершины, и получают награду за полпути: кофе со сливками! Так он передавал.
В том-то и суть: мы, хасиды, лезем по крутым скалам! Прямо вверх! А вы, миснагиды, предпочитаете умеренность и двигаетесь по широкой дороги, с лошадьми!..
Тише, тише! Я вовсе не хотел вас обидеть!
* * *
Я хочу лишь рассказать вам слово, слышанное мною от порчевского раввина. «Миснагиды, сказал он, составляют противоположность хасидов»…
В молитвеннике сказано: три вещи спасают от кары небесной: «покаяние, молитва и милостыня»… А над этими словами, мелкими буквами напечатано: «пост, глас и деньги». – Так ведь?
Мы, – хасиды читаем по порядку; прежде всего: пост! Пусть плоть знает, что не она – глава, что не ей первенствовать, что она лишь вторая скрипка! – Она нужна: нужны ноги, чтобы спешить за добрым делом; нужны руки: чтобы держать молитвенник; нужен рот, чтобы произносить слово Божие; нужен и желудок, чтобы по его милости читать молитву до и после еды. Но время от времени надо показать телу, что не оно – главное, что не для него живут, что суть не в еде, а в молитве за едой!..
Затем следует: глас. Читаем слово Божие, молимся! Глас достигает престола Божьего! Радостной службой раскрываем небеса! Поем хвалебные песни… И лишь за ними, совсем под конец: деньги. – Еврею и монета потребна. Приходится кормить жену, детей… Следует платить учителю, раздавать милостыню… И так как мы в изгнаны, то и «смазочные» нужны! Пусть те меня не вспоминают, поменьше обо мне думают; заткнешь им глотку, – и они молчат, не пристают ко мне! Требуются деньги и на страстишки всякие!..
* * *
Вы думаете, что наш брат, не едущий на воды, не покупающей дорогой мебели, не заводящий звонков у дверей и зеркал в доме, вовсе лишен страстей? Ой-ой! все и ко мне забирается! Но, видите ли, я хитер. И не так легко поддаюсь. Пользуюсь им для себя! Постучится бес, я его впускаю. – «Что тебе, нечистый? Садись, выкладывай!» Он говорит. О чем? Уговаривает меня сшить новое платье! Я не отказываюсь. Наоборот, я весь к его услугам. Какое тебе платье угодно? Атласное? Шелковое? С удовольствием. И шью себе новый кафтан в честь субботы или праздника! Хочешь «красоты?» Хорошо, – покупаю брестский талес, юзефовский пояс… Он и оставляет в покое на время… Потом является снова. Что опять? Хорошего жилья? Пусть так! Строю кущу бревенчатую, обиваю ее коврами, увешиваю плодами Святой Земли… Через некоторое время бес приходит, нашептывает что-то о пище, я не прочь; есть и еда богоугодная: вино получше для освящения субботы, в праздник трюфели.
У вас – миснагидов, тот же молитвенник, с теми же словами, но вы читаете их в обратном порядке.
Начинаете вы со слова: «деньги».
Вам необходимы большие квартиры… На стене должен обязательно висеть портрет ребе Иехезкеля Пражского… Напускаете на себя таинственность, завешиваете окна, чтобы кто-либо не глянул не вовремя! И мебель подобающая нужна. И трюфели! Праздник, не праздник, – вещь вкусная, всегда вкусна! Кое-когда и на воды съездить не мешает…
Люб вам и почет, как в доме, так и на улице, и в синагоге. Сватов ищете поименитее и богаче себя… Чтоб опора была… А собираясь на тот свет и зная, что ваш портрет не заменит Иехезкеля Пражского, вы себя увековечиваете на иной лад: оставляете дом, или дело, в которое бы ваши наследники влезли по уши и света Божьего не взвидели… Но для всего этого надо стать богачом, и ваш «глас» об одном взывает, «деньги!..» Пусть небо вдруг разверзнется, о чем станете молить? Конечно – о деньгах!
Вам без трюфелей не обойтись. И вполне понятно: мы, хасиды, смотрим на пищу, как на манну небесную. Пудинг жирен, – хорошо; но я могу довольствоваться и куском сухого хлеба; захочу, – скажу, что это сладкий пирог. И он станет пирогом, я почувствую вкус мака в меде! Миснагидам же подавай все, как есть на деле, без прикрас, вы не мечтатели, а потому для вас главное, – деньги. А когда сутью жизни становится богатство, тогда, извините за резкость, ее удел – нищета… На столе – бархатная скатерть; но, садясь за стол, ее снимают и кладут дерюгу… Диван, кресла, стулья обиты шелком, но сверху полотняные чехлы… И вы сидите на полотне!.. И, простите, дверь во время обеда замыкается… Сказано, правда: «Всякий, кто хочет, пусть придет и ест», но это лишь затем, чтобы проповедникам было о чем мораль читать и притчи сказывать… Там, где плоть главенствует, нет места душе… Право, мы разные люди, господа… Почему вы опустили головы?
Я ведь предупреждал вас, что передаю чужие слова, сказанные к тому же в шутку… Различие между миснагидами и хасидами в самом деле гораздо более глубокое. Подымите глаза, господа! Я хочу вас с этим познакомить. Слушайте!
Тора, как вы знаете, подобна воде. Она – чистая вода, прозрачная, живая вода!
Но, если она – вода, что остается делать миснагиду?
Он плавает! По поверхности… Как-никак, а удовольствие опасное, ведь море бездонно.
Но придумали средство. Привязывают к подмышкам пузыри: «Шулхан-Арух», «Хаей Одом», и, лежа на спине, плавают… Появляется рябь: загадочное толкование Раши, удачное место у других комментаторов… Вы довольны… Качаетесь на волнах и закрываете глаза от восторга…. Восхищаетесь серебряной пеной…
Другой, посмелее, берется за «Эйн-Яков», за «Мишну», этот уж без пузырей плавает. Но голову замочить боится, держится поближе к берегу! Рисковать жизнью и ему не охота!
Совсем ученый миснагид, тот плывет гигантскими шагами, иногда дерзает опуститься на дно, и, пока хватает духу, ищет в глубине, добудет разноцветный коралл, а то и жемчужину!
А миснагид – гений? Тот смело бросается в воду, кувыркается в волнах. Что же, он не более, как фокусник!
Я не хочу преуменьшать ничьих заслуг… Да и как мне это делать? Когда сам Господь не хочет этого? В Его Торе сказано: «подобна воде» – значит: можно плавать! Но если ваша стихия – вода, то вы – рыбы, холодные рыбы!
А как быть с «терновым кустом, горящим в огне»?
Ведь Тора уподоблена также огню, и есть: «огонь, пожирающий огонь»… Еще более сильный. Такова наша Тора!.. Наша Тора горит… Наша Тора светит… Наша Тора…
Но я хочу вам попроще объяснить…
Хочу, чтобы вы познали, в чем суть «нашей» Торы…
Цадик, праведник читает слово Божие. С первого взгляда кажется: зачем оно? Ведь каждый может взять книгу и читать.
Но это не то! – Погодите, ручаюсь, что вы меня поймете…
Писано: «Ибо благостыня свеча, а Слово Божие – свет»…
Да… Благодеяние – свеча, но свеча не светит, пока ее не зажгут… У человека свечной завод, пуды свеч на склад, он однако может бродить в потемках! Слово Божие – самосвет, а благодеянию нужно чувство и постижение тайного смысла его…
Благодеяние без чувства – мертво… труп…
Руки подали милостыню, уста произнесли хвалу Господу, ноги вели в дом молитвы, но душа в этом не участвовала… Чувства не доставало! Не зажгли свеч!
А нет света, нет и радости…
И люди творят добрые дела, а ходят печальные, с грустными лицами, мрачными глазами, вздыхают, стонут…
Нет радости в благодати!
Да и как радоваться мертворожденному сыну!
Много доброго делаете, но печать печали на вас!..
Милостыню даете – из жалости… «Получи и уходи с глаз долой!» Лишь бы поскорее избавиться от нищего… На дом посылаете свою лепту, чтобы горемычного лица не видать… Вы ежедневно читаете страницу Талмуда – закон велит! Это повинность, которую следует отбыть. Своего рода каторга! В праздник у вас готовят мясное, рыбное, сладкое… Но мечтаете вы о том, чтобы праздник скорее кончился… Радуетесь звездочкам на исходе субботы! Ждете их, как Мессию! Довольны, когда наступает последний день Пасхи и можно выпить пива! И, не будь вам в обиду сказано, если вы в праздник кущей молитесь о дожде, то лишь затем, чтобы кушать в доме, а не в куще!
Радости нет в вас! Потому, что вы все плотски делаете, без души… Потому, что ваша благостыня – тепло бесчувственное, незажженная свеча!
Конечно… Не всякий удостаивается совершать яркие, живые благодеяния… И «невежа не может быть праведником». Без слова Божия – «света», без Торы, подобной огню, нельзя быть праведником… И поэтому не все хасиды держат зажженные светильники…
И собираются-таки к цадику холодные души, мерзлые души, евреи со свечами за пазухой, но без огня в глазах… Приходят грустные, печальные… И обращаются к цадику, обращаются за исправлением, за светом… И цадик, заметив это, начинает читать Божие слово… И читает слово, подобное огню… Горящую тору, зажигающую светильники… Благодеяния, совершенные без чувства и смысла, их получают… Они загораются и начинают светить… Мертвецы воскресают, обретают пламенно-яркие души, ангельские лики.
И становится светло, и является радость, веселие, восторг, любовь, братство, единение…
Все озарено сиянием!..
Чего добился цадик?
Он «огнем, посеянным ради праведников» зажег еврейские свечи!.. А когда все горят? – Сами ведь понимаете, что, как следствие этого, возникает радость, веселье, рождается восторг радения, затем – тяготение к Божеству, затем…
Впрочем, это уже не про вас… С вас довольно одной радости, радости о благом деле, радости о празднике…
Что вы делаете в Судные дни?
Месяц Элул, шутите вы, вступает в знак Дев, и вы плачете!
Миснагид живет по календарю…
Вы сморкаетесь и плачете…
Превращаетесь в плакальщиков, в баб!
И дрожите всем телом!
Мы же в эти дни веселимся, пляшем, поем! Гуляем по улицам! Как можно плакать, когда кругом светло, когда все пламенеют!..
Но если речь зашла о свете, то я вам расскажу притчу; ее вы наверное поймете! Вы знаете ведь, что существуют два светила – солнце и луна. Солнце дает свет и тепло, а луна, как вам наверное известно, – ведь вы любите луну, ваши сыновья посвящают ей стихи и вздыхают по ней – луна дает лишь свет… Ребе сидел однажды у окна – сумерками дело было.
Он любил бывало сидеть у окна сумерками… Взошла луна, и мы воочию увидели, что она нарочно показалась из-за облака, чтобы приветствовать его… Он улыбнулся. Потом обратился к нам и спрашивает, знаем ли мы про жалобу луны… Мы, конечно, говорим, что не знаем; он рассказал:
– Солнце, – говорит, – на страже днем, и ему тепло; луна же стоит на страже ночью, и ей холодно… Пришла она однажды с жалобой в небесный суд: ей, мол, холодно! Просит, чтобы ей сшили шубу!.. Суд признал ее правоту. Созвали портных со всех концов света и велели шить ей шубу! Портные говорят, что они не в состояние исполнить приказ. Они, мол, не знают, как с нее мерку снять: в течение всего месяца – она либо толстеет, либо худеет…
Ну?
Как вы скажете?
Пусть сошьют тридцать шуб! Я так и знал, что это вы поймете! Он, дай ему Бог здоровья, первый на эту мысль напал.

Меж двух гор
Между Брестским раввином и Бяльским цадиком Рассказ меламеда
 ро Брестского раввина и Бяльского цадика вы, наверное, слыхали, но не все знают, что Бяльский цадик реб Ноэхке был раньше довольно продолжительное время усердным учеником Брестского раввина, потом внезапно исчез, мыкался некоторое время по «голусу» и объявился, наконец, в Бяле.
ро Брестского раввина и Бяльского цадика вы, наверное, слыхали, но не все знают, что Бяльский цадик реб Ноэхке был раньше довольно продолжительное время усердным учеником Брестского раввина, потом внезапно исчез, мыкался некоторое время по «голусу» и объявился, наконец, в Бяле.
А ушел он от раввина вот почему: изучали Тору, но эта Тора, чувствовал цадик, «сухая» Тора… Изучают, например, какой-нибудь закон по женскому ритуалу, о молочном и мясном, о гражданских исках. Прекрасно. Приходят Рувим и Симон судиться, является с требою чей-нибудь посланный, или женщина с каким-нибудь ритуальным вопросом, – в этот момент изучение Торы получает душу, оживает, приобретает власть над жизнью. А без всего этого цадик чувствовал, что Тора, т. е. оболочка Торы, то, что лежит открыто перед всеми, на поверхности, одна сушь. Не это, чувствовал он, есть учение жизни! Тора должна жить!
Изучать каббалистические книги было запрещено в Бресте. Брестский раввин был миснагидом и по натуре своей «мстительным и злопамятным, как змей». Стоило дотронуться до «Зогара» или «Пардеса», – и он проклинал, предавал анафеме. Раз одного застали за каббалистической книгой, так раввин приказал сбрить ему бороду руками цирюльника-гоя. И что вы думаете? Человек с ума сошел, впал в меланхолию, и что еще более удивительно, ему не мог уже помочь никакой чудотворец. Шутите вы с Брестским раввином! И все-таки, как это уйти из иешибота Брестского раввина?
Долгое время цадик колебался-таки.
Но раз было ему видение. Приснилось ему, что Брестский раввин зашел к нему и сказал: «Пойдем, Hoax, я поведу тебя в нижний рай». И он взял его за руку и повел. Они очутились в обширном чертоге, где, кроме входа, через который они вошли, не было ни дверей, ни окон. В чертоге, однако, было светло, – стены, казалось цадику, были из хрусталя, и от них исходил яркий блеск.
И они ходят и ходят, и конца не видать.
– Держись за мой кафтан, – говорит раввин, – тут имеется бесчисленное количество лабиринтов, и если ты отстанешь от меня, ты заблудишься навеки…
Цадик так и сделал. Идут все дальше и дальше, и за все время он не заметил ни скамейки, ни стула, ни какой бы то ни было домашней обстановки, – ничего! – Здесь не сидят, – объясняет ему Брестский раввин, – а идут все вперед и вперед.
И он следовал за раввином. И залы становились один другого все больше, все красивее, и стены сверкали то одним цветом, то другим, то несколькими цветами вместе… Но ни живой души не встретилось им.
Цадик устал. Холодный пот облил его. Скоро холод стал пронизывать все его члены. К тому же от непрерывного блеска у него глаза заболели.
И тоска напала на него, потянуло его к евреям, к товарищам, ко всему Израилю. Шутка ли – не видать перед собою ни одного еврея!..
– Не тоскуй ни по ком, – говорит Брестский раввин, – этот чертог только для меня и для тебя: когда-нибудь и ты станешь Брестским раввином.
Тут цадик еще более испугался и ухватился за стену, чтобы не упасть. И стена обожгла его. Но не как огонь, а как лед.
– Ребе! – раздался крик его, – стены из льда, а не из хрусталя. Из простого льда!
Брестский раввин молчит.
А цадик продолжает кричать:
– Ребе, выведите меня отсюда! Я не хочу быть один с вами! Я хочу быть вместе со всем Израилем!
И едва он вымолвил эти слова, Брестский раввин исчез, и цадик остался в чертоге один.
Дороги он не знает. От стен бьет холодный ужас. А тоска по евреям, желание видеть какого-нибудь еврея, хоть бы сапожника, портного, становится все сильнее и сильнее. И он громко заплакал
– Творец мира, – молил он, – выведи меня отсюда! Лучше в аду со всем Израилем, чем тут быть одиноким!
И мгновенно перед ним предстал простой еврей в красном извозчичьем кушаке, с длинным кнутом в руке. Еврей молча взял его за рукав, вывел из чертога и исчез.
Такой-то сон «явили» ему!
И, проснувшись до рассвета, чуть заря забрезжила, он понял, что это был сон не обыкновенный. Он быстро оделся и хотел побежать в синагогу попросить ночующих там талмудистов истолковать ему сон. Но, проходя по базару, он увидал запряженную извозчичью буду, громадную, старомодную буду, и при ней извозчика в красном кушаке и с длинным кнутом в руке, точь-в-точь такого, как тот, который вывел его во сне из чертога.
Понял он, что это знамение, и, подойдя, спрашивает.
– Куда вы идете?
– Не твоей дорогой, – грубо отвечает извозчик.
– Все-таки? – просит он, – может, я пойду с вами?
Извозчик призадумался и говорит.
– А пешком такой парень не может пойти? Ступай своей дорогой!
– А куда мне идти?
– Куда глаза глядят, – отвечает извозчик и отворачивается, – какое мне дело!
Цадик понял и отправился в «скитальчество».
Как я уже сказал, объявился цадик через несколько лет в Бяле. Как все это произошло, я вам рассказывать не буду, хотя есть что послушать.
Спустя приблизительно год после его появления, меня взял к себе, в качестве меламеда, один бяльский обыватель, по имени Иехиэль. Собственно говоря, мне не очень-то хотелось поступить на это место. Реб Иехиэль, должны вы знать, был богач, из породы старосветских толстосумов. Дочерям своим он давал по тысяче червонцев приданого и выдавал их за величайших раввинов, а последняя сноха его была как раз дочерью самого Брестского раввина.
Вы сами понимаете, что если Брестский раввин и другие родственники, – миснагиды, то и реб Иехиэль должен быть миснагидом… А я как раз бяльский хасид. Как же поселиться в таком доме?
Но меня, все-таки, тянуло в Бялу. Шутка ли – с цадиком в одном городе! Думал и так и этак, и поехал, наконец. А реб Иехиэль оказался простым и истинно благочестивым евреем. Я даже ручаюсь, что сердце его, точно щипцами, тянуло к цадику. И действительно: ученым он не был, а в Брестском раввине он ничего не понимал. Мне он не запрещал общаться с Бяльским цадиком, сам же держался от него вдали. Когда я, бывало, рассказывал про цадика, он делал вид, что зевает, хотя уши, вижу я, навостряет. Только сын его, зять Брестского раввина, морщит лоб, смотрит на меня со злой усмешкой, но в пререкания не вступает, – он по натуре был не из разговорчивых.
И вот снохе Иехиэля, дочери Брестского раввина, пришло время родить. Кажется, не новость, что женщина рожает. Так при этом должна случиться такая история: известно было, что Брестский раввин за то, что сбрил, то есть велел сбрить еврею бороду и пейсы, был наказан тогдашними «цадикей гадор»[7]: оба сына его умерли в течение пяти-шести лет, и ни одна из его трех дочерей не рожала мальчиков. Притом еще у всех у них роды были, упаси Бог, какие тяжелые: каждый раз они бывали ближе к тому свету, чем к этому. Но раз в небесах хотели, чтобы между хасидами и миснагидами происходили междоусобия, то, хотя все видели и знали, что это Брестскому раввину наказание от «цадикей-гадор», он сам своими ясными глазами этого не видел. А может, и не хотел видеть. И он продолжал вести свою борьбу вооруженной рукой – анафемами и воинственным пылом, как вообще в те времена.
Мне было жалко, страшно жалко Гитель (так звали дочь Брестского раввина). Во-первых, еврейская душа, во-вторых, благочестивая еврейская душа, – такой праведницы, такого доброго сердца еще свет не видал. Ни одна бедная невеста не выходила замуж без ее помощи. Такое чудное создание, и должна страдать за непримиримость отца! И потому, как только я заметил появление повитухи, я начал действовать вовсю, чтобы послали к Бяльскому цадику… Пусть пошлют «памятку» без «приношения» – очень нужны ему «приношения»! Бяльский цадик был вообще невысокого мнения об этих «приношениях».
Но с кем об этом говорить?
Начинаю с зятя Брестского раввина. Я знаю, что душа его воистину связана с ее душой, потому что, как он это ни скрывал, их сердечная близость чувствовалась во всех мелочах, в каждом их движении… Но это ведь зять Брестского раввина, – плюнул, ушел и оставил меня с открытым ртом.
Обращаюсь к самому Иехиэлю, так он отвечает. «Она – дочь Брестского раввина. Я против него идти не могу, хотя бы, упаси Бог, угрожала опасность для жизни!» Иду к его жене – женщине благочестивой, но простой, – она мне отвечает вот что:
– Пусть мой муж прикажет, и я сейчас же отправлю к цадику мои драгоценные украшения, они стоили уйму денег. А без мужа я медного гроша не дам.
– Но памятка… чем может вам повредить памятка?
– Без ведома мужа – ничего! – отвечает она, как должна ответить благочестивая еврейка, и отворачивается от меня. И я вижу, что ей хочется лишь скрыть слезы: мать! сердце ее уже чуяло опасность…
Но когда я услышал первый крик, я сам побежал к цадику:
– Шмая! – отвечает он мне. – Что мне делать? Я буду молиться.
– Дайте мне, ребе, – молю я, – что-нибудь для роженицы – талисман, монету, что-нибудь дайте…
– От этого, упаси Бог, может еще хуже сделаться, – отвечает он, – такие вещи, без веры в них, могут лишь повредить…
Случилось это в первые дни Кущей. Что мне было делать? Роды у нее тяжелые, я помочь ничем не могу, так я совсем остался у цадика. Был я у него своим человеком. Буду, думаю, ему все время с мольбой в глаза глядеть, – авось, смилостивится…
Слухи доходят, что дело плохо. Схватки продолжаются третий день.
Сделали уже все, что могли: в синагогу бегали, сделали «обмер могил», сожгли сотни фунтов свечей в синагогах, и милостыни роздали клад целый! Всего не перечесть! Все платяные шкафы стояли открытыми, кучи монет лежали на столе, и нищие приходили и брали, кто что хотел и сколько хотел
У меня сердце защемило.
– Ребе, – говорю я, – ведь сказано: «Милостыня спасает от смерти».
А он мне отвечает, как будто не к делу:
– Может, приедет Брестский раввин?
И в ту же минуту входит реб Иехиэль!
К цадику он не обращается, как будто не видит его.
– Шмая! – говорит он, хватая меня за лацкан, – за домом стоит подвода – иди, садись и поезжай к Брестскому раввину, пусть он приедет…
И он, видно, чувствовал уже, за кем тут остановка, потому что прибавил:
– Пусть он сам увидит, что тут делается. Пусть он скажет, что делать.
А лицо у него, – что мне вам сказать: у мертвеца краше
Что ж, еду. Если, – размышляю я, – цадик знает, что Брестский раввин приедет, то из этого кое-что да выйдет. Может быть, даже мир, не между Брестским раввином и Бяльским цадиком, а между обеими спорящими сторонами вообще. Ибо действительно: если он приедет, он ведь увидит. Есть же глаза у него!..
Но в небесах, видно, не так-то скоро решается: со мною оттуда вступили в борьбу. Едва я выехал из Бялы, на небо набежала туча, да какая туча – тяжелая, черная, как смола! И разом подуло так, будто со всех сторон духи налетали. Мужик – и тот понял, в чем дело: перекрестился и говорит, что дорога будет тяжелая, и указывает кнутом на небо… Вскоре поднялся еще более сильный ветер, разорвал тучу, как рвут бумагу, в клочки, и стал гнать одну часть тучи на другую, одну на другую, точно льдины в половодье. Над головой уже два и три этажа туч. Я, собственно говоря, страху совсем не испытывал: промокнуть мне не впервые, а грома я не боюсь, – во-первых, в Кущи грома не бывает; во-вторых, дело происходило после того, как цадик трубил в рог в праздник Новолетия, а ведь известно, что после этого никакие громы не имеют силы. Когда же вдруг мне прямо в лицо ударила молния раз, другой и третий, то кровь у меня застыла в жилах. Я ясно видел, что само небо меня бьет, гонит назад!
А мужик, тоже просит, вернемся да вернемся!
Но я ведь знаю, что там человеческая жизнь в опасности. Я сижу на подводе и среди бури слышу, как родильница стонет, как пальцы зятя Брестского раввина хрустят; я вижу также перед собою омраченное лицо реб Иехиэля с запавшими, горящими глазами. Поезжай, молит он, поезжай! И мы едем дальше.
А тут льет и льет. Льет сверху, брызгаем, из-под колес, из-под ног лошадей, а дорога вся залита, буквально вся покрыта водой. По воде несется пена. Подвода, кажется, сейчас поплывет… Что мне рассказывать вам дальше? В придачу ко всему мы еще блуждали… Но я все-таки устоял.
С Брестским раввином я вернулся в «Гошайно-Рабо!»[8]
И правду сказать, как только на подводу сел Брестский раввин, стало совершенно тихо. Туча разорвалась на части, выглянуло солнце, и мы благополучно въехали в Бялу – чистые и сухие. Даже мужик заметил это и сказал на своем языке: «Велький раббин!» или «Дюжий раббин!»…
Но самое главное началось тогда, когда мы вошли.
Подобно саранче, накинулись на него все женщины, бывшие в доме… Чуть не ниц падали перед ним, и плакали. Родильницы из другой комнаты совсем не слышно было из-за плача женщин. «Или, думаю, потому, что у нее, не дай Бог, уж сил нет стонать»… Реб Иехиэль нас даже не заметил: он прижался лбом к оконному стеклу, – голова, видно, горела у него.
Зять Брестского раввина также не поворачивается, чтобы поздороваться с тестем. Он стоит лицом к стене, и я вижу, как все тело его дрожит, а головой он бьется об стену.
Я думал, – на ногах не устою. Так пробрал меня страх и жалость. Холод прошел у меня по всем членам; я чувствовал, что душа во мне холодеет…
Но вы знали Брестского раввина?
Это был человек… железный столб, говорю вам!
Высокого роста, на целую голову выше окружающих, – он внушал такой страх, – точно царь! Борода белая, длинная. Ресницы белые, густые, длинные, пол-лица осеняли. А когда он их поднял – Боже ты мой! Все женщины отпрянули, точно громом их разметало – такие у него были глаза. Бритвы, острые бритвы сверкали в них! А крик он испустил, точно лев:
– Прочь, женщины!
А потом – но уже тихо и приветливо:
– А где моя дочь?
Ему указали.
Он вошел, а я остался буквально вне себя: такие глаза, такой взгляд, такой голос! Это совсем другие приемы, другой мир. Глаза цадика светят так радушно, так тихо, на душе становится веселее; смотрит на тебя, точно золотом осыпает. А голос его, этот сладкий, бархатно-мягкий голос – Творец мира! – сразу сердце покоряет, гладит сердце так тихо, так нежно… Не страх, упаси Бог, испытываешь перед ним, душа от любви тает, от сладости любви. Она рвется из тела, чтобы слиться с его душой… Она рвется, точно мотылек к яркому пламени. А тут, Творец мира! – страх и ужас! Гаон, старых времен гаон[9]! И он-то входит к роженице!







