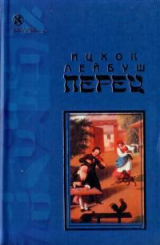
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Она сама не верит тому, что говорит. Глазами она обводит всю комнату: не найдется ли еще что заложить… ничего!
Мокрые, голые стены. Растрескавшаяся печь. Кругом сырость и холод… На лежанке – несколько разбитых горшков, на печке – старый погнутый жестяной светильник – «ханука-лемпеле». В потолке торчит гвоздь, след висевшей здесь некогда лампы. Две кровати, пустые, без подушек… И ничего больше.
Дети засыпают не скоро. Соре глядит на них с жалостью, у нее сжимается сердце… Заплаканные глаза устремились на дверь. На ступеньках, ведущих в подвал, послышались тяжелые шаги. Гремят жестяные кувшины то справа, то слева. Луч надежды озарил ее изможденное лицо. Она ударяет ногой об ногу, тяжело поднимается, подходит к двери и открывает ее. Входит бледный, сгорбленный еврей, нагруженный пустыми жестяными кувшинами.
– Ну? – тихо спрашивает Соре.
Он ставит на пол кувшины, снимает с себя коромысло, вздыхает и отвечает еще более тихим голосом:
– Ничего, опять ничего! Никто не уплатил. Завтра, говорят, отдадут. Каждый говорит. «Завтра, послезавтра, первого»…
– Дети с утра почти ничего не ели, – говорит Соре. – Хорошо, что хоть спят… Бедные дети…
Она не может удержаться и начинает тихо плакать.
– Чего же ты, глупая, плачешь? – спрашивает муж.
– Ох, Мендель, Мендель, дети так голодны.
Усилием воли она старается остановить слезы.
– И чем же все это кончится? – говорит она печально. – Что ни день, становится все хуже.
– Хуже? Нет, Соре, не греши. В прошлом году было хуже, куда хуже. Мы и тогда были без куска хлеба, но к тому же еще без квартиры! Тогда дети валялись днем на улицах, ночью где-нибудь на задворках… теперь же они лежат на тюфяке и под кровлей.
Соре разрыдалась сильнее.
Она вспомнила, что именно тогда, посреди улицы, она лишилась ребенка. Он простудился, охрип и умер.
Умер, как в пустыне… Нечем было и спасать… И он угас, как свечка, остальным деткам на долгие годы… И то сказать, не бегали в синагогу взывать к Всевышнему, не ходили на могилы молить души покойников о заступничестве, даже не пошептали от дурного глаза.
Он старается утешить ее:
– Полно, Соре, не плачь… не греши…
– Когда же, наконец, Бог сжалится над нами?
– Да имей ты сама жалость к себе, не принимай всего так близко к сердцу! На кого ты стала похожа! Всего прошло десять лет после нашей свадьбы, а посмотри на себя… Посмотришь, так сердце разрывается. А ведь ты была самой красивой девушкой в городе.
– А ты? Помнишь, тебя называли Мендель-силач. Теперь ты согнулся в три погибели, хвораешь… хоть и скрываешь это от меня… Ох, Боже мой! Боже мой!
Просыпаются дети.
– Кушать!.. Хлеба!
– Боже упаси! Да кто это сегодня ест! – вдруг отзывается Мендель. Дети испуганно вскакивают с постели.
– Сегодня пост, – говорит Мендель с угрюмым лицом.
Дети не сразу сообразили.
– Пост? Какой пост? – спрашивают они сквозь слезы.
И Мендель, опустив глаза, поясняет, что сегодня во время утренней молитвы обронили Тору с амвона.
– Поэтому, – говорит он, – объявлен на завтра пост, всем, даже грудным детям.
Дети молчат, и он продолжает:
– Пост такой же важный, как Иом-Кипур и Тише-б'ов; начинается он сегодня вечером.
Дети быстро соскакивают с постели и босиком, в рваных рубашонках, начинают кружиться по комнате, весело вскрикивая:
– Поститься! Мы будем поститься!
Мендель заслоняет спиной каганец, чтоб дети не заметили, как мать заливается слезами.
– Тише, тише! – старается он успокоить детей. – В пост нельзя плясать: даст Бог, попляшем в Симхас-Тору.
Дети улеглись.
Забыт голод.
Одна из девочек начинает петь:
На горе высокой…
Дрожь пробегает у Менделя по всем членам.
– Петь также грешно, – говорит он глухим голосом.
Дети понемногу успокаиваются и засыпают, утомленные пляской и пением.
Один только старший мальчик еще не спит и спрашивает:
– Папа, когда мне минует тринадцать лет?
– Долго еще до этого, Хаимель, долго – целых четыре года, – дай Бог тебе здоровья.
– Тогда ты мне купишь «тфилн[19]»?
– А то как же?
– И мешочек для них?
– Разумеется.
– И молитвенник купишь? Маленький, с золотым обрезом?
– С Божьей помощью… Моли Бога, Хаимеле.
– Тогда я уж ни в один пост не стану есть.
– Да, да, Хаимель, ни в один пост…
А про себя он прибавляет:
– Боже великий, только не знать бы им таких постов, как сегодня.

Замужество
(Рассказ еврейки)
 помню то время, когда я играла в камешки и летом пекла на дворе булки из глины. Зимой я по целым дням просиживала у колыбели своего больного братишки, который родился хилым и, проболев до семи лет, умер от поветрия.
помню то время, когда я играла в камешки и летом пекла на дворе булки из глины. Зимой я по целым дням просиживала у колыбели своего больного братишки, который родился хилым и, проболев до семи лет, умер от поветрия.
Летом этот несчастный ребенок до самого вечера сидел на дворе, греясь на солнышке, и следил за тем, как я играю в камешки.
Зимой он не покидал колыбели, а я рассказывала ему сказки и напевала песенки. Остальные братья уходили в хедер.
Мать бывала занята по целым дням. Бедная мать, сколько у нее было профессий! Она была торговкой, пекла пряники, ходила на свадьбы и на обрезания, наблюдала за обрядом омовения в микве, совершала «обмер могил»[20] была начетчицей в синагоге и, сверх всего, закупала провизию для зажиточных хозяек.
Отец за три рубля в неделю служил писцом на лесной даче у реб Занвиля Теркельбаума. То были еще счастливые времена: меламедам было уплачено, за квартиру платили почти исправно, не было недостатка в куске хлеба.
Иногда мать стряпала к ужину похлебку. Тогда в доме бывал настоящий праздник. Но это случалось редко.
Мать большей частью возвращалась домой поздно, усталая, нередко злая и заплаканная. Она жаловалась, что хозяйки не платят ей долгов. Сперва велят затрачивать свои деньги, потом предлагают прийти завтра, послезавтра. Тем временем делаются новые покупки, а доходит до расчета, хозяйка «не помнит», уплатила ли она третьего дня за осьмушку масла, до поры до времени масла не засчитывают. Надо спросить у мужа, который был при этом, – у него «железная» память, и он наверное помнит счет. Назавтра оказывается, что муж поздно вернулся из синагоги, и что хозяйка забыла спросить его; на третий день она с торжеством заявляет, что спросила у мужа, но он рассердился на нее за то, что она пристает к нему с пустяками. «Только ему и дел, что прислушиваться к бабским счетам!» И остается, что она сама вспомнит.
Потом ей начинает казаться, почти наверняка, что она осьмушку масла засчитала, и в конце концов она готова поклясться в этом. И когда бедная мать решается еще раз напомнить о масле, это называют нахальством, говорят ей, что она выдумывает, хочет выманить несколько копеек. Ее предупреждают, что если она еще раз заикнется о масле, то пусть лучше на глаза не показывается.
Мать моя, родом из богатого дома, сама теперь была бы хозяйкой наравне с другими, не отними у нее помещик приданого, и потому с трудом сносила все это. Она приходила домой с опухшими от слез глазами, с рыданиями бросалась на кровать и долго лежала так, пока не выплачет свое горе. Потом вставала и варила нам клецки с бобами.
Часто она вымещала свой гнев на нас, то есть больше всего на мне. Больного Береля она никогда не бранила, братьев, учившихся в хедере, бранила очень редко: они, бедные, и без того приходили с синяками на щеках от щипков и подбитыми глазами. Зато меня она часто, бывало, рванет за косу или даст пинка. «Руки бы у тебя отсохли, если б ты развела огонь и согрела горшок воды?» Когда же я делала это – мне доставалось еще больше: «Смотри на нее, как расхозяйничалась! Огонь развела, лишь бы зря дрова палить. Конечно, какое ей дело до того, что мне приходится надрываться! Нищей она меня сделает!»
Нередко за глаза доставалось и отцу. Мать садилась на кровать лицом к окну и, устремив свой взгляд в пространство, тяжело вздыхала. «Ему и горя мало! Он сидит себе там в лесу, как граф, дышит свежим воздухом, валяется на траве, жрет простоквашу, а может быть, даже сметану – я знаю? А у меня живот подводит».
Тем не менее это было еще хорошее время. Голодать не приходилось, и после недели, полной самыми разнообразными мелкими неприятностями, наступала веселая или, по крайней мере, спокойная суббота. Отец нередко приходил к субботе домой, а мать суетилась, заглядывала во все уголки и втихомолку улыбалась.
Часто по пятницам, на исходе дня, перед тем, как помолиться над свечами, она целовала меня в голову, и я понимала сокровенный смысл этого. Когда же случалось, что отец не приходил на субботу, мать ругала меня ведьмой, вырывала гребешком чуть ли не половину волос и вдобавок награждала несколькими пинками. Но я не плакала. Сердце дочери чувствовало, что мать проклинает не меня, а свою горькую долю!
Потом вырубили лес, отец вернулся домой, и в доме стал чувствоваться недостаток в куске хлеба На самом деле нужда коснулась только отца, матери и меня, на остальных детях она мало отразилась. Больному братишке почти ничего и не нужно было, – он хлебнет, бывало, немного супа, если ему подадут, и снова уставится в потолок. Другие дети, ходят, бедняжки, в хедер, и им необходимо дать поесть чего-нибудь горячего. Только мне довольно часто приходилось голодать.
Отец и мать постоянно со слезами на глазах вспоминали прежнее время, я же, наоборот, в тяжелое время чувствовала себя гораздо лучше. С тех пор, как в доме воцарилась нужда, мать полюбила меня гораздо сильнее.
Теперь, возвращаясь домой, она не драла меня за волосы, и на мое тощее тело не сыпались удары. За обедом отец гладил меня по голове и старался отвлечь мое внимание от того, что меня обделяют, а я гордилась, что теперь, когда надо поститься, я пощусь наравне с отцом и матерью, и считала себя взрослой девицей.
Тем временем умер мой больной братишка.
Случилось это так: однажды мать проснулась и сказала отцу. «Знаешь, Берелю, должно быть, лучше, он спал всю ночь и ни разу не разбудил меня».
Я услышала эти слова – сон у меня всегда был чуткий, с радостью спрыгнула с сундука, на котором спала, и побежала посмотреть на своего «единственного братишку» (я очень любила его и всегда так называла). Я надеялась увидать улыбку на изможденном личике, ту улыбку, которая так редко появлялась на нем… Я нашла труп. Пришлось сидеть шивэ[21]. Потом заболел отец, и к нам стал захаживать фельдшер…
Пока мы могли платить, кое-как сводя концы с концами, заходил он сам, когда же на лечение ушли последние подушки, висячая лампа и священные книги отца, до которых мать долгое время не позволяла дотрагиваться, фельдшер стал посылать своего подручного.
Подручный очень не нравился матери: носит закрученные усики, одевается по-новомодному и, кроме того, ежеминутно вставляет польские слова.
Я боялась его, до сих пор не знаю почему, и каждый раз, когда он должен был прийти, я убегала на двор и там ждала, пока он уйдет.
Однажды заболел один из наших соседей, тоже бедняк и, по-видимому, так же, как и мы, успевший распродать весь домашний скарб, – и «подручный» фельдшера (я до сих пор не знаю, как: его звали) из нашего дома направился в дом соседа. Проходя по двору, он застал меня сидящей на бревне. Я опустила глаза. Чувствуя его приближение, я вся похолодела и слышала, как сердце мое стало учащенно биться.
Он подошел ко мне, взял за подбородок, поднял мою голову и сказал простым еврейским языком;
– Такая красивая девушка, как ты, не должна быть неряшливой и не должна стесняться молодого человека!
Он отпустил меня, и я убежала в дом. Я чувствовала, что вся кровь прилила к моему лицу, и забилась в темный угол за печкой, под предлогом, будто хочу сосчитать грязное белье. Это было в среду.
В пятницу я первый раз в жизни, сама напомнила матери, что я выгляжу неряшливо, и что мне надо вымыть голову.
Мать заломила руки:
– Боже мой, ведь уж три недели, как я не чесала ее.
Но внезапно она пришла в ярость.
– Ведьма! – закричала она. – Такая здоровенная девка и не может сама позаботиться о себе! Другая на твоем месте обмывала бы еще других детей.
– Не кричи, Сореле! – взмолился отец. Но гнев матери становился все сильнее и сильнее.
– Ведьма, слышишь ты? Сейчас же вымой голову, сию же минуту! Слышишь?
Я боялась подойти к печке, где стояла горячая вода, так как, проходя мимо матери, я могла получить пинка. Спас меня по обыкновению отец.
– Не кричи, Сореле, – застонал он, – у меня и так голова болит!..
Этого было вполне достаточно. Гнев матери как рукой сняло… Я свободно прошла через всю комнату и приблизилась к горшку с водой.
Я неуклюже моюсь и вижу, как мать подходит к отцу и, тяжело вздыхая, указываешь на меня.
– Боже милостивый! – тихо обращается она к отцу, но мое ухо улавливает каждое слово. – Она растет, бедняжка, как на дрожжах, сияет, как золото… а что из того?
Отец отвечает еще более тяжким вздохом.
Фельдшер неоднократно говорил отцу, что он не так плох. От огорчений у него сделалась болезнь печени, она опухла и давит на сердце, – и только всего! Главное, ему надо пить молоко, избегать неприятностей, почаще уходить из дому, встречаться с людьми и вообще найти себе какое-нибудь дело.
Но отец жаловался, что ноги перестали ему служить. Отчего – об этом я узнала позже.
Однажды летом на рассвете меня разбудил разговор между отцом и матерью.
– Ты, бедный мой, должно быть, много ходил, когда служил в лесу.
– Еще бы, – отвечает отец, – в лесу сразу рубили в двадцати местах. Видишь ли, лес принадлежит помещику, а мужики владеют сервитутами: им принадлежит хворост и бурелом. Когда вырубают лес, они теряют сервитуты и должны покупать строевой лес и дрова на топливо. Конечно, они захотели наложить запрет и обратились к комиссару. Но спохватились они слишком поздно. Как только реб Занвиль увидел, что они почесывают затылки, он сейчас же распорядился поставить еще сорок дровосеков. Лес превратился в настоящий ад, рубили, может быть, в двадцати местах. Повсюду надо было поспевать… Что ты думаешь? Ноги распухали у меня, как бревна.
– Как человек грешит! – вздохнула мать. – А я думала, что тебе там нечего делать…
– Как бы не так! – горько улыбнулся отец. – Всего только с самого рассвета до поздней ночи на ногах!
– И все за три рубля в неделю!
– Он обещал прибавить… Тем временем, ты ведь знаешь, затонули его плоты, и он стал жаловаться, что совсем разорился.
– А ты ему так и поверил?
– Возможно…
– Вечно, – ворчит мать, – он разоряется, а между тем его состояние все растет и растет.
Наступило короткое молчание.
– Ты не знаешь, чем он теперь промышляет? – спрашивает отец, который уже почти год как не выходил из дому.
– Чем он может промышлять? Он торгует льном, яйцами, кабак открыл…
– А она что делает?
– Она, бедная, больна…
– Жалко, хорошая женщина.
– Бриллиант! Единственная хозяйка, которая не захочет чужого гроша. Она и платила бы вовремя, если бы сама что-нибудь значила у него.
– Кажется, – говорит отец, – это у него уже третья жена?
– Ну да!
– Видишь, Соре, вот тебе уже богатый еврей… и у него нет счастья в женитьбе… у каждого свое горе.
– И такая молодая! – вставляет мать. – Всего двадцать с чем-то лет.
– Ну, иди, знай! Ему наверное за семьдесят, – а такой крепкий.
– Еще бы – он еще щелкает орехи.
– И не носит очков.
– А его походка – пол дрожит под ним!
– А я, видишь, должен лежать в постели.
Меня бросило в жар при последних словах.
– Бог нам поможет, – утешает мать.
– Вот только она, она… – снова вздыхает мать и при этом бросает взгляд на сундук. – Она растет, не сглазить бы только, как на дрожжах… спереди-то… ты видел?..
– Еще бы!
– А лицо… сияет, как солнце…
После короткой паузы:
– Знаешь, Сореле, мы грешим перед Богом!
– Чем?
– А вот, дочкой. Сколько было тебе, когда ты вышла замуж?
– Я была моложе.
– Ну?..
– Ну… что?
В ту же минуту послышались два удара в ставню.
Мать вскочила с постели. В один миг она оборвала шнурок от ставней и распахнула окно, давным-давно лишенное задвижек.
– Что случилось? – крикнула она на улицу.
– Жена реб Занвиля скончалась.
Мать отпрянула от окна.
– Благословен праведный Судия! – промолвил отец… – Умереть ничего не стоит…
– Благословен праведный Судия! – повторила мать. – Только что говорили о ней…
* * *
Я переживала тогда очень беспокойное время. Сама не знаю, что со мной было.
Бывало, я не спала целыми ночами. В висках стучало, как молотками, сердце билось, точно пугалось чего-то, или чего-то желало непреодолимо; а другой раз на сердце становилось так тепло и отрадно, что хотелось все и всех обнимать, целовать, прижимать к себе.
Но кого? Братишки не давались, пятилетний Иойхонен упрямился и кричал, что не хочет играть с девчонкой. Мать… не говоря уже о том, что я боялась ее, вечно была сердита и полна забот… Отец – еще больше расхворался.
В короткое время он поседел, как лунь, лицо его покрылось морщинами, а глаза смотрели так беспомощно, с такой немой мольбой, что стоило мне взглянуть на него, чтобы я с плачем выбежала вон из комнаты.
Тогда я вспоминала своего Береля… Ему бы я все могла рассказать, могла бы целовать его, прижимать к груди… Но он лежит в сырой земле, и… я разражалась еще более горьким плачем…
Собственно говоря, слезы навертывались у меня на глаза без всякой видимой причины. Порой, бывало, я смотрю из окна на двор, слежу за тем, как луна все ближе и ближе подплывает к выбеленной ограде перед нашим окном и никак не может переплыть через нее.
И вдруг мне становится жаль луну. Мое сердце сжимается, на глазах появляются слезы и текут в три ручья по щекам.
Порой я ходила обессиленная, с бледным лицом и синими кругами под глазами. В ушах шум. Голова отяжелела.
И мне начинало казаться, что я такая несчастная, что лучше всего было бы умереть.
Тогда я сильно завидовала Берелю… Он лежит себе там, и ничто не тревожит его.
Очень часто мне, бывало, снится, что я умираю, что я лежу в гробу, или летаю по небу в одной сорочке с распущенными волосами, смотрю вниз и вижу, что делается на земле.
Как раз в это время я успела отстать от всех подруг, с которыми я когда-то играла в камешки, а новых уже не обрела.
Одна из них стала уже по субботам появляться в атласном платье с цепочкой и часами на груди; вскоре должны были праздновать ее свадьбу. Другие становились уже «невестами». Сваты и родственники женихов «обивали пороги». Девушек причесывали, мыли, наряжали, тогда как я еще бегала босиком в старой бежевой коротенькой юбке и в полинялой ситцевой кофточке, распоровшейся к тому же в нескольких самых неудобных местах и заплатанной ситцем другого цвета «Невесты» отворачивались от меня, а с более молодым поколением я стыдилась вести дружбу, а игра в камешки больше меня не забавляла.
Я поэтому днем не выходила на улицу. Мать же никуда не посылала меня, и когда я даже сама вызывалась сбегать за чем-нибудь, не пускала меня. Зато я часто под вечер украдкой уходила из дому и прогуливалась мимо амбаров, или садилась у реки.
Летом я сижу, бывало, так до поздней ночи. Вначале иногда вслед за мной выходила мать. Ко мне она никогда не подходила. Она становилась у ворот, отделывалась во все стороны и снова уходила. Мне казалось, что я слышу, как она вздыхает, глядя на меня издали.
Со временем и это прекратилось.
Я просиживала так одна целыми часами, прислушиваясь к журчанью маленькой речки и к плеску, который слышался каждый раз, когда лягушки прыгали с берега в воду, или следила глазами за каким-нибудь светлым облачком на небе…
Иногда я полудремала с открытыми глазами.
Однажды до меня издалека донеслась грустная песня. Голос был молодой и свежий и печалью отзывался во всем моем существе. То была еврейская песенка.
– Это поет подручный лекаря, – подумала я, – другой не распевал бы таких песен, а пел бы священные гимны.
У меня мелькнула мысль, что надо войти в дом, чтоб не слышать таких песен и не встретиться с «подручным». Но я не двинулась с места. Я была как бы во сне, меня охватила истома, и я осталась, хотя сердце тревожно билось…
Между тем песня раздается все ближе и ближе. Она то доносится с того берега, то звучит уже на мосту.
Я слышу шаги на песке. Мне снова хочется бежать, но ноги не повинуются, и я остаюсь на месте.
Наконец он приблизился к тому месту, где я сидела
– Это ты, Лия?
Я не отвечаю.
Шум в ушах усиливается, в висках стучит все сильнее и сильнее, и мне кажется, что никогда я не слышала такого ласкового, нежного голоса.
Он мало смущается моим молчанием, садится подле меня на бревно и глядит прямо в лицо.
Я не подымаю глаз, не вижу его взгляда, но чувствую, как горит мое лицо.
– Ты красивая девушка, Лия, мне жаль тебя.
Мне захотелось рыдать, и я убежала. Следующий и третий вечер я уже не выходила.
Но на четвертый, в пятницу, мне стало так тяжело на сердце, что я не в силах была не выйти; мне казалось, что я задохнусь в комнате. Должно быть, он поджидал меня где-нибудь в тени за домом. Как только я уселась на своем обычном месте, он вырос передо мной, как из-под земли.
– Не убегай от меня, – сказал он задушевным голосом. – Поверь мне, я тебе не сделаю ничего дурного.
Его ровный и нежный голос успокоил меня.
Он затянул тихую, грустную песню, и у меня снова выступили слезы на глазах. Я не могла удержаться и тихо заплакала.
– Отчего ты плачешь, – сказал он, прервав пение и взяв меня за руку.
– Ты поешь так грустно, – ответила я и отняла руку.
– Я сирота, один… на чужбине.
Кто-то показался на улице, и мы разбежались в разные стороны.
Я запомнила эту песенку и пела ее каждую ночь, лежа в постели. С нею я засыпала, с нею просыпалась. Но все же я часто плакала и сожалела о том, что познакомилась с подручным фельдшера, который одевается, как «немец» – по-новомодному, и бреет бороду. Если б он вел себя хотя бы как старый фельдшер и был бы, по крайней мере, набожным евреем… Я была уверена, что отец умрет, Боже упаси, от огорчения, как только узнает об этом, а мать наложит на себя руки. Тайна лежала тяжелым камнем на моем сердце. Случалось ли мне подойти к постели отца, чтобы подать ему что-нибудь, возвращалась ли домой мать, каждый раз я вспоминала о своем грехе, и у меня начинали дрожать руки и ноги, и в лице не оставалось ни кровинки. Тем не менее я каждый день обещала, что и завтра выйду к нему. У меня не было причин избегать его, – он не брал меня больше за руку, не называл красивой девушкой и только говорил со мной, учил всевозможным песенкам… Только однажды он принес мне лакомство – кусок рожка.
– Возьми, Лия!
Я не беру.
– Почему? – спрашивает он с грустью в голосе. – Почему ты не хочешь принять от меня?
У меня вырвалось: «Охотнее съела бы кусок хлеба».
* * *
Не помню, как долго продолжались наши встречи. Но однажды он пришел печальнее обыкновенного. Я сейчас же заметила это и спросила, что с ним.
– Я должен уехать.
– Куда? – спросила я упавшим голосом.
– Отбывать воинскую повинность.
Я схватила его за руку.
– Тебя возьмут в солдаты?
– Нет, – ответил он и сильно сжал мою руку. – Я нездоров, у меня слабое сердце. В солдаты меня не возьмут, но призываться я должен.
– Ты вернешься?
– Конечно.
С минуту мы оба молчали.
– Но это протянется несколько недель, – прибавил он.
Я молчу, а он смотрит на меня с мольбой.
– Будешь скучать по мне?
– Да. – Я сама едва расслышала свой ответ. Мы снова умолкли.
– Попрощаемся!
Моя рука еще лежала в его руке.
– Будь здоров, – проговорила я дрожащим голосом.
Он наклонился, поцеловал меня и быстро ушел.
Я долго стояла в забытьи.
– Лия!
Я услышала голос матери, прежний, нежный, радостный голос, как бывало в то время, когда отец еще был здоров.
– Леечка!
Давно уже так не называли меня. Меня снова бросило в жар, и с неостывшими еще от поцелуя губами я вбежала в дом. Но я не узнала нашей комнаты. На столе стояло два чужих подсвечника с зажженными свечами, водка и пряники. Отец сидел на стуле, облокотясь на подушку. Каждая морщинка на его лице ликовала. Вокруг стола стояли чужие стулья, на них сидели чужие люди. Мать обнимает меня, целует и прижимает к груди.
– «Мазел-тове»[22], дочь моя, дочурка, Леечка, «мазел-тове».
Я не понимаю, что творится вокруг меня, но сердце мое сжимается и бьется, бьется так пугливо! Когда мать выпустила меня из своих объятий, отец меня подозвал к себе. Силы покинули меня. Я опустилась перед ним на колени и прижалась головой к его груди.
– Дитя мое, – заговорил он, гладя меня по голове и перебирая мои волосы, – ты не будешь больше терпеть голода и нужды… дитя мое, ты не должна будешь больше ходить нагой и необутой… ты будешь богатой… будешь платить за обучение своих братьев… их не станут больше выгонять из хедера, и нам поможешь… я выздоровею…
– И знаешь, кто твой жених? – радостно спрашивает мать. – Сам реб Занвиль! Сам реб Занвиль прислал свата!..
* * *
Не знаю, что со мною было, но очнулась я в постели средь бела дня.
– Слава Богу! – воскликнула мать.
– Слава Его святому имени! – произнес за ней отец.
И меня снова стали обнимать и целовать… варенья подали!..
Не хочу ли я воды с сиропом? Не хочу ли вина?..
Я снова закрыла глаза и разразилась сдавленным плачем.
– Это хорошо! – обрадовалась мать. – Пусть выплачется мое бедное дитя! Мы сами виноваты, – сразу сообщили ей такую радостную весть, так неожиданно! С ней мог бы, Боже упаси, сделаться удар! Но теперь, слава Богу! Поплачь, дитя мое, отведи душу, пусть вместе со слезами уйдут все горести и начнется новая жизнь! Новая жизнь…
У каждого человека есть два ангела – ангел добра и ангел зла, и я была уверена, что, ангел добра велит мне забыть «подручного» лекаря, есть варенье реб Занвиля, пить его сироп с водою и одеваться на его счет, тогда как ангел зла велит мне, чтобы я раз навсегда заявила отцу и матери, что я не хочу этого, не хочу ни за какие блага. Реб Занвиля я еще не знала. Я, может быть, и видела его когда-нибудь, но забыла, или не знала, что это реб Занвиль… Но за глаза я ненавидела его.
Две ночи кряду мне снилось, будто я иду к венцу.
Мой жених – реб Занвиль. Меня семь раз обводят вокруг него… Но ноги мои онемели. Дружки высоко поднимают меня и несут. Потом меня ведут домой.
Мать, приплясывая, выходит на встречу… Подают свадебный ужин.
Я боюсь поднять глаза. Я уверена, что увижу слепого, одноглазого старика с длинным, предлинным носом… Холодный пот выступает на всем моем теле – ~ Внезапно он наклоняется и шепчет мне на ухо:
– Лия, ты красивая девушка!
Но голос совсем не старческий… это голос другого… Я приоткрываю глаза – другой стоит предо мною…
– Тс! – таинственно шепчет он. – Не говори никому. Я завлек реб Занвиля в лес, сунул его в мешок, привязал камень и бросил в реку. (Такую историю рассказывала мне когда-то мать). Теперь я здесь, на его месте!
Я в ужасе просыпаюсь. Сквозь скважину ставни пробивается бледный луч луны и освещает всю комнату. Теперь только я замечаю, что посреди потолка снова висит лампа, отец и мать спят на перинах, отец улыбается во сне, мать дышит спокойно… И добрый ангел говорит мне: «Если ты будешь доброй и послушной девушкой, то твой отец выздоровеет, мать на старости лет не должна будет так много и так тяжело трудиться, твои братья станут учеными раввинами, сделаются именитыми людьми, ты будешь платить за них меламедам».
– Но целовать, – нашептывает злой ангел, – будет тебя реб Занвиль… Он прильнет к тебе своими влажными усами… Он обнимет тебя костлявыми руками… Он будет мучить тебя так же, как прежних жен, он молодою вгонит тебя в гроб, а тот приедет и будет страдать, не станет больше учить песням, и ты не будешь просиживать с ним все вечера… ты будешь сидеть с реб Занвилем.
– Нет! Тысячу раз нет! Порвать «тноим»[23]!
Я не спала уже до утра.
Первой проснулась мать. Мне хочется поговорить с ней, но я привыкла в минуту опасности всегда обращаться за помощью к отцу.
Вот просыпается и отец.
– Знаешь, Сореле, я чувствую себя совсем, совсем хорошо. Увидишь, сегодня я выйду из дому.
– Хвала Его святому имени! И все благодаря нашей дочери, и все благодаря ее святому заступничеству.
– И лекарь-таки прав, молоко мне кажется очень вкусным…
Они замолчали, и добрый ангел снова заговорил во мне:
«Если ты будешь доброй и покорной девушкой, отец твой выздоровеет; если же с уст твоих сорвется грешное слово – он умрет по твоей вине».
– Слышишь, Сореле, – продолжает отец, – довольно тебе быть торговкой.
– Что ты городишь?
– То, что ты слышишь! Я сегодня же пойду к Занвилю… Он даст мне должность, или же даст взаймы несколько рублей. Мы откроем лавочку. Я буду немножко стоять за прилавком, ты немножко – потом я начну торговать хлебом…
– Дай Бог!
– Конечно, Бог даст! Сегодня, когда ты будешь набирать свадебные наряды, возьми и для себя… хоть на два платья. И почему бы и не взять? Он велел взять все, что нужно, Не пойти же тебе в синагогу в таком наряде, когда жених будет «призван к Торе»[24].
– Что ты говоришь! – отвечает мать. – Важнее детям сшить что-нибудь. Рувим бегает босиком, он на прошлой неделе занозил себе ногу и до сих пор хромает… Дело идет к зиме, им нужны рубашки, фуфайки, нужны и пальтишки.
– Возьми для всех!
– Слышишь? – говорит добрый ангел. – Если ты произнесешь грешное слово, твоя мать останется без нового платья, а ты ведь знаешь, что старое совсем износилось и висит клочьями, твои братья будут в самые сильные морозы бегать босиком в хедер, а летом ноги их будут искалечены занозами.
– Я скажу тебе по правде, – заявляет мать, – нужно было бы все определенно оговорить заранее: ведь очень добрым человеком его назвать нельзя… Нужно оговорить, сколько он оставит ей, потому что наследников будет видимо-невидимо. Если не настоящее завещание, то пусть по крайней мере даст простую расписку. Сколько еще может прожить такой, как он? Еще год, два…
– При хорошей жизни, – вздыхает отец, – живут долго.
– Долго! Не забудь, что ему семьдесят… Иногда… иногда мне кажется, будто у него мертвеет кожа под ушами…
А злой ангел нашептывает мне: «Если ты будешь молчать, ты пойдешь к венцу с мертвецом, мертвецу ты достанешься»…
Мать вздыхает.
– Все в руках Божьих, – говорит отец.
Мать вздыхает снова, а отец продолжает:
– И что можно было поделать?.. Разве был какой-нибудь лучший исход? Конечно, если б я был здоров и мог зарабатывать, если бы был хоть кусок хлеба в доме…
Он не кончает. Мне кажется, что в сердце отца что-то зарыдало.
– Будь она хоть года на два моложе, я пошел бы на крайность… Я знаю… рискнул бы в лотерее.
Я молчу.
* * *
Мой семидесятилетний жених дал денег на свадебные наряды, несколько сот злотых дал отцу и на мое имя «дополнительную расписку»[25] на сто пятьдесят злотых.
Люди говорили: выгодная партия.
Я вновь обрела подруг. Подруга в атласном платье с золотой цепочкой и часами заходила ко мне по два-три раза на день. Она была счастлива, что я не отстала от нее, – что мы венчаемся в один месяц. Были у меня и другие подруги, но эта ни на минуту не отходила от меня: «Те, другие, ведь „сморкатые девчонки“, кто знает, сколько они еще в девушках насидятся».







