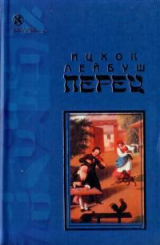
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
– Пойди, дитя, в молельню читать вечернюю молитву… Я же останусь здесь и помолюсь за тебя.
С глубокой благодарностью и любовью взглянув на учителя, Ханания вышел из беседки.
Ребе Хия, оставшись один, стал читать вечернюю молитву. Потом решил выйти в сад и под открытым небом помолиться за Хананию. Вышедши из беседки, ребе Хия заметил в нескольких шагах от себя двух змей, обвившихся вокруг двух соседних олеандровых деревьев. Змеи наклонились друг к другу головами, чуть ли, не касаются ядовитыми жалами и о чем-то шипят.
Ребе Хия знал всю живую тварь в своем саду: как тех, что летают высоко под небом, так и тех, что лежат среди ветвей на деревьях; как тех, что ползают по листьям низкорослых растений и по грядам, так и тех, что плодятся в густой траве. Ребе Хия сейчас же узнал, что одна змея – местная, другая же – пришлая, ему незнакомая, из рода гадюк.
Захотел ребе Хия узнать, зачем явилась сюда гадюка, стал в тени беседки и прислушивается. Слышит, как о том же спрашивает гадюку местная змея. И гадюка шипит ей в ответ.
– Я пришла ужалить человека…
Местная змея улыбнулась:
– Напрасны попытки твои. Я уж давно здесь обретаюсь; явилась сюда злою-презлою и стала кусать учеников. Но перестала, ибо глава семинарии ребе Хия, разъезжая купцом по далеким странам, узнал от старых шейхов, встречавшихся в пути, науку лечебную… Он из отдаленных островов привез всяких трав против змеиного укуса… Мы жалим, а он исцеляет… Убедившись, что мой труд бесполезен, я перестала жалить…
– Пустое! – ответила пришлая змея. – Травы помогают, лишь когда змея жалит по своей воле, от ненависти, начало которой в проклятии Господнем за грех, совершенный Адамом в раю… В Божьей природе заранее предуготовить лечение всякой посылаемой казни. А потому Владыка Небесный, раньше чем создать ядовитое жало змеиное, велел земле отдаленных островов, где змеи по преимуществу плодятся и множатся, произвести всякие целебные травы… Я однако этого не боюсь: я пришла не по своей воле, не по злости своей я укушу; я пришла исполнить приказ ангела смерти, пославшего меня казнить приговоренного к смерти…
– Здесь находится осужденный на смерть? Здесь, в обители ученых, праведников Божьих?! – удивилась местная змея.
– Юноша Ханания, который уединяется в ближней беседке, приговорен вышним судом к смерти.
– За что?
– Он оскорбил ученого, ученика пророка Илии… оскорбил публично… в день его свадьбы!.. Ханания отчасти уже получил наказание свое: иерусалимский рош-иешиво проклял его и во искупление греха, велел ему блуждать по пустыне, одетым во вретище, с веревкой вместо пояса, с палкой лесною в руке, сказав, что лишь тогда он вспомнит науку свою, когда расцветет та палка сухая…
– Значит: никогда! – заметила местная змея.
– Это еще неизвестно! – ответила пришлая. – Но в небе с этим приговором не согласились! Говорили, что наказание слишком мягкое; что его следует лишить царствия небесного. Но ангел Премудрости воспротивился этому предложению. Сошлись на следующем: во искупление своего греха юноша Ханания должен жениться на дочери благочестивых людей, а на восьмой день после венца скончаться… Половину греха снимет венчание и семь благословений, произносимых при этом, другую половину – смоет смерть… Но так как дщерь Израиля невинно пострадает при этом, с юных лет останется вдовою, то в утешение благословить ее чрево младенцем, который вырастет великим ученым, светилом на весь Израиль…
Змея устала от разговора; она, пожалуй, отродясь не держала такой длинной речи. Стала она просить подружку проводить ее к воде. Змеи соскользнули с дерева и, извиваясь, поползли к воде… Ужас объял ребе Хию…
Великое испытание ему предстояло. Если он не поведет Хананию под венец, он преступит против решения небесного суда, и юноша никогда не вспомнит науки… Женив, он своими руками предаст его казни! Да и как он смеет принести в жертву еврейскую дочь? Сделать ее вдовой на восьмой день после венца?..
Ребе Хия ждет ответа в небе – небо молчит. Но сердце ребе Хии начинает сильнее стучать и трепетать. Кто-то говорит ему в сердце:
– Хия, пожертвуй дочерью своею; единственной дочерью, Мирьям… Праотец Авраам над этим бы не задумался…
Но нелегко пожертвовать счастьем единственной дочери… Вспомнилось ему, что покойница-супруга обещала явиться во сне и вывести из сомнений. Поднял ребе Хия глаза свои к небу и стал об этом молиться…
Во время его молитвы исчезли тучи с неба, сразу показались миллионы звездочек, замигали ему ласково, милостиво, знаменуя добро…
Молитва ребе Хии была услышана. Однажды, сидя вечером после дня поста в своей комнате, ребе Хия задремал от усталости. И сейчас же показалась ему покойная супруга, праведная Сарра, выглядевшая как в день кончины. Взглянув на него лаской и любовью сияющими по-прежнему очами, положила правую руку ему на плечо и сказала:
– Не печалься, Хия! Счастье нашей дочери солнышком светится. Положись на нее…
Ребе Хия хотел ее расспросить, но она сейчас же исчезла. И чувствует он, как кто-то будит его… Раскрыл он глаза и увидел свою дочь, Мирьям. Та стоит перед ним, доложив правую руку на его плечо, и говорит:
– Батюшка, извини меня, что я, разбудила тебя… Солнце давно зашло, луна уже выплыла на небо и звездочки разгорелись. Пора тебе покушать, батюшка…
Увидел ребе Хия в этом как бы продолжение своего сна. Ласково взял ее за руку и, прижав к своей груди, он сказал:
– Дочь, я не прикоснусь к пище, пока не расспрошу тебя и не узнаю от тебя всей правды.
Видит ребе Хия, что она покраснела, и продолжает:
– Доченька, на свете водится, что о некоторых предметах девушка раскрывает свою душу лишь перед матерью… Но ты ведь, дочь моя, сирота; я заменяю тебе – как я и матери твоей, мир ее праху, обещал – и отца и мать… Должна ты мне поэтому всю правду сказать, ничего не утаив в душе…
Спрятала Мирьям лицо на груди его и тихо промолвила:
– Спрашивай, батюшка!
И он ей сказал:
– Подумай, дочь. Годы проходят, я уж не молод. Моя борода бела, как снег на горе Хермон. Что же будет, дитя, когда призовут меня к всевышнему суду, к матери твоей – на чье попечение я оставлю тебя?
– Батюшка, не говори мне об этом… Я всегда твою волю исполню…
– Мирьям, ты желаешь быть праведнее праматери Ревекки?
Мирьям улыбнулась: нет.
– Когда Элеазар, раб Авраама, пришел взять Ревекку в жены праотцу Исааку, сказано в Писании, то спросили девицу Ревекку, желает ли она отправиться с Элеазаром. Следовательно, она не постыдилась, просто сказала: да, я пойду!
– Спрашивай, батюшка, если знаешь о чем. Я отвечу.
И он спросил ее:
– Скажи мне правду, Мирьям, кого из учеников моих ты бы хотела иметь своим мужем?
– Хананию! – тихо ответила Мирьям, так тихо, что лишь отцовское ухо могло уловить это слово.
Удивился ребе Хия и спросил:
– Чем он понравился тебе, дочь? Разве ты с ним говорила?
– Боже упаси! – ответила она. – Притом, разве он ответил бы женщине?
Ребе Хия, улыбнувшись, спросил:
– Чем же дитя? Расскажи.
Но видя, что она не решается, он сказал:
– Я, как отец, приказываю тебе!
Она стала рассказывать, что с первой же минуты Ханания ей понравился. Во-первых – голосом: маслом ароматным он вливается в душу! Во-вторых – своей силой…
– Силой? – удивился ребе Хия.
– Конечно, сила нужна! Чтобы ходить в полотняном вретище среди стольких товарищей, не стыдясь и не боясь пересудов, громадная сила нужна.
– И только? – спрашивает ребе Хия.
– И добротой, что глядит из очей у него, и печалью своей… За душу хватает…
– Дитя, он кающийся. Тяжелый грех лежит на душе его…
– Господь должен простить его! – вырвалось у девушки. – Шла я раз мимо беседки, где он уединяется, и услыхала его молитвы! Батюшка, разве возможно, чтоб такие чистосердечные молитвы не были услышаны?
– Господь милосерден, дочь!
– Я не знаю, чем он согрешил… Но искупление его велико! На его лице написано столько раскаянья, столько горя, а иногда даже отчаяние! Его должно пожалеть!..
– И ты чувствуешь лишь жалость к нему, дочь?
– Так было сначала, отец… Будь я на твоем месте, отец, – подумала я раз, – я бы денно и нощно молилась за него… Потом я так стала думать: Будь я сестрою его, я бы за него свою душу отдала… И вдруг, отец, – ты же велишь мне всю правду сказать, – струя горячей крови прилила к моему сердцу… И мне показалось, что истинно пожертвовать собою может лишь любящая жена!.. Ты приказал, вот я и рассказываю!..
– А раз, батюшка, мне об этом такой сон приснился. Было это в праздник… в Лаг Беоймер. Ты с учениками поехал кататься по морю на корабле… Ханания также; ты велел ему… И я видела через окно, какой грустный он всходил на корабль…
Я осталась одна… Стало мне скучно одной в доме и так тоскливо… Я сошла в сад. В саду также тихо. Не слышно птичьего пения… Будто даже черви древоточцы замолкли… Меня охватила невозможная грусть и усталость…
Направилась я к цветам… Те стоят изнывшие, опустив головки; очень жаркий день выдался… Легла я на грядке у белых лилий, заложив руки за голову, и гляжу в небо… И как-то задремала. Бот тогда мне и приснилось:
Под небом летает голубь… Тихий, белый, печальный голубок… А за ним, невидимая им, носится черная птица с длинным, острым клювом, поймать его хочет. Жалко мне стало голубя, стала я кричать. Голубь не слышит, продолжает летать, но черная птица испугалась и исчезла на несколько мгновений… Потом снова явилась, летит быстрее, вот-вот схватит его… Еще более сильная, более горячая жалость охватила меня. Я кричу еще громче. Снова исчезла вспугнутая черная птица. И опять появилась… Дикий крик вырвался из груди моей… Тогда и голубок услыхал, спустился ко мне и спрашивает:
– О чем кричишь, девушка?
– Я отгоняю, – отвечаю я голубю, – своим криком невидимую тобою черную птицу, она хочет лишить тебя жизни…
– Она не хочет, но должна убить меня… Я осужден на смерть… И она лишит меня жизни, если кто-либо не решится пожертвовать собою ради меня.
– А на это, – прибавил печально голубь, – никто не пойдет-.
– Я! – крикнула я голубю. – Я готова на это…
– А ты не отступишься от своих слов?
– Нет! И я ему в этом поклялась.
Голубок склонился ко мне, любовно посмотрел мне в глаза и улетел.
Проснувшись, я поняла, что сон означал: он, Ханания – голубь… Пожертвовать собою может лишь любящая жена… А я в том поклялась!
Опечалился ребе Хия и спрашивает:
– А если Ханания не долговечен на земле? Если от него только должен произойти великий человек, а он сам уйдет молодым из мира?
– Сколько бы лет ему ни суждено было, пусть они будут благодатными! – ответила Мирьям.
Грустью сияют глаза ребе Хии.
– А как, если от него лишь должен народиться великий… весьма великий ученый, гений, – но жизнь его самого определена не годами, а лишь днями, несколькими днями после венца…
– Пусть дни! Пусть лишь дни эти будут благодатными!
– И ты согласна остаться юною вдовою?
– Богом благословленной!..
Замолчал ребе Хия, пораженный силой юной девушки.
«Судьба», – решил он.
А она, положив руку на его плечо и подняв глаза, пророческим голосом произнесла:
– Я надеюсь однако, что смерть, угрожающая ему, будет отменена! Я своей жизнью пожертвую ради него…
– Как, дочь моя?
– Я еще не знаю. Ведь я даже не знаю его греха.
– Позже он мне все уже скажет…
У ребе Хии больше не осталось сомнений, что Ханания – ее суженый. «Господь желает испытать меня, – подумал он, – но я устою», – и сказал дочери:
– Поздравляю тебя, дочь моя! Завтра с помощью Божьей состоится твое обручение.
Мирьям склонилась поцеловать его руку; когда она выпрямилась, ребе Хия почти не узнал ее. Счастье сразу озарило ее лицо, она засияла.
– И ты вовсе не боишься, Мирьям?
– Я полагаюсь во всем на Бога! – твердо ответила она. И голос ее звучал так ясно, так хрустально-чисто…
Но сердце ребе Хии не может успокоиться… Когда дочь ушла, он написал письма иерусалимскому рош-иешиво и главному раввину Вавилонии. И перед ними излил всю горечь души:
«Завтра, – писал он, – совершится обручение любимой дочери моей, Мирьям, да здравствует она… Иногда мне кажется, что я возлагаю золотой венец на ее голову, а иногда – что я веду на заклание единственную белую овечку свою…
Но против Господа и воли Его я не пойду, – писал он дальше, – я намерен через месяц их обвенчать.
Стану пока ждать ваших советов и указаний. И прошу вас помолиться за меня, за дочь и за грешного Хананию…»
Слову своему ребе Хия не изменил.
На следующий день состоялось обручение. Весь народ был изумлен.
Ученики семинарии были вне себя: «За что неучу такая честь?» Но из уважения к ребе Хии все молчали.
Прошел месяц… Ни от иерусалимского рош-иешиво, ни от вавилонского раввина ответа нет. Ребе Хия счел это дурным предзнаменованием. В утро венчания ребе Хия позвал дочь и сказал ей:
– Знай, Мирьям, что жениху твоему Ханании суждено умереть на восьмой день после венца…
И, рассказав ей про разговор змей и про сомнение, навеянное неполучением ответа на письма свои, напоминает, что она может еще вернуть жениху слово.
– Я тверда в своем решении, и сердце мое твердо. А зная приговор суда, я знаю также, как его уничтожить!
– Ты! На чьи заслуги полагаясь, какой силой? – спросил вне себя от удивления ребе Хия.
И Мирьям отвечает:
– Силой веры своей… Полагаясь на заслуги матери своей благочестивой, мир ее праху, да на твои заслуги, батюшка, на служение твое Всевышнему…
Остается ребе Хии исполнить желание ее.
Собрались гости. Жених сидит в своем вретище, не произнося ни слова…
Ребе Хия произнес вместо него полагающуюся речь, и жених слушает, переполненный радостью и печалью…
Повели жениха к невесте. Та сидит в полотняном наряде, – вероятно, чтобы не осрамить жениха, – закрыв лицо, вместо фаты, простым платком.
Приподняли платок – показалось лицо, сияющее солнцем, и глаза, ясные, верующие, тихо, – глубоко – счастливые!
Весь Цфас сбежался к венцу. Видят жениха в полотне, с перевитым веревкой станом и лесной палкой в руке, – невесту в полотняном наряде, ребе Хию довольного, но проливающего слезы… Слушают, как ребе Хия начинает читать текст обряда, как жених спрашивает, «что означают эти слова», и ребе Хия переводит ему слово в слово.
И не могут скрыть своего изумления.
Но если ребе Хия так делает, вероятно, он знает.
Еще больше изумлялись тому, что жених ни одного слова ученого не произнес, даже за трапезой все время молчал, не пришлось даже одарять новобрачных, как водится после речи жениха…
Семь брачных благословений – дело было потом – читали всю неделю в саду… По средней широкой аллее были расставлены столы, отдельно для мужчин и женщин. Невеста сидит, как нищая среди богачих, жених сидит точно немой среди ученых и раввинов, беседующих о науке.
Лишь один ребе Хия поддерживает беседу гостей.
Но и ребе Хия сидел, крайне беспокойный, часто устремляя взор на землю. Не раскаивается ли он в своем поступке? Нет. Он глазами искал пришлую змею. И вдруг он увидел, как; змея ползет невдалеке, невидимая, не сводя глаз со своей жертвы – новобрачного…
Накануне восьмого дня ребе Хия позвал к себе дочь и сказал ей изменившимся голосом:
– Дочь! Завтра день казни. Крепись!
– Я, бодра! – ответила молодая. – Мое чрево благословенно Господом.
– А, может быть, – прибавила она с твердой надеждой, – я его спасу от смерти!..
– Да поможет тебе Бог! – обливаясь горячими слезами, пожелал ей отец.
– Помни лишь, батюшка, – сказала Мирьям, – завтра утром должно чудо случиться! Палка должна расцвести, и душа его также! Он должен перед тобою держать речь! Приди же к нам, отец, пораньше… Не проспи!
Ребе Хия подумал: «Разве я засну?» Но вслух сказал:
– Хорошо.
Назавтра рано поутру, ребе Хия, пришедши, застал Мирьям уже одетой, Ханания же лежал в постели…
– Извините меня, учитель! – сказал он. – Я чувствую себя нездоровым… – И закрыл глаза.
Взглянул ребе Хия на белую палку, стоявшую в изголовье Ханании.
Не верит глазам своим: палка покрывается зеленой кожицей, кожица местами разбухает, палка покрывается почками, начинает расцветать…
Ребе Хия желает подойти ближе, чтобы убедиться в чуде, но замечает, как Ханания меняется в лице. Он покрывается румянцем. Ханания раскрыл глаза – тихие глаза его ясны, нет в них больше проклятия. Ребе Хия изумленный глядит. Ищет глазами дочь – видит ли та, но Мирьям нет…
Меж тем Ханания раскрыл уста и начал свою речь. Ребе Хия, слушая, забыл про все: про чудо, случившееся с палкой, про дочь, про змею – посланницу смерти. Жемчуг сыплется из уст Ханании, Премудрость гласит его устами; Ханания раскрывает перед ним врата нового мира науки – великолепный сад, рай с древом познания, древом жизни и всякими другими плодами. Над всем сияет ясный свет семи первых дней творения, заливая все золотым блеском… И все деревья расцветают, стаи птиц поют среди ветвей и листьев – все цветет и растет, поет и играет… Ханания говорит, и ребе Хии кажется, что душа мира говорит его устами! Не сон ли это? Так широко и далеко видят его глаза, его уши вбирают чудесные звуки, раскрытым ртом он ловит слова, срывающиеся с уст Ханании; святая, тихая радость расходится по всем его членам.
Но удовольствие ребе Хии даже не поддается описанию. Тайны премудрости, раскрытия Хананией, можно узнать в книге, несущей его имя, изданной ребе Хией… Мы же, оставив ученых за беседой, посмотрим, что делала в это время Мирьям.
Едва заметив, что палка расцветает и что отец загляделся на палку, Мирьям схватила одежды мужа и вышла из комнаты… Тихо и легко ступала она, ковер вполне заглушал ее легкие шаги… Бежит по комнатам к самой крайней, что близ сеней-. Ни души не встретилось ей по пути. Она еще с вечера приказала, чтобы никто не смел показаться до ее зова. Оглянувшись и убедившись, что нет никого, она сбросила с себя свое платье.
– Господи! – прошептала она. – Ради спасения души его, прости мне мой грех переодевания! – и одела полотняные одежды своего мужа Выбежала в сени, открыла дверь и села на пороге при входе в сад. Сидит молча и глядит на аллею, что тянется от двери вдаль, теряясь среди олеандров…
Увидев наконец, что змея сползла с олеандрового дерева и заползла по аллее, Мирьям закрыла лицо руками и, приняв позу мужа своего, Ханании, зашептала молитву, молит Творца миров принять её жертву.
Она оставила лишь узкую щель меж пальцами, видит, как змея ползет и приближается… Змея движется медленно, спокойно, уверенно; знает, что жертва не убежит от нее. Видя Хананию, сидящего спокойно на пороге с закрытыми глазами, змея думает: «Жертва тихо сидит; душа худое ему предвещает; он, верно, молится или исповедуется…» Высунула змея свое ядовитое жало, держит его наготове – оружие свое! Мирьям все это видит. Замечает, что змея быстрее задвигалась. Желание укусить пробудилось в ней! Мирьям слышит уже, как шуршит ее брюхо по песку, слышит дыхание ее… Когда же змея настолько приблизилась, что стали ясно заметны пятна на коже ее, Мирьям закрыла глаза, теснее сдвинула пальцы, и, еле дыша, молит сердцем своим: «Владыка Небесный, прими мою жертву»… Тихо, без слов, не шевеля даже устами, едва дыша. Еще не окончив молитвы своей, она почувствовала укус… Упала на порог, взывая:
– Владыка Небесный! Прости мне за того младенца, которым благословил ты чрево мое!.. Пусть вместо него живет Ханания! – И впала в беспамятство.
Душа ее с большими муками расстается с юным телом
Но Бог – Господь справедливости!
Когда душа Мирьям поднялась в небо, там уже ждали ее, правильнее, душу Ханании… Праведники райские вышли навстречу ей.
И когда она предстала перед небесным судом, ее лишь для соблюдения обычая – ведь они о Ханании раньше все знали, – спрашивают:
– Верно ли ты, душа, рассчитывалась с людьми?
– Я никогда торговлей не занималась, – отвечает Мирьям
– Учила ли ты Слово Божье?
Душа Мирьям мило усмехнулась:
– Разве Владыка небесный заповедал дщерям Израиля заниматься наукой?
Шум поднялся в небесах.
– Кто ты? Кто ты?
И она отвечает: Мирьям, дочь Сарры и Хии, жена Ханании…
Усилился шум… Узнают, что она пожертвовала собою ради мужа… Что змея ошиблась… Что невинная взята на небо… И кричат душе:
– Спеши скорей назад, снова вернись в тело свое, раньше, чем тронут его!
Но Мирьям не желает! Дважды испытывать муки предсмертные, – говорит она, – никто не обязан!.. Разве, – прибавляет она, – если эта первая смерть моя заменит смерть Ханании, а он останется в живых!
И голоса раздаются в суде:
– Согласны! Согласны! – Боятся, как бы не опоздала душа!.. И душа Мирьям в мгновение вернулась к телу, Мирьям поднялась с места даже исцеленная, будто ничего не бывало… Радостная, едва переодевшись, вбежала она в комнату к праведникам и рассказала, что с нею случилось… В ту же минуту прибыли два посланца с письмами. Один – от иерусалимского рош-иешиво, другой – от вавилонского главного раввина. В обоих письмах было лишь по одному слову.
– Поздравляем!
О великом ученом, родившемся от брака Ханании и Мирьям, о радостях, доставленных внуком старику ребе Хии, мы, при соизволении неба, расскажем в иной раз.
Пока лишь прибавим, что змею, давшую себя обмануть, сместили, и больше она не показывается…
Гнев женщины

Мораль жизни
 дут за городом две еврейки: одна – высокая, полная, с злыми глазами и тяжелой походкой, другая – худая, бледная, маленькая, с опущенной вниз головой.
дут за городом две еврейки: одна – высокая, полная, с злыми глазами и тяжелой походкой, другая – худая, бледная, маленькая, с опущенной вниз головой.
– Ханэ, куда ты уедешь меня? – спрашивает последняя.
– Подожди, Грунэ, ещё несколько шагов, видишь, туда, к горке.
– Зачем? – продолжает Грунэ, робко, отрывистым голосом, как бы пугаясь чего-то.
– Узнаёшь, идем…
Они подошли к холму.
– Сядь, – говорит Ханэ. Грунэ послушно садится, Ханэ возле нее.
И в тишине теплого летнего дня, далеко от городского шума, начинается отрывистый разговор.
– Грунэ, ты знаешь, кто был твой муж, мир праху его?
Бледное лицо Грунэ покрывается тенью.
– Знаю, – отвечает она, закусив губы.
– Он был сойфером[16], Грунэ, благочестивым сойфером.
– Знаю, – говорит нетерпеливо Грунэ.
– Прежде чем написать букву, он совершал омовение в микве[17]…
– Грубейший вздор! Раза два в неделю, правда, он ходил туда…
– Он был истинным евреем…
– Правда.
– Да будет он заступником нашим.
Грунэ молчит.
– Ты молчишь? – удивляется Ханэ.
– Все равно!
– Нет, не все равно! Пусть он-таки заступится за нас, слышишь?
– Слышу!
– Что скажешь на это?
– Что мне сказать? Я знаю только, что он за нас не заступился…
Пауза. Обе женщины понимают друг друга: благочестивый сойфер умер, оставив вдову с тремя девочками-сиротами. Грунэ вторично замуж не выходила, не хотела дать отчима своим детям, сама работала на себя и на детей, но удачи ей не было ни в чем… «Он не был заступником их!..»
– А знаешь, почему? – нарушает Ханэ молчание.
– Эт…
– Потому что ты грешна…
– Я? – вскакивает Грунэ, как подстреленная. – Я – грешна?
– Слушай, Грунэ, всякий человеке грешен, а ты и подавно…
– Подавно?..
– Грунэ, недаром я тебя повела за город к реке, в поле… ведь свежего воздуха нам, слава Богу, не нужно… Видишь ли, Грунэ… мать и особенно еще вдова благочестивого сойфера должна…
– Что она должна?
– Должна быть богобоязненнее всех, лучше всех и внимательнее смотреть за своими дочерьми…
Бледная Грунэ стала еще бледнее. Глаза загорелись, ноздри раздулись, и синие, запекшиеся губы задрожали.
– Ханэ! – крикнула она,
– Ты знаешь ведь, Грунэ, что я тебе верный друг, но правду я тебе должна сказать, не то мне придется держать ответ перед Богом… Я сплетничать на тебя не буду, из-за меня ты не попадешь людям на язык, все останется между нами, один только Бог на небе услышит.
– Не тяни мне душу!
– Так слушай же! Коротко и ясно… вчера вечером, поздно вечером, я возвращалась с вокзала, и на горке сидела твоя Мирль…
– Одна?
– Нет!
– С кем?
– Разве я знаю? Шляпа какая-то… цилиндр даже-. Он целовал ее в шею и затылок… Она смеялась и грызла леденцы…
– Я знаю это!.. – отозвалась Грунэ замогильным голосом. – Это не в первый раз…
– Ты знала это? Что? Он – жених ее?
– Нет…
– Нет? И ты… молчала?
– Да.
– Грунэ!
Но теперь Грунэ уже спокойна.
– Теперь молчи ты и слушай, что я тебе скажу, – говорит она резким голосом, схватив Ханэ за рукав и заставляя ее сесть опять.
– Слушай, – продолжаешь она, – я тебе все расскажу, и только один Бог на небе нас услышит!
Ханэ села опять.
– Когда мой муж умер… – начинает Грунэ.
– Как ты это говоришь, Грунэ?
– Как же мне говорить?
– Без «блаженной памяти»? И нужно ведь сказать «преставился»…
– Все равно, преставился, умер – его ведь закопали…
– Он вернулся к своим предкам…
– Пусть будет так… только меня он оставил с тремя сиротками-девочками…
– Бедный, он кадиша[18] не оставил.
– Трех дочерей, старшую…
– Генендель…
– Четырнадцати лет…
– У многих такая девушка уже невеста…
– У нас хлеба не было! Не до сватовства было…
– Как ты, Грунэ, говоришь сегодня!
– Не я говорю – боль моего сердца говорит… Генендель, ты знаешь, была самой красивой девушкой в городе…
– И теперь… чтобы не сглазить!
– Теперь она – выжатый лимон, дожила до седых волос! Но тогда она сияла, словно солнце… И я была вдовой благочестивого сойфера, я берегла ее, как зеницу ока своего, я знала, что в нынешние времена… шляются всякие музыканты, портные, франтики и старые холостяки… Но на что мать? Девица в невестах должна быть чиста, как зеркало… И я добилась своего, пылинки на нее не упало, я ее берегла, стерегла, глаз не спускала, ни на миг одну из дому не выпускала, и все ей нотации, мораль читала… не смотри туда, не гляди сюда, не становись там, не ходи туда… не смотри, как птички летают…
– Ну, и очень хорошо…
– Замечательно хорошо! – сказала Грунэ с горечью. – Пойди-ка ко мне и посмотри, как она теперь выглядит! Да, она действительно честная девушка, но тридцати шести лет! Худа, хоть кости пересчитать, кожа сморщена, точно пергамент для филактерии, глаза потухшие, лицо кислое, без улыбки, губы вечно сжатые. Да, часто загораются ее потухшие глаза, но в них горит тогда ненависть, злоба, точно в аду… и, знаешь, к кому? знаешь, кого они ненавидят? кого шепотом проклинает она?
– Кого?..
– Меня! Меня – свою родную мать!..
– Что ты говоришь? За что?
– Она, может, сама не знает за что, но я знаю! Я стала между нею и миром, между нею и солнцем! Я не допустила… как бы это сказать… тепла и света к ее телу… Я думала об этом целые ночи, пока не поняла этого окончательно! Она должна меня ненавидеть… каждая частица ее тела ненавидит меня!
– Что ты говоришь!
– Что слышишь. Сестер своих она наверное ненавидит, они моложе ее и красивее!
Грунэ с трудом переводит дух, а Ханэ не может прийти в себя… Она слышит что-то ужасное, что-то худшее, чем болезнь, чем смерть, чем даже «смерть под венцом» – величайшее несчастье, которое может только постигнуть еврея, и все-таки… Владыка мира, так должно быть!
– Младшую, Лею, я уж дома не держала… я ее отдала в прислуги… – продолжала Грунэ, и ее голос стал еще более хриплым, еще более отрывистым.
– Я тогда достаточно возмущалась, – вспоминает Ханэ, – дочь сойфера в служанках!
– Мне хотелось хоть ее выдать замуж, пусть хоть у нее будет немного приданого; от моей торговли луком приданого не соберешь… И за ней я тоже смотрела… Не один хозяин умильно поглядывал на нее, не один хозяйский сынок хотел сделать из. нее игрушку для себя… но я ведь мать! И я была преданной матерью! У меня ноги подкашивались, а я десять раз в день бегала к ней на кухню, плакала, падала в обморок, мораль читала ей, хорошие, благочестивые речи говорила… Я целые ночи не спала, «Кав-Гайошор» и другие священные книги читала, а по утрам бегала к ней пересказывать прочитанное… и свое еще добавлять! Да простит мне Бог, из трех чертей я делала десять, один удар розгой я в «сквозь строй» превращала, огнем на нее дышала… И она была кроткой, честной дочерью, она позволяла руководить собой… Кроме глаз, она – вылитый отец, бледная, без кровинки, и такие добрые, влажные глаза, но она была красивее…
– Ты говоришь о ней, как об умершей, упаси Бог!..
– А ты думаешь, что она живет? Я тебе говорю, что она не живет! Она накопила приданого, а мужа дала ей я! Она, бедняжка, плакала, не хотела она его, он слишком груб, прост для нее. Но ведь ученый не женится на прислуге, да еще при тридцати рублях приданого. И я благодарила Бога и за это – портной, так портной! Ну, так он жил с ней год, отнял у нее деньги, здоровье, последние силы и бежал… Он оставил ее нагой и босой, только… с больными легкими! Она харкает кровью! Она уже тень, а не человек… Она ласкается ко мне, как маленький ребенок, ложится возле меня, как овечка… и целые, целые ночи плачет… И знаешь ты, на кого она плачется?
– На мужа своего, да сотрется память о нем!
– Нет, Ханэ, на меня она плачется, на меня! Я ее сделала несчастной! Ее слезы падают мне на сердце, как расплавленный свинец, они меня отравляют, эти слезы…
Она опять замолкает, едва переводя дыхание.
– Итак?
– Итак? Так я себе сказала: достаточно! Пусть уж моя третья дочь живет, живет так, как ей хочется… Она работает на фабрике, работает шестнадцать часов в сутки, едва зарабатывает на сухой хлеб… Ей хочется леденцов, пусть ест их! Ей хочется смеяться, баловаться, целоваться, – пусть! Ты слышишь, Ханэ, пусть! Я ей лакомств дать не могу, мужа подавно… Выжатый лимон из нее сделать – я не хочу, дать ей чахотку – нет, нет! Пусть уж моя дочь не ненавидит меня, не плачется на меня!..
– Но, Грунэ, – кричит Ханэ в испуге, – что скажут люди?
– Пусть люди прежде всего имеют сострадание к бедным сиротам, пусть не помыкают ими, как ослами, задаром! Пусть у людей будут человеческие сердца, и пусть не держат они бедных для выжимания из них соков, как из лимонов…
– А Бог! Бог, да будет благословенно Его имя?
И Грунэ подымается и кричит, как будто желая, чтоб ее услышал Бог в небесах:
– Бог должен был раньше позаботиться о тех, о старших…
* * *
Тяжелая тишина. Обе, тяжело дыша, стоят друг против друга с глазами, метающими молнии.
– Грунэ! – кричит, наконец, Ханэ. – Бог, Бог покарает!..
– Не меня, не дочерей моих! Бог справедлив, он накажет кого-нибудь другого!.. другого!
Пост
 имний вечер. Соре сидит у каганца и штопает старый чулок. Пальцы ее окоченели, и работа медленно подвигается вперед. От холода посинели губы. Часто она бросает работу и начинает бегать по комнате, чтобы согреть озябшие ноги.
имний вечер. Соре сидит у каганца и штопает старый чулок. Пальцы ее окоченели, и работа медленно подвигается вперед. От холода посинели губы. Часто она бросает работу и начинает бегать по комнате, чтобы согреть озябшие ноги.
На кровати, на голом соломенном тюфяке, спят, головами попарно в одну и в другую сторону, четверо детей, покрытых каким-то старьем.
Просыпается то один, то другой, поднимается то та, то другая головка, и раздается тоненький голосок: «Ку-ушать».
– Потерпите, детки, – успокаивает их Соре, – скоро придет отец и принесет ужин. Я вас всех тогда разбужу.
– А обед? – с плачем спрашивают дети. – Ведь мы еще не обедали.
– И обед он принесет.







