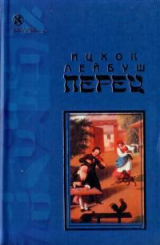
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
– Вас это все-таки интересовало?
– Меня? Упаси Бог! Все это моя жена! Дело, видите ли, вот как было: этому будет лет уж пять-шесть, шесть-таки, через год после свадьбы, мы еще жили тогда у родителей… Она себя как-то плохо чувствовала, не больна была, упаси Бог, оставалась на ногах, но так себе, не совсем здорова… Раз спрашиваю я ее, что с нею.
– Собственно говоря, – спохватывается он, – я не знаю, зачем я дурю вам голову подобными делами…
– Наоборот, – говорю я ему, – рассказывайте, реб корев…
Сосед мой смеется:
– «Солома нужна в Египте»? Вам нужны мои рассказы? Сами вы не можете их выдумать!
– Рассказывайте, реб корев, рассказывайте…
– Для публики, видно, вы пишете неправду, а для себя хотите правды?
Что можно писать правду, ему даже и в голову не приходит.
– Ну, – говорит он, – будь по-вашему…
3
– Что ж, – продолжает мой сосед, – стыдиться нечего: мы жили в отдельной комнате, я был молодым человеком, более внимательным, нежным, – спрашиваю я ее, что с нею – она начинает плакать…
Мне становится страшно жаль ее. Кроме того, что она (чтоб не сглазить, до ста двадцати лет) – моя жена, она еще – сирота, на чужбине, одинока…
– Что значит «одинока»?
– Моя мать, мир праху ее, умерла, видите ли, года за два до моей свадьбы, а отец мой, мир праху его, вторично не женился. Мать моя, да будет она нашей заступницей; была женщиной добродетельной, и мой отец не мог ее забыть… Ну, так жена моя была единственная женщина дома… У отца, мир праху его, никогда времени не было: он постоянно разъезжал по деревням, торговал чем попало: яйцами, маслом, тряпьем, щетиной, холстом.
– А вы?
– Я, сидел в бет-гамедраше над книгами!.. Ну, женщина одна, думал я, жутко ей… Но зачем же плакать? «Нет, – говорит она, – мне скучно…» Скучно? Что это значит?
Я видел, что она ходит, точно сонная. Говоришь ей что-нибудь – она ничего не слышит, задумывается иной раз, уставится в стену и смотрит, смотрит… Иной раз шевелит губами, но голоса не слыхать… Но что значит «скучно»? Все бабские выдумки: еврей, мужчина, не скучает… Еврею некогда скучать: он или сыт или голоден; или за делом, или в бет-гамедраше, или спит… если уж совсем нечего делать – курит трубку, но – скучать?!
– Не забудьте, – говорю я ему, – женщина – без изучения Торы, без общественных дел, без 613 религиозных правил…
– В этом-то и вся суть. Я тотчас же начал догадываться, что скука это – ничегонеделание, от которого можно с ума сойти. Наши мудрецы это уже давно заметили своим святым духом… Читали вы, к чему приводит безделье?
По закону, женщина не должна ходить без дела. Я ей и говорю: делай что-нибудь! А она отвечает, что хочет «читать»!
«Читать» было для меня также странным словом… Было уж, правда, известно, что у тех, которые учатся писать, «учиться» значит – читать книжки и газеты. Но я еще тогда не знал, что она такая ученая… Она со мною говорила еще меньше, чем я с нею. Она хотя женщина рослая, но голову всегда держала опущенной, губы сжатыми, будто двух слов сказать не умеет… Она вообще была тихая – овечка. И постоянно на лице ее была разлита такая озабоченность, словно у нее корабль с невесть каким добром затонул. Она хочет, – говорит она, – читать. И что? – по-польски, по-немецки… Хотя бы на жаргоне, только бы читать…
А тут в Конской Воле и следа какой-нибудь книжки нет. Мне было жаль ее, отказать ей я не мог, и я обещал, когда доеду к дяде в Люблин, купить для нее книжки…
– А у тебя ничего нет? – спрашивает она.
– У меня? Упаси Бог!
– Что же ты делаешь по целым дням в бет-гамедраше?
– Я учу Тору.
– Я тоже хочу учить Тору.
Я ей объясняю, что Талмуд – не книжка какая-нибудь, что он не для женщин, есть даже толкование в Талмуде, что женщины не имеют права изучать Талмуд, что Талмуд – то же, что библейский язык.
Но ничто не действовало. Если бы об этом узнали в Конской Воле, меня бы камнями закидали, – и они были бы правы! Я не стану распространяться дальше, а расскажу вкратце: она так долго просила меня, плакала, умоляла, так долго и так часто, что она добилась своего – каждый вечер я прочитывал и переводил ей страницу из Талмуда… Но я заранее знал, чем все это кончится…
– А чем кончилось?
– Будьте покойны… Я принялся читать из трактата «Н’зикин»[54] и таки с комментариями Раши, Тосфос, Маршо… Я барабанил, а она каждый вечер – засыпала… Не дело это для женщины – Талмуд!
К счастью, в снежную метель, разыгравшуюся в том году, в Конскую Волю забрел сбившийся с дороги книгоноша, и я принес ей пуд, целый пуд всяких книжек… Тогда все пошло наоборот: читала мне она, а засыпал я.
– И до сих пор, – закончил он, – я не знаю, зачем эти книжки. Для мужчин они наверное не годятся. Может, вы пишете только для женщин?
4
Между тем начинало светать.
В полутемном дилижансе вынырнуло желтое, длинное и худое лицо моего соседа, пара усталых красных, с темными кругами, глаз.
Он видно собирался приступить к утренней молитве: стал тереть концы пальцев о запотевшие стекла дилижанса. Но я прерываю это занятие.
– Скажите мне, пожалуйста, прошу извинения: теперь ваша жена уже – довольна?
– Что значит довольна?
– Она уж не скучает?
– У нее теперь лавчонка с солью и селедками… один ребенок у груди, двух нужно чесать и мыть, Одни носы держать у них чистыми – и того довольно на целый день…
Он снова трет пальцами стекло, но я опять мешаю ему:
– Скажите мне, реб корев: как выглядит ваша жена?
Мой сосед поднимается, бросает на меня косой взгляд, осматривает с ног до головы и строго спрашивает:
– А что, вы знакомы с моей женой? Из Варшавы, что ли?
– Упаси Бог, – отвечаю я ему, – я так себе спрашиваю: может, я буду в Конской Воле, так я хочу ее узнать.
– Вы хотите ее узнать? – улыбается он, успокоившись. – Пожалуйста! Вот вам примета; у нее родинка на левой ноздре…
………………………………………………

Сказки и картинки

Бонце-молчальник
 десь, на этом свете, смерть Бонце-молчальника прошла совершенно незамеченной. Попробуйте спросить, знал ли кто-нибудь, кто такой был Бонце, как он жил, отчего он умер: от разрыва сердца, от истощения сил, или, может быть, у него позвоночник переломился от непомерной ноши… Кто его знает? А может быть, он совсем умер с голода?
десь, на этом свете, смерть Бонце-молчальника прошла совершенно незамеченной. Попробуйте спросить, знал ли кто-нибудь, кто такой был Бонце, как он жил, отчего он умер: от разрыва сердца, от истощения сил, или, может быть, у него позвоночник переломился от непомерной ноши… Кто его знает? А может быть, он совсем умер с голода?
Если бы пала одна из лошадей, везущих конку, это скорее привлекло бы внимание. Об этом было бы написано в газетах, сотни людей сбегались бы с разных улиц, чтобы посмотреть на несчастное животное и даже на то место, где произошла катастрофа…
Впрочем, у лошадей то преимущество, что их не так много, как людей.
Тихо Бонце прожил свой век, тихо он и умер. Как тень, он прошел по миру, по нашему миру.
При обрезании Бонце не было вина, не звенели бокалы. При бар-мицво[55] он не произнес блестящей речи… Он жил, как незаметная песчинка на морском берегу, среди миллионов себе подобных. Когда же ветер поднял эту песчинку в воздух и перенес на другой берег, никто этого не заметил.
При жизни след от его ноги не запечатлелся даже на размокшей земле, а после смерти ветер сбросил маленькую дощечку, поставленную на его могиле. Жена могильщика нашла эту дощечку и сожгла ее, сварив горшок картошки… Прошли всего три дня, а могильщику уже ни за что не вспомнить, где похоронен Бонце.
Будь у Бонце надгробный памятник, то, может быть, через сто лет какой-нибудь археолог и нашел бы его, и имя «Бонце-молчальник» еще раз прозвучало бы в этом мире.
Прошел, как тень. Образ его не запечатлелся ни в уме, ни в сердце хотя бы одного человека. И следа от него не осталось.
Ни кола ни двора. Одиноким жил, одиноким и умер.
Если бы не суетня, среди которой жили люди, то кто-нибудь, пожалуй, и услыхал бы, как трещал позвоночник Бонце под тяжелой ношей. Если бы люди не были так страшно заняты, то кто-нибудь, может быть, и заметил бы, что у Бонце (тоже душа живая) уже при жизни были потухшие глаза и страшно впалые щеки; заметил бы, что и не навьюченный ношей он ходит, наклонив голову, как будто еще при жизни высматривает себе могилу. Если бы людей было так же мало, как лошадей, везущих конки, то кто-нибудь, может быть, и спросил бы: «А куда это делся Бонце?»
Когда Бонце увезли в больницу, угол, занимаемый им раньше в подвале, не остался незанятым: его уже ждали человек десять, таких же, как: Бонце, и разыграли между собою по жребию. Перенесли Бонце с больничной койки в мертвецкую, – и оказалось, что койки уже дожидаются десятка два больных бедняков… Когда его вынесли из мертвецкой, туда внесли двадцать убитых, отрытых из-под обвалившегося дома. А кто знает, сколько времени он будет покоиться в могиле, сколько человек уже ждет этого клочка земли?
Тихо родился, тихо жил, тихо умер и еще более тихо похоронен.
* * *
Не то было на том свете. Там смерть Бонце произвела сильное впечатление!
Большая труба «мессианских времен» оповестила все семь небесных сфер: «Умер Бонце!»
Величайшие архистратиги с самыми широкими крыльями перелетали с места на место и сообщали друг другу: «Бонце призван на заседание небесного судилища!» А в раю – радость, ликование шум: «Бонце-молчальник! Шутка сказать – Бонце-молчальник!»
Юные ангелочки с брильянтовыми глазками, золотыми филиграновыми крылышками и в серебряных башмачках в восторге полетели навстречу Бонце. Шум крыльев, стук башмачков и веселый смех молодых, свежих, розовых губок наполнили небеса, донеслись до престола Предвечного, и сам Предвечный уже знал, что это идет Бонце.
Праотец Авраам стал у врат небесных, протянул руку, чтобы встретить гостя радушным «Мир вам», и мягкая, светлая улыбка разлилась по его старческому лицу.
Что за грохот идет по небу?
То два ангела катят в рай золотое кресло на колесиках для Бонце.
Что это засверкало?
То пронесли золотой венец, украшенный драгоценными камнями, тоже для Бонце.
– Как, еще до приговора «небесного судилища»? – изумленно и не без некоторой зависти спрашивают праведники.
– Вот еще, – отвечают ангелы, – это ведь будет простой формальностью.
Против Бонце даже у небесного фискала язык не повернется. «Дело» продолжится не более пяти минут.
Шутка сказать – Бонце-молчальник!..
Когда ангелочки подхватили Бонце в воздухе и спели в честь его песню, а праотец Авраам потряс ему руку, как старому товарищу, когда услышал, что для него в раю уготовано кресло, что его там ждет венец, и что на суде о нем дурного слова не скажут, Бонце, как и на этом свете, молчал. Сердце у него сжалось от страха. Он был уверен, что это сон или простое недоразумение.
Он привык к этому. Не раз ему при жизни снилось, что он собирает деньги с поля, на котором разбросаны миллионы, а просыпался еще большим бедняком, чем лег… Не раз люди по ошибке приветливо улыбались ему, говорили ему ласковое слово, а потом, плюнув, уходили.
– Такова уж моя судьба, – думает он.
И он боится поднять глаза чтобы не спугнуть сон, чтобы не проснуться где-нибудь в пещере между змеями и скорпионами. Он боится открыть рот, пошевелиться, чтобы его не узнали и не бросили в преисподнюю.
Он дрожит и не слышит похвал, расточаемых ему ангелами, не видит, как они весело кружатся вокруг него; праотцу Аврааму, ведущему его на суд, не отвечает на его сердечное «Мир вам», а представ перед судилищем, стоит без поклона и приветствия.
Совсем человек вне себя от испуга.
И страх его еще усилился, когда он нечаянно взглянул на пол в небесном судилище. Настоящий алебастр, выложенный брильянтами! «И я стою на этом полу?!» Он совсем теряет голову. «Кто знает, за какого раввина, за какого богача или цадика меня принимают… Придет тот – и труда настанет мне конец!»
От страха он даже не расслышал, как первоприсутствующий отчетливо произнес: «Дело Бонце-молчальника!» и, подавая акты ангелу-заступнику, сказал:
– Читай, но покороче!
Всеобщее внимание сосредоточено на Бонце. У него звенит в ушах, и среди этого звона все яснее слышится ему сладкий голос ангела-заступника, льющийся, как звуки скрипки. Он слышит:
– Имя это шло к нему, как платье, сшитое на стройную фигуру рукой искусного мастера…
– Что он такое говорит? – спрашивает себя Бонце и вдруг слышит нетерпеливый голос:
– Только без сравнений!
И ангел-заступник продолжает:
– Ни разу ни на кого не возроптал он, ни на Бога, ни на людей. Ни разу в его глазах не вспыхивал огонек ненависти, никогда взор его не обращался с жалобой к небу.
Бонце опять не понял ни слова, а жесткий голос снова прерывает речь:
– Без риторики!
– Иов не выдержал и возроптал, а ведь он был несчастнее…
– Фактов, одних сухих фактов! – еще нетерпеливее кричит председатель.
– На восьмой день над ним совершили «обряд обрезания»…
– Только без реализма!
– Оператор-неуч не остановил кровотечения…
– Дальше!
– А он все молчал, – продолжает защитник. – Молчал и тогда, когда в тринадцать лет потерял мать и приобрел мачеху… мачеху-змею злейшую…
– Так это же действительно говорят обо мне? – думает Бонце.
– Прошу – без инсинуаций по адресу третьих лиц, – сердито говорит Председатель.
– Она дрожала над каждым куском… давала ему черствый заплесневелый хлеб… мочалу вместо мяса… а сама пила кофе со сливками.
– К делу! – кричит председатель.
– Зато пинков она для него не жалела, а его покрытое синяками тело сквозило в прорехах старой, сгнившей одежды… Зимою она в самые сильные морозы заставляла его, босого, дрова рубить на дворе. Руки его были еще малы и слабы, поленья слишком толсты, топор слишком туп… Не раз ему случалось вывихнуть себе руку, или отморозить ноги… но он все молчал, скрывая все даже от отца…
– От отца-пьяницы! – вставляет со смехом фискал.
Бонце весь холодеет.
– И не жаловался, – заканчивает защитник.
– Всегда он был одинок, – продолжает он, – не знал ни друга, ни талмуд-торы, ни хедера… ни целого платья… ни свободной минуты.
– Фактов! – еще раз восклицает председатель.
– Он молчал даже тогда, когда однажды пьяный отец схватил его за волосы и в трескучий мороз вышвырнул из дому. Он молча поднялся с покрытой снегом земли и убежал, куда глаза глядят.
В дороге он непрерывно молчал. Во время самого лютого голода просил одними глазами.
Туманной влажной весенней ночью попал он в большой город… Он был там каплей в море, но первую же ночь провел в полицейском участке… Он молчал, не спрашивал – за что? По выходе оттуда стал искать самой трудной работы, – и все молчал.
Он молчал, хотя найти работу было еще труднее, чем выполнить ее.
Обливаясь холодным потом, согнувшись под самой тяжелой ношей, с судорогами в пустом желудке – он молчал.
Он молчал, обрызганный чужою грязью, оплеванный незнакомым человеком, с ношей на спине прогоняемый с тротуаров на мостовую к лошадям, экипажам и трамваям, где ему поминутно угрожала смерть.
Он никогда не считал, сколько пудов он носит на себе за один грош, сколько раз он падал, зарабатывая копейку, сколько раз он умирал с голоду в ожидании уплаты. Он не проводил сравнения между своей и чужой долей – он все молчал.
Даже денег, заработанных собственным трудом, он никогда не требовал громко. Как нищий, становился он у дверей, и в глазах его светилась мольба голодной собаки. «Приходи потом», – и он исчезал тихо, как тень, чтобы потом еще тише молить об уплате.
Молчал он и тогда, когда урывали, сколько хотели, от его заработка или при уплате сбывали ему фальшивую монету. Он все молчал.
– Так это же действительно говорят обо мне! – успокаивает себя Бонце.
* * *
Глотнув воды, защитник продолжает
– Однажды в его жизни произошла перемена. По улице мчалась коляска на резиновых шинах; лошади понесли… Кучер уже давно лежал на мостовой с раздробленным черепом… С губ испуганных лошадей брызгала пена, из-под подков сыпались искры, глаза сверкали, как пылающие факелы в темную ночь – а в коляске, ни жив ни мертв, сидел человек.
И Бонце задержал лошадей.
Спасенный оказался щедрым человеком и не забыл благодеяния Бонце.
Он передал ему кнут убитого кучера, и Бонце стал кучером. Больше того – он женил его. Еще больше – он же его и ребенком наградил.
А Бонце все молчал.
– Обо мне говорят, обо мне, – окончательно убеждается Бонце, но все же не осмеливается взглянуть на судей.
И он продолжает слушать речь защитника:
– Он молчал и тогда, когда его благодетель обанкротился и не уплатил ему жалованья.
Молчал тогда, когда жена ушла от него, бросив грудного ребенка…
Молчал и пятнадцать лет спустя, когда ребенок вырос и достаточно окреп, чтобы выгнать его, Бонце, из дому.
– Обо мне говорят, обо мне! – радуется Бонце.
– Он и тогда молчал, – продолжает кротким, печальным голосом защитник, – когда его благодетель уплатил всем, а ему не дал ни гроша, и даже тогда, когда этот– самый благодетель, снова разъезжая в экипаже на резиновых шинах, запряженном кровными рысаками, переехал, раздавил его…
Он молчал. Он даже не назвал полиции имени того, кто его, искалечил.
Он молчал и в больнице, где кричать разрешается.
Молчал, когда доктор без пятиалтынного не соглашался подойти к нему, а сторож без пятака – переменить на нем белье.
Он молчал во время агонии; он умирал молча.
Ни слова протеста против Бога, ни слова – против людей.
Я кончил.
* * *
Бонце снова дрожит, как в лихорадке. Он знает, что после защитника говорит обвинитель. Кто может знать, что он скажет! Бонце сам не помнил всех событий в своей жизни, – еще на том свете, он сейчас же забывал все, что с ним случалось. Вспомнил ведь защитник все, а кто знает, что может вспомнить обвинитель!
– Господа, – начинает обвинитель сухим, язвительным голосом – и обрывает.
– Господа, – начинает он опять, но уж более мягким голосом – и снова останавливается.
Наконец он говорит совсем мягким, идущим от сердца голосом:
– Господа! Он молчал, буду молчать и я!
И вдруг среди наступившей тишины раздается новый голос, мягкий и дрожащий:
– Бонце, сын мой Бонце, – звенит он, как! арфа…
– Дорогое дитя мое!
К сердцу Бонце подступают рыдания. Теперь он бы уже хотел раскрыть глаза, но слезы мешают ему.
Никогда еще он не испытывал такого нежного и грустного чувства… «Сын мой», «Бонце мой»… Он не слыхал этих слов с тех пор, как умерла его мать.
– Сын мой, – продолжает Верховный Судия, – ты все время терпел и молчал. На твоем теле нет живого места, везде раны, везде кровь, – в душе нет уголка, где не сочилась бы кровь… а ты молчал.
Там этого не понимали. Ты и сам, быть может, не знал, что можешь кричать, и что от твоего крика стены Иерихона могут поколебаться и обрушиться! Ты сам не знал дремавшей в тебе силы.
На том свете тебя не вознаградили за молчание. На то и земной мир, лживый и неправедный. Здесь же, в царстве справедливости, тебе воздадут должное.
Судьи не будут судить тебя, не изрекут тебе определенной награды. Возьми сам, чего хочешь. Тебе принадлежит все!
Бонце впервые поднимает глаза. Он поражен ослепительным блеском, разлитым кругом. Тут все горит, сверкает, отовсюду бьют потоки света, от стен, от предметов, от ангелов, от судей…
И он опускает усталые глаза долу.
– Это… серьезно? – спрашивает он растерянно.
– Разумеется! – убеждает его Верховный Судия. – Повторяю: все – твое, все принадлежит тебе! Выбирай все, что пожелаешь, ибо все, что тут блестит и сверкает, есть только отражение твоих скрытых добродетелей, отражение твоей души! Ты берешь у самого себя!
– Действительно? – спрашивает Бонце уже более твердым голосом.
– Разумеется! Разумеется! – отвечают ему со всех сторон.
– Ну, если так, – улыбаясь заявляет Бонце, – так я хочу иметь ежедневно утром горячую булку со свежим маслом!
Судьи и ангелы в смущении опустили глаза. Фискал расхохотался.

Тяжба
 озник спор между возницей Ханинэ и его клячей. Она твердила: «Дай овса, и я повезу», а он: «Вези – дам овса». Тут в дело вмешался кнут, – раз, другой, пока кляча не умолкла и не протянула ноги.
озник спор между возницей Ханинэ и его клячей. Она твердила: «Дай овса, и я повезу», а он: «Вези – дам овса». Тут в дело вмешался кнут, – раз, другой, пока кляча не умолкла и не протянула ноги.
Ханинэ еле дотащил свою повозку до дому, запродал шкуру живодеру и стал подыскивать новую лошадь.
Ему и горя мало. Он уже привык к таким злоключениям, ибо покупал только таких лошадей, с которыми имел вечные пререкания, и постоянно должен был обращаться сперва к кнуту, как третейскому судье, а потом, по обыкновению, к живодеру.
Но всему бывает конец. Едва Ханинэ отпустил живодера, как глаза его закатились, голова запрокинулась, изо рта показалась пена, – с ним случился удар.
Жена и дети стараются спасти его, но он машет рукой, – чувствует, что наступил его конец.
Перед кончиной Ханинэ пришел в себя и объявил им, что кляча «зовет» его.
* * *
Особенного страха он не чувствует.
Ханинэ привык к тяжбам.
Проезжая мимо стога сена или по овсяному полю, он постоянно притворялся спящим, чтоб не мешать голодной лошади свернуть с дороги и подкормиться чужим добром. Дремота во время потравы не раз доводила его до суда, но он всегда как-нибудь да изворачивался.
Его побочным заработком было маклерство у адвокатов. Немножко он выведал у них, кое-что стороной узнал и понял он, что вся история выеденного яйца не стоит.
Пока суд да дело – он набирал пассажиров.
Когда суду надоела в конце-концов эта вечная история с засыпанием Ханинэ, а истец требовал убытков целый капитал, ему пришлось порядком-таки «посидеть», но зато он отдохнул на славу, и сын его должен был приучиться к его ремеслу. Жалко, положим, было оторвать его от хедера, но, как бы то ни было, с тяжбами Ханинэ свыкся, и нисколько уже не боялся их. С женой он и советоваться не желает, ибо что может понимать женщина? Но кладбищенскому носильщику он заявляет: «Я боюсь клячи, как прошлогоднего снега! Я заявлю отвод не хуже пьянчужки-адвоката. Жаль только, что не могу взять с собою на тот свет пассажиров. Дайте мне хоть кнут, – просит он, – без кнута я совсем как без руки».
* * *
В высшем Судилище наш Ханинэ, не долго раздумывая, заявляет отвод:
– Для клячи, – говорит он, – достаточно и гминного суда.
– Вот видишь, Ханинэ, – говорит председатель, – если бы ты спал поменьше по субботам и лучше бы слушал чтение священного писания в молельне, то знал бы, что и претензия животного подлежит суду синедриона.
– Э! – прерывает Ханинэ. – В молельне читали не библию, а «Алших»[56]! Я пришел не затем, чтоб выслушивать нравоучения. Отвод, признаюсь, я сделал только эффекта ради и отказываюсь от него.
Слово предоставляется кляче. Раздается горестное рыдание:
– Он убил меня! Своим кнутом он выколотил из меня последние силы.
Но Ханинэ не дает ей говорить.
– Кляча, – кричит он, – ведь мне принадлежит. Я вырвал ее из рук живодера, еще живую хотели ее отправить на живодерню. Два рубля давали, а я десять заплатил… А покупал я ее тоже для ее же пользы: у меня ей все-таки сенцо перепадало.
– Но силы, где взять силы? – заливается кляча.
– Не понимаю! – сердится Ханинэ. – У кого же это есть силы? У меня? Моя обязанность держать вожжи. А без кнута разве ты двинулась бы с места? И шагу не сделала бы! Какой это возница без кнута!..
* * *
Верховный суд, после краткого совещания, выносит следующую резолюцию:
– Так как суд не может изменить исконных порядков, а спокон века лошадь ни шагу не делает без возницы, то поневоле нужен «кнут»; но, с другой стороны – пока лошадь остается лошадью, надо иметь к ней больше сострадания и вообще нужно, чтобы было побольше взаимного сочувствия между сторонами.
Посему:
Души обоих да возвратятся снова на землю.
Ханинэ пусть воплотится в кляче, а кляча пусть сделается возницей.
Со временем они, таким образом, получат поровну, – а времени и терпения у Верховного Судилища достаточно.

Хлам
(Отрывок)
 то было в Варшаве. Я стоял у мутной Вислы, на берегах которой вырастают горы мусора, извергаемые культурным городом. Там изможденные старухи собирают всякий хлам; куски железа, меди, несгоревшего окончательно угля, выбрасываемого из фабрик вместе с золой, и просто всякое тряпье.
то было в Варшаве. Я стоял у мутной Вислы, на берегах которой вырастают горы мусора, извергаемые культурным городом. Там изможденные старухи собирают всякий хлам; куски железа, меди, несгоревшего окончательно угля, выбрасываемого из фабрик вместе с золой, и просто всякое тряпье.
Солнце заходило. Темно-серый берег, грязно-желтая река и багровое, заплаканное небо слились в причудливую картину, на фоне которой двигались сгорбленные, костлявые женщины-привидения, роясь в мусоре железными крючками, а иные и голыми руками.
Перед каждым таким привидением лежал мешок, поглощавший собираемый хлам.
Наступает ночь. Привидения одно за другим взваливают себе на спину мешки и направляются в освещенный город. Остается одна старуха – самая уродливая, самая ужасная…
Выплывает желтоватая луна. Зажигаются два ряда дрожащих огней, отражающихся в Висле, – женщина все еще стоит и без устали роется в мусоре.
Тогда только я замечаю, что она собирает не так, как остальные. Она кладет в мешок не все, что попадается ей под руку; оставляя кусочки металла и угля, она берет одни тряпки, одни цветные тряпки. Подойдя ближе, я спрашиваю:
– Старуха, для чего тебе пестрые тряпки?
– Если сподобишься – увидишь, – отвечает она странным, резким голосом, и в старых, ввалившихся глазах вспыхивает искра злобы и насмешки.
Она кончила, завязала мешок, взвалила его себе на спину.
– Куда идешь ты, старуха?
– Сподобишься – увидишь, – снова отвечает она.
Я иду за ней.
Зачем? Просто потому, что мне все равно, куда идти.
Я иду за ней, и вдруг все кругом меняется… Уже нет ни Варшавы, ни Вислы… Кругом песок, бесцветный песок, пустыня… А над этой пустыней расстилается пустое небо, небо без луны, без звезд… Впереди меня мелкими шагами идет старуха-привидение с грязным мешком на спине… Тихо. Я не слышу даже собственных шагов по глубокому песку…Временами мне кажется, что привидение смотрит на меня и тихо смеется, шевеля своими засохшими губами, своим беззубым ртом…
Я иду за ней, иду, а на душе у меня скверно. Мне кажется, что не сам я иду, что она тащит меня! Тащит, хотя я и не вижу веревки…
Вдруг старая колдунья исчезает, как будто проваливается сквозь землю… Что это значит? Я делаю несколько шагов и замечаю пещеру, в которую она спустилась. Делать нечего. В эту серую, пустынную ночь я не хочу оставаться один и быстро проникаю в пещеру. Там темно, а в этой темноте ужасно светится лицо старухи. Желтый свет испускает оно, и в этом светящемся желтом пятне вспыхивают лучи, при блеске которых я вижу, что старуха перемывает собранные лоскутки в двух ведрах. Вглядываюсь пристально и замечаю, что одно ведро наполнено красною, а другое прозрачною, бесцветною жидкостью.
– Зачем ты перемываешь тряпки?
– Сподобишься – увидишь, – отвечает старуха.
– Что у тебя в ведре? – спрашиваю я, указывая на ведро с прозрачной жидкостью.
– Слезы. Слезы тебе подобных, слезы людские.
И продолжает нараспев:
– Слезы оброненные, слезы пролитые, слезы проглоченные, слезы затаенные, задушенные…
– Все слезы?
– О, нет, все образовали бы целые моря. Тут одни чистые, одни только чистые слезы… Слезы бедняков, слезы о гонимой в мире святыне, слезы о тех, кто еще при жизни застыл, окаменел…
– А во втором ведре?
– Кровь, чистая человеческая кровь… Кровь преждевременно погибших, невинных жертв… Кровь, которую земля еще не принимает, ибо еще не может оплодотвориться ею. Кровь чистая, кровь молодая, кровь святая…
– И в этом ты моешь…
– Мою, как видишь, тряпки!
И снова все меняется предо мною… Тряпки, перемытые в слезах и крови, с минуты на минуту становятся все чище, ярче, светлее… Светлеет в пещере… Светлым и молодым делается лицо старухи… Оно уже не такое остро-костлявое, как прежде… Исчезает краснота вокруг глаз. Все лицо ее озаряется добродушной улыбкой, а глаза, старческие глаза начинают светиться мягким, теплым огоньком… Чем чище становятся тряпки, тем светлее делается в пещере, и светлее лицо старухи, и лучистее глаза ее! И вся молодеет она. С молодого, стройного тела спадают жалкие лохмотья… и красота, дивная, божественная красота, обнаженная является предо мною…
– Боже! – вырывается у меня крик. – Кто ты?
– Сподобишься – узнаешь!
Работа окончена… Старые тряпки чисты, сияют, светятся, переливаются тысячами красок… А прежняя колдунья помолодела, расцвела, как будто еще только выходит навстречу молодой, сочной жизни. И эта неземная красавица берет пестрые лоскутья и при помощи небольших палочек делает из них маленькие, хорошенькие флаги… Десять, двадцать, сорок таких флагов… Она продолжает работу. Вот у нее в руках уже множество этих флагов, и она оставляет пещеру. Я иду за ней… Но теперь я уже не подобен агнцу, которого ведут на заклание, мне уже не кажется, что меня тащат на веревке… Я иду, как шли по пустыне за огненным столпом, как идут за золотой звездой, за светлым призраком счастья…
Опять новая картина.
Светлеет песчаная степь. Только темные тени падают на песок, и, извиваясь, сплетаются в странные, уродливые образы.
Синее звездное небо. Высоко в воздухе, между небом и землей, дрожат и пляшут миллиарды тонких белоснежных лепестков.
Остановилась красавица и глядит на небо. В руках у нее тысячи крошечных знамен.
– Что там наверху, между небом и землей? – спрашиваю я.
– Души, – отвечает она
– Почему же они не летят в небо?
– Господь послал их на землю.
– Почему они не слетают вниз?
– Не хотят они вниз. Их пугают тени, которые извиваются по песку и поджидают их…
– Для чего?
– Чтобы слиться с ними.
Душа – чистый небесный луч, и только из слияния его с такой тенью рождается человек.
– И они не сойдут на землю?
– Они должны сойти!
Луч непреклонной воли сверкнул в ее глазах.
При последних словах она бросает вверх один из флагов… Он летит все выше… Вот одна душа подхватила его и стрелой падает с ним на землю… Она бросает еще флаг, еще один, и каждый подхватывается порхающей душой. И чем больше флагов летит вверх, тем больше душ слетает на землю.
И вслед за каждой душой, слетающей с флагом, спускаются еще десятки и сотни маленьких душ…
И каждую спустившуюся душу втягивает в себя одна из теней.
И все меньше лепестков на небе, все меньше теней на земле… Души с флагами и души, витающие вокруг них, поглощаются тенями земли и отдельными группами разлетаются во все стороны.
Она же стоит с пустыми руками под ясным звездным небом, посреди желтой песчаной степи.
Тонкая усмешка появляется на ее устах, разливается по лицу. В глазах зажигается злоба.
– Кто ты? – спрашиваю я в страхе.
– Я – жизнь!
– Что ты тут делаешь?
– Я веду свою обычную шутовскую игру, – резко отвечает она и исчезает в пространстве.
С высоты слышится ее голос:
– Увидимся вечером – на свалке!.. До свидания!
………………………………………………

Деревья
 о обеим сторонам широкой аллеи стоят друг против друга два дерева. Идет весна и несет с собой новую жизнь, новые песни, цветы и росы… Идет весна, и печально согнувшиеся деревья распрямляются. С каждым днем все теплее и теплее. Разносящий благоухание ветерок становится нежнее, веселее и радостнее, солнце – мягче и расточительнее. Целые снопы света носятся в воздухе, ветки зеленеют, разрастаются во все стороны и покрываются цветами и листьями.
о обеим сторонам широкой аллеи стоят друг против друга два дерева. Идет весна и несет с собой новую жизнь, новые песни, цветы и росы… Идет весна, и печально согнувшиеся деревья распрямляются. С каждым днем все теплее и теплее. Разносящий благоухание ветерок становится нежнее, веселее и радостнее, солнце – мягче и расточительнее. Целые снопы света носятся в воздухе, ветки зеленеют, разрастаются во все стороны и покрываются цветами и листьями.
И пышные, счастливые деревья склоняются друг к дружке. Переплетаются их ветви, обнимаются листья, целуются цветы. По стволам поднимаются соки до самой вершины жизни и любви, которая объединяет их в эти минуты.







