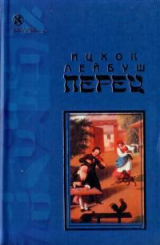
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Но это уже относится ко второму его достоинству – надежде.
14
Надежда его на Бога была весьма крепкая.
Однажды, в пятницу дело было, прискакал к Носке посланец из-за Вислы с вестью, что весь его лес размыло и унесло водою, крестьяне тащат по бревнам к себе, а войт – ни с места; нужен его приезд и деньги.
Носка, как ни в чем не бывало, отправляется после обеда на базар, собрал нищую братию и повел их в баню.
В городе, между тем, узнали, что к Носке прибыл гонец. Народ спешит в синагогу, узнать поскорее, в чем дело.
В синагоге стало известно, что весь лес пропал. А в этом деле заключалось все достояние Носки и деньги полгорода.
Поднялись крики: как так, набрать чужих денег, людских кровных грошей и потопить их в реке!
Посыпались угрозы: пусть лишь пройдет суббота, с ним рассчитаются, дом разорят, самого изобьют, бороду вырвут, в клочки его изорвут!
Потом раввин велел читать вечернюю молитву, и народ немного успокоился. В первый раз приступили к молитве, не дожидаясь Носки.
А Носка – будто не про него речь идет!
Пришел, бодрый и довольный подошел к своему месту у восточной стены, помолился; после молитвы, ко всеобщему удивленно, Носка обращается ко всем с веселым приветом, приглашает всех имеющихся в синагоге нищих к столу, не оставив ни одного.
И вывернулся таки.
Едва кончилась суббота, Носка велел запрягать лошадей, но поехал не на Вислу, а к ближнему помещику. Откупил у помещика весь хлеб, часть денег уплатил наличными, на остальные выдал вексель, получил с него расписку, вернулся домой и отдал расписку своим заимодавцам.
Лишь после этого он помчался спасать свой лес
15
Такова же была его уверенность в слове ребе.
Когда он еще не был в тузах, у его жены случились трудные роды.
Носка намеревался сам съездить к ребе, да лекарь не дал: тот и сам болен был, ему лишь недавно отворяли кровь и велели лежать в постели.
Пришлось послать Вольф-Бера.
Так как дело грозило человеческой жизни, Вольф-Бер отступил от своего обыкновения и поехал по железной дороге. Я еще тогда ему билет купил и усадил в вагон.
Приехал он благополучно к ребе, рассказал о деле, ребе ему и говорит:
– Все хорошо будет. Носка выздоровеет, его жена родит сына, но это ему обойдется в четыреста серебряных талеров. – Так и сказал.
Удивился Вольф-Бер и говорит:
– Ребе, народ думает, что Носка богат, а он даже далеко не зажиточен. Ему лишь везет в делах, но денег у него нет.
Ребе улыбнулся и ответил:
– Посол, исполняй данное тебе поручение. Поезжай домой на обряд обрезания!
Что ж, надо, значит, ехать.
Случилась Вольф-Беру обратная подвода. Поехал Вольф-Бер на санях, дело было зимой, домой. Дорога хорошая, гладкая.
Хасид, нашедший крестьянина, усадил Вольф-Бера в плетенку, накрыл одеялом, крикнул: «трогай!» и они поехали.
Крестьянин правит, а Вольф-Бер углубился в размышления о божественном, приготовляется к молитве, к которой приступит в первой же корчме.
Забыл вовсе, что теперь везде «монопольки» пошли, и еврейских корчем почти не видать.
Между тем, плетенка стала сползать, видно, отвязалась, а как стали подыматься в гору, и вовсе съехала.
Вольф-Бер сидит в плетенке на снегу, а мужик, знай свое, погоняет. Пытался Вольф-Бер кричать, но на его счастье мужик попался глухой – не слышит. Еле выбравшись из плетенки, Вольф-Бер побрел пешком, и угодил домой к самому обряду обрезания.
16
Входит Вольф-Бер в дом, а там обряд уже кончен, народ за столы садится; Вольф-Бер также умыл руки и сел между людьми своего звания.
Носка расхаживает с бутылкой вина и угощает гостей побогаче. Но, увидев Вольф-Бера, подошел к нему, поздоровался, спрашивает о ребе. Вольф-Бер тогда шепнул ему на ухо о четырехстах рублях.
– Будет – ответил Носка.
Так оно и было.
Вольф-Бер, усомнившийся в словах ребе, наказан был пешим хождением, а Носка вскоре после этого выиграл четыреста прусских талеров по бранденбургскому лотерейному билету.
Но зачем ребе понадобились четыреста рублей?
Ребе впоследствии нам объяснил.
Носке суждено было разбогатеть лишь личным трудом, а попользуйся он выигрышными деньгами, и счастье бы ему изменило, как часто бывает в таких случаях.
Ребе забрал поэтому выигранные деньги и приказал никогда больше не покупать билетов. С тех пор Носке стало еще больше счастливить и он стал богат.
Приближенный – литвак
17
Но что иногда может случиться!
Литвак стал приближенным нашего ребе.
Он еще поныне здравствует – этот литвак.
Случилось это неспроста, конечно; у нас, как вы уже знаете, все внешне обстояло просто, и лишь чувствовалась тайная Божья сила. В нашем городе стояла рота солдат, и этот литвак, служил в той роте. Полюбился он ротному, – заслужил нашивки. Службу он знал, как свои пять пальцев. И неудивительно: человек ученый до всего дойдет. А слово Божье он знал хорошо. Зайдет, бывало, иной раз в синагогу, возьмет книгу и учит, как литваки мастера учить, – больше вширь, нежели вглубь. Не еврейской пищей не станет же такой питаться. Вареное ест у евреев по субботним дням. Но не всякий охотник пригласить к себе в дом литвака, вот почему он и попадал к Носке.
18
Носка был уже тогда женат на второй жене.
Хотя второй брак, как где-то сказано, – «по заслугам человека», тем более что ребе сам одобрил этот брак, – некоторые говорят, что он даже указал Носки на нее, но это уж преувеличение, ребе лишь одобрил, – однако, жена досталась Носке не подстать.
Внешне, зачем зря болтать, все обстояло хорошо: она из хорошей семьи, о ее отце родитель нашего ребе, покойный воркский цадик, отзывался, как о почтенном и ученом еврее; лицом также хороша, и хозяйка домовитая, каждой копейке счет знает. Но Носке она была не под пару; его благотворительность ей не по нраву пришлась.
Как везде на свете водится, молодая хозяйка при старом муже – владычица в доме. Вот она и стала править, и все пошло по-иному. Не сразу, конечно, для этого она слишком умна была, но исподволь на свой манер поворачивала. Сначала дом для нищих открыт, но сердца замкнуто; затем лишь дверь открыта, а дом недоступен: у нее ноги молодые, побежит бедняку навстречу, сунет грош или кусок хлеба, и с Богом! Милостыню, мол, прими, что поделать, но полов не грязни!
Носка, бедный, вздыхал, но промалчивал.
То же с субботними гостями.
Богоугодное, мол, дело гостей принимать, но и она – человек, она также желает порадоваться празднику, а какое тут удовольствие, когда вокруг стола усядутся больные да оборванцы, при одном виде которых ее тошнит! А если она недовольна, то и гостям не весело. Пусть они поэтому лучше за ее счет в харчевне потчуются.
Один лишь литвак ей по душе пришелся, его она и за стол сажать не прочь.
Носка рад хоть одного гостя за столом иметь!
19
От Носки литвак пробрался и к ребе. Он столько наслышался про ребе в доме Носки, что его взяла охота взглянуть на ребе. Получив на несколько дней отпуск, он махнул туда.
Можете себе представить, как на него там взглянули: во-первых – солдат, – от пейсов и следа нет; во-вторых, – литвак: его и не поймешь.
Но оскорбить царского слугу тоже не резон! Его допустили. Ребе поздоровался с ним и спрашивает:
– Как поживаете? – Заметьте: на «вы».
У нас было в обычае, что ребе всем говорил: ты. Но, не желая, из-за греха ли, или по другой причине, приблизить человека к себе, ребе обращался к нему на «вы».
То же было и при прощании.
– Поезжайте с миром! – пожелал ему ребе.
Но литвак уже заметил разницу в обращении и спросил:
– Ребе, почему вы не желаете приблизить меня, как прочих? Разве я не еврей, или я согрешил чем-либо?
Ребе молчит.
Но литвак заявляет, что с места не двинется, пока ребе не благословит его, по своему обычаю; литваки ведь – народ упорный.
Ребе вздохнул и говорит:
– Я, по правде сказать, тебя немного побаиваюсь, но, если ты настаиваешь: – поезжай с миром!
20
Почему ребе вздохнул и чего он боялся, тогда не знали. Наши понимали, что здесь что-то кроется, но в городе смеялись. Остряков везде довольно, они и шутили, что ребе боялся, авось у солдата под мундиром ружье спрятано; что он испугался грамотного человека, авось тот заведет ученую беседу, и так далее.
Потому что, чем проще казались людям поступки нашего ребе, тем чаще в нем усомнялись.
Лишь потом оказалось, что ребе очень далеко предусмотрел.
Литвак вернулся домой и стал в доме Носки своим человеком.
В городке пошли разговоры. Как-то дают литваку, холостяку, – а про предлагаемых невест он и слышать не хочет, – так свободно входить в дом, где молодая хозяйка! Но Носка был в нем так уверен, что не дает на него и пылинке упасть.
Не хочу злословить, но люди говорили, что Носка недаром скончался. Пусть это неверно, но он все-таки напрасно допускал до подобных разговоров.
Думали даже довести об этом до сведения ребе, было даже вставлено письмо, но не успели его отправить, как Носка слег.
Долго хворал, бедный.
А литвак, меж тем, кончил срок службы.
Все думали, что он уедет; да не тут-то было; ему, видите ли, город понравился!
И вскоре же он приехал к ребе, одетый в длинный кафтан, еврей-евреем, даже на высокую меховую шапку разжился.
Как он успел так скоро пейсы себе отрастить, одному Богу известно.
Носка, меж тем, скончался.
21
Теперь уже поняли, что означал тогдашний вздох ребе.
Через несколько времени доносят ребе, что жена Носки стоит у ворот и просит разрешения войти.
Женщин, как вы знаете, он не впускает. Но ради Носкиной вдовы ребе пошел на уступку, вышел на двор, стал поодаль и стал с ней говорить через забор. Спрашивает, что ей нужно.
Она. ответила, что собирается замуж выходить.
Ребе спросил: за кого?
Она назвала литвака.
Ребе тогда говорит:
– А что, если я предложу тебе лучшего жениха, пойдешь за него?
– Нет, – говорит, – она других не желает. Не может за другого пойти.
Так без стыда и говорит, что ее сердце льнет к литваку.
Ребе ничего другого не оставалось делать, как согласиться.
Ой велел лишь прислать к себе литвака.
22
И – всем на удивление – литвак сразу оказался приближенным!
Как только тот приехал, ребе позвал его к себе, и они просидели с глазу на глаз добрых несколько часов. Два раза проносили туда угощения.
О чем они совещались, что постановили, ни одна душа и теперь не знает, но при прощании ребе, стоя на пороге, обратился к нему при всех:
– Смотри, не осрами Носкина стола!
23
Впоследствии их близость еще более окрепла.
Когда Носкины родственники вздумали уничтожить завещание, составленное Ноской в пользу второй жены, и завели судебный процесс, ребе, взяв с литвака слово привлечь жалобщиков по окончании процесса к еврейскому духовному суду, обещал содействовать успеху его дела.
Процесс еще не кончен. В чью пользу кончится дело, не знаю.
Потому что, признаться, я не особенно верю слову литвака, да и ребе тем временем скончался.
24
А скончался он вот по какой причине.
Когда получилось известие, что после монополии на вино будет введена монополия на табак, все переполошились: это грозило разорением тысячам семейств.
Ребе тогда сказал: подходят последние времена, надо принять меры, молиться, назначить всенародный пост. За такое дело и пожертвовать собою не грех.
Хотел он, чтобы цадики сообща приняли меры. Были составлены письма и за подписью ребе разосланы во все концы. По грехам нашим, его письма остались без ответа.
Ребе возложил все бремя на себя.
И пал в борьбе.
25
Забыл вам сказать, откуда взялось имя Носка
При обрезании его назвали: Натан, а все сокращенно звали Ноской. Ребе в письме к нему написал: «Именитому, праведному и уважаемому мужу господину Носке». За ним и сохранилось это последнее имя. Даже на памятнике начертано: Носка!
Волшебный чубук ребе
 се, и не только старожилы, помнят еще время, когда у Соры-Ривки не было не то что детей, но даже… хлеба. Да, просто, насущного хлеба не было…
се, и не только старожилы, помнят еще время, когда у Соры-Ривки не было не то что детей, но даже… хлеба. Да, просто, насущного хлеба не было…
Сам Хаим-Борух, муж ее, всегда был большой хасид; с самого начала, с того самого момента, как тесть его – блаженной памяти – набожный был еврей! – привез его из-под Люблина.
И сразу видно было, что это – величина, истинная благодать Божья; что он, если и не ускорит пришествия Мессии на землю, то во всяком случай способен творить чудеса.
Такая уж была у него физиономия!
В глубоких, впавших глазах постоянно трепетал какой-то скрытый огонек, словно кто-то возится со свечой там в темной комнате!
Бледное лицо его по малейшему поводу расцветало как роза, такая у него была кожа тонкая, претонкая.
В висках постоянно что-то дрожало, стучало.
И обыкновенный юзефовский пояс охватывал его десять раз, а то может и больше.
Само собой разумеется, что не об обычном изучении Торы тут была речь; такие люди углубляются все больше и больше: «Зогар», «Эйц Гахаим»[2]… и что только вам угодно!
С раввином, да продлит Бог дни его, он просиживал по целым часам, и, бывало, слова не промолвят друг с другом. По одному взгляду, по одному кивку они понимали друг друга! Ну вот, подите – потолкуйте-ка с таким человеком, о повседневных нуждах.
Почему же в синагоге его называли: «Сорин Хаим-Борух» или короче «Сорин муж»? Почему приклеивали его ученость к горшку с горохом и к дрожжам, которыми она торговала? Это таки трудно понять.
Но Соре это причиняло боль и огорчение.
Конечно, большая честь – она это чувствовала, – что его зовут по ее имени, но она знала также, что этим счастьем на этом ей придется и ограничиться уже на веки вечные.
Она довольно часто, почти по нескольку раз в неделю, являлась со своим горшком гороху в синагогу.
– Хаим-Борух, – кричали занимавшиеся там юноши: – Твоя кормилица пришла!
Хаим-Борух, по-видимому, чувствовал ее приближение, это видно было по всему, вот он весь, с головой, уткнулся в книгу; над пюпитром дрожит кончик засаленной, покрытой перьями его ермолки. Но она даже и на кончик ермолки не смотрит. Она вообще не смотрит в его сторону. Она не хочет видеть, как благоволение Божие нисходит на него, когда сидит над книгой; пусть глаза ее не знают счастья здесь на земле, пусть лучше все – думает она – будет там! Там, на том свете! И на душе у нее становится тепло, хорошо!
Из синагоги она выходит с таким чувством, словно она выросла, стала больше, в глазах светится радость, свобода! Посмотрев на нее, нельзя сказать, что этой женщине уже лет двадцать с лишним! Ни одной морщинки на лбу, лицо розовое, умиленное, словно она только что из-под венца!
И стоит ей вспомнить об этом, как сердце сжимается у нее.
Ничего, рассуждает она с грустью, не останется мне для того света.
Она предстанет там, как общипанный гусь, без всяких заслуг и добродетелей. В самом деле, что ее работа? Кружится со своим горшком гороха по улице, разносит по четвергам дрожжи по домам. Какая польза ему от этого.
Пока еще жив был отец, царство ему небесное, и вертелось колесо, была у них и квартира, было что есть и пить. А теперь? Всем врагам Сиона такая жизнь!
Приданое пропало где-то, домик продан!
Утром – картофель с водой!
Вечером бурда какая-то со вчерашней баранкой!
Вот как он пользуется жизнью на земле.
Вот уже семь лет, как она ему нового сюртука не шила…
От Пасхи до Пасхи – новая шапка, пара сапог, и больше ничего!
Каждую субботу она выдает ему чистую сорочку. Тоже сорочка, с позволения сказать! Паутина!
Из-за этих сорочек ей уже пришлось очки надеть: штопай, штопай, а толку все нет…
– Господи, Боже мой, – думает она, – когда на страшном суде положат на одну чашку весов хоть одну букву из его науки, а на другую все мои супы и ухи, да еще в придачу мои глаза… что перетянет?
Правда, она знает, что все, что соединено на этом свете, остается связанным и на том свете.
Не так скоро отделяют там мужа от жены! А он, он разве это допустит? Такой бриллиант, как он? Разве она не видит, как при еде ему хочется, чтобы и она попробовала? Конечно – он не станет говорить – глазами только дает понять; а когда она делает вид, что ничего не замечает, он мычит, как во время молитвы «Восемнадцати благословений»[3]. Нет… он не допустит – не пойдет на то, чтоб ему сидеть на почетном месте среди праведников и патриархов, а ей валяться где-нибудь в этом пустынном мире, одинокой, заброшенной…
Но что из этого?
Ведь ей просто стыдно будет поднять глаза в компании праматерей; она сгорит со стыда!
Во-вторых, у нее нет детей… а – «годы текут, годы идут…»
Вот уж семь лет живут они вместе, еще три года – и развод!
Разве она посмеет сказать ему хоть одно слово?
И другая будет в раю служить скамеечкой для ног его, а ей, Бог знает, с каким-нибудь портнишкой придется горевать в аду…
А что? Она разве большего заслужила?
Уже не раз ей снился портной или сапожник, и она просыпалась с плачем и криком.
Просыпался и он, испугавшись.
Ночью, в темноте, он иногда заговорит; он спрашивает:
– В чем дело?
А она только отвечает:
– Ничего.
Она плачет, молит Бога, чтоб Он ниспослал благословение на ее горох и дрожжи.
А он, в самом деле, был золото-человек.
Глупая женщина, думает он, о чем она? Но как бы то ни было – думает он – надо принять какие-нибудь меры! Может она себе позволить что-нибудь, не будет жалеть себе!
Он стал рыться в книгах, рылся, искал, но как часто бывает, что ищешь, того как раз не находишь! Такие вещи приходят бессознательно, неожиданно!
Порою ему кажется, что он уже на верном пути, как вдруг, словно злой дух; помешало что-то, и ему приходится начинать сначала!
Он обдумал и решил заговорить об этом с «ним» самим, да продлит Бог дни его на земли.
Но это трудно давалось.
Один раз ребе не расслышал; он о чем-то задумался; в другой раз он качал головой: ни то, ни се. В третий раз он ответил:
– Гм! Конечно, было бы справедливо! – И в это как раз время кто-то вошел и перебил его.
Еще один раз тот нарочно поехал и спросил:
– Ну?
– Ну! Ну! – ответил ребе, и… ничего!
Однажды, в канун субботы, Хаим-Борух, сидя у ребе, протяжно вздохнул.
– Это непорядок, – рассердился ребе, – мои хасиды не охают. Ибо, в самом деле, что?
– Дрожжи! – осмелился возразить Хаим-Борух.
– Во всех углах земли уже испекли хлеб для субботы, – отвечает ребе. – В пятницу после двенадцати уже не говорят о дрожжах!
В субботу вечером Хаим-Борух заговорил более открыто.
– Ребе, – начал он, – не соблаговолите вы принять участие в этом деле?
Ребе опять разозлился:
– А ты сам, – заметил он, – не в силах? Для твоей молитвы врата неба, Боже сохрани, закрыты, что ли?
Хаим-Борух ясно слышал слова «Боже сохрани!» – и точно камень свалился с души его. Тем не менее прошло еще несколько месяцев, и опять ничего…
На праздник Нового года он опять приехал к нему.
Вечером, на исходе праздника, вдруг подходит к нему ребе и при всем народе ударил его по плечу.
– Хаим-Борух, чего тебе не хватает? – спрашивает он.
Хаим-Боруху стыдно стало, и он ответил:
– Ничего!
– Неправда! – замечает ребе. – Не хватает.
– Что? – спрашивает Хаим-Борух, весь дрожа от страха, а на языке у него вертится: «благословение на горох и дрожжи».
Но ребе не дает ему сказать и отчеканивает:
– Тебе, Хаим-Борух, не хватает чубука!
Весь народ замер от удивления.
– Ты, – говорит ребе, – куришь из трубки, как простой извозчик.
У Хаим-Боруха выпала его трубка изо рта, и он с трудом пролепетал:
– Я скажу Соре.
– Скажи, скажи, – заметил ребе, – пусть она тебе купит приличный чубук… На, вот тебе для образца мой, праздничный, чтобы был такой же!
И он передал ему свой чубук.
И это было все!
Не успел он еще вернуться домой, как во всем городе уже знали, что Хаим-Борух везет с собою праздничный чубук ребе.
– Зачем, для чего? – спрашивали друг друга на всех улицах, на всех перекрестках, во всех домах!
– Зачем? – Трепетали все еврейские души.
– Зачем? – и тут же отвечали: – Конечно, по всей вероятности, чтобы были дети!
Хаим-Борух, кажется, страдал еще той болезнью, какой страдают все еврейские ученые. Должно быть, дым из праздничного чубука ребе окажет магическое действие и на это.
– Ага! вот что еще, – догадывались другие, – у Соры глаза больные! Ей только двадцать два года, а она уже очки носит; ребе по всей вероятности это имел в виду – шутка сказать, жена Хаим-Боруха!
Ну, а с другой стороны: чему только не помогает такой чубук? И притом еще праздничный?!
И не успел еще Хаим-Борух сойти с воза, как сотни людей уже стали просить его одолжить чубук: на месяц, на неделю, на один день, на час, на минуту, на секунду…
Его озолотить хотят!
А он всем отвечал:
– Разве я знаю? Спросите у Соры…
Пророческое изречение вышло из уст его…
Сора сделала прекрасное дело…
18 монет за одну потяжку! 18 монет, ни копеечки меньше!
А чубук помогает!
И платят, и у Соры уже имеется домик свой, красивая лавка, много дрожжей в лавке и много других товаров!
Сама она пополнела, поздоровела, выпрямилась! Она сшила мужу новое белье, забросила очки…
Несколько недель тому назад приехали за чубуком для помещика! Три серебряных рубля положили на стол, а то как же иначе?
– А дети? – спросите вы.
– Ну, да! Трое уже или четверо у нее… И он тоже человеком стал…
А в синагоге вечный спор.
Одни говорят, что Сора не хочет и таки не отдаст ребе его чубука!
Другие говорят, что она уже давно ему отдала! А это совсем другой…
Сам же Хаим-Борух, он молчал на это.
А какая разница? Раз чубук помогает.

Чудодействия
1. Деревце
 идишь ли это деревце? Вон то, что растет там? С колючими иглами.
идишь ли это деревце? Вон то, что растет там? С колючими иглами.
А деревцо это было когда-то плодоносным деревом – яблоней.
Оно не было больше, чем сейчас, только корона была на нем – чистое золото! Золотые яблоки росли на нем.
Сочные, вкусные яблоки, таяли во рту, и такие большие, как кулаки!
«Он», дай ему Бог много лет здравствовать, ел их каждый день; приближенные получали их только для того, чтоб попробовать; а внуки ребе, дай Бог им здоровья, брали их обыкновенно в праздник торы для украшения своих флажков…
Казалось бы, с деревца довольно этого? Так нет еще!
Ветви его переросли через забор на улицу, а это стало соблазном, большим соблазном.
Школьники-мальчишки идут из хедера – и рвут их, и этим нарушают заповедь: «не укради»!
За столом говорят об этом, правда, шепотом; но он слышит все, морщит лоб, поднимает брови – народ кругом трепещет от страха: все боятся, как бы он не проклял – не наложил бы какой-нибудь кары!
Но, как видно, милосердие побеждает.
Открыв свои чистые уста, «он», да продлит Бог дни его на земли, провозглашает:
– Бог с ними!
Дети еще невменяемы.
Но на этом история не кончилась.
Как-то раз он вышел на крыльцо, посмотрел как-то печально на небо, – кто знает, что увидел он там, – и слышит шум. Взглянул он в сад и видит, как маленький карапуз, с вылезшей поверх штанишек, простите за выражение, рубашонкой, подпрыгивает к дереву, а ручками, ротиком хочет поймать яблочко, и в глазенках у него горит огонь желания – страсть в нарушение заповеди: «не пожелай чужого»…
«Обратил он взор свой», сердитыми глазами взглянул он на дерево и… не стало яблони – появилось хвойное дерево!
Мальчик чуть с ума не сошел от страха…
И каждую полночь, когда все на земле спит, слышно, как стонет и жалуется деревце:
– Никто не совершает молитвы над моими плодами, никто не испытывает удовольствия от меня…
И чахнет, – чахнет дерево от горя, от необъятной тоски!
2. Куща
– Когда-то – во дни графа – это была беседка
А когда «он», да продлит Бог дни его, откупил у наследников графа этот клочок земли, беседка эта превращена была в кущу – и в куще этой «он» часто уединялся…
Что бы ни случилось, какая бы беда ни стряслась над Израилем, «он» удалялся в кущу – и… работал…
Нельзя отрицать, все добрые евреи работают в таких случаях, – но он доходит до самопожертвования. Запирается, и не выйдет из кущи, пока не добьется.
И он сидит, сидит и дымит люльку – вокруг него стоит облако дыма, и из-за этого облака выглядывают его глаза, полные мольбы, а порою и упорства!
Однажды все власти земные собрались выработать новые пункты, т. е. новые гонения….
Не осиротел, конечно, Израиль, добрые евреи взялись за работу! Устраивают собрания, налагают пост, принимают решения, ищут грехов, отправляют специального делегата в Палестину на могилу раби Симона бен Иохая, – а «он», он сидит в куще…
Сидит и трубкой дымит…
А тут, между тем, все хуже и хуже становится…
Делегат в Палестину умер в пути… А тут ничто не помогает: ни деньги, ни мольбы, – ни с места! Все власти всех семидесяти народов, с царем Эдома во главе, тверды, как сталь; и началась уже разруха: рвут Эрувы, запечатывают миквы, запирают хедеры… А в иных местах жгут талмуд на улицах.
А «он», да продлит Бог дни его, все сидит и трубкой дымит!..
Прошел день, прошел другой, а в третий день он почувствовал, не про вас сказано, что слабость нарастает, что силы его кончаются и поднялся он, подбежал к окну кущи, открыл его настежь и крикнул: «Деревья, дайте мне вашу силу! Травы и растения, заклинаю вас, отдайте мне всю вашу силу!»
И что вы думаете? Они не дали?.. И был тот год – голодный год не про вас сказано! Пустые колосья – одна солома! Мельницы остановились, купцы обнищали, скотина без корму осталась, плодов на деревьях и помину не было. За то многие пункты были отменены; Эрувы, миквы, хедеры, талмуд – остались!
3. Его чутье
Однажды, в разгаре великого спора – о чем, вы знаете, – со стороны противников выскочил какой-то резник Шмуил и подал донос…
Так и так: «Он» – мол, да продлит Бог дни его, завел правление, «он» крамольник и… и так дальше… и т. д… без конца.
А как только узнали о доносе, Шмуил резник тут же скрылся. Все подумали: это «Он» изрек приговор и земля его проглотила… И страх стал проходить, как-то легче стало на душе: Пусть погибнуть! – думали все – «Он», уж, конечно, всех сотрет в порошок, и даже ходатая в губернию не послали к исполнительной власти!
И вдруг, ни с того ни с сего, окружили его дом! «Он» с трудом через окно выбежал…
И он, да продлит Бог дни его, вынужден был, жить в изгнании… И он скитался, бедный… От одной общины к другой… Всюду и везде одни враги…
Однажды, полночной порой, он, да продлит Бог дни его, прибыл в какой-то городишко и не знал, куда ему постучаться. Пробирается он от одного дома к другому… Евреи живут, но какие евреи? Из одного окна до него долетает полуночная молитва, и по голосу он узнает, что эта молитва «наших», огненная молитва, до неба доходящая.
Постучался он, стало тихо, но никто не открывает.
На всех, понятно, страх напал. На дворе стояла тьма кромешная, а дождь лил, как поток… Городишко какой-то захудалый… В году две ярмарки: весною и осенью, а в прочие месяцы ни живой души.
Что остается подумать, когда в полночь вдруг стучатся? Разбойники! И все чуть не умерли со страху.
Тогда он крикнул:
– Еврей! еврей!
И свершилось чудо! Это таки были наши люди, они узнали его по голосу. От радости затряслись они, и руки у них задрожали так, что они не могли ключа повернуть.
Там понятия не имели о доносе – думали, что это он так, проездом… И вместо радости и веселья – горе и уныние!
«Спрячьте меня!» – говорит он.
Шутка ли? Поди спрячь «его», да так, чтоб не нашли!..
И вдруг чуть свет, задолго до утренней, молитвы опять стук! Пришли пригласить его в крестные отцы на обряд обрезания.
Он принимает приглашение! Спасение души на первом плане! Вы можете себе представить, какое торжество там было! Стар и млад, от раввина до самого последнего человека. А ему, да продлит Бог дни его, подают язык. В ту пору он любил язык… А может быть это имело особый смысл, ибо теперь он как раз не ест языка… Одним словом, ему подали, он хочет попробовать, подносить ко рту и вдруг как закричит:
«Падаль, трефное!»
И это был крик, надо вам сказать, вы ведь знаете его голос!
Шум, гам, суматоха!
Как? раввин ест, все ученые едят и ничего!
Послали, понятно, за резником и за его ножами.
И что же?
Не ножи оказались, а пилы какие-то, не про вас сказано! А резником оказался не кто иной, как Шмуил резник!
4. Могила
У ребе в садике лежит огромный камень, а наверху на горе, возле развалин старого графского замка лежит такой же камень. Знаете, что это означает?
Над этим замком когда-то возвышалась башня, башня чуть ли не до самого неба! Там днем и ночью ходил часовой с трубой и сторожил, чтоб враг неожиданно не напал на замок. И лишь только кто-нибудь покажется, он начинал трубить в трубу, будить графскую дружину, которая взбиралась на стены.
Все как у пророка «Иезекиеля» писано – они ведь все у нас позаимствовали!
И кроме часового еще кто-то сидел в башне.
У графа на службе был чародей – нечто вроде звездочета: он постоянно сидел и смотрел вверх, на созвездия и записывал; а затем спускался вниз к графу и объяснял ему, рассказывал все, что ему суждено…
И граф этот, как водилось в то время, был еще судьей и судил всю округу.
Однажды пришли к графу два брата христианина для разрешения спора о наследстве; граф же в это время отправлялся на войну. Лошадь уже стояла под седлом, а граф уже одел шпагу – и он отослал братьев к звездочету, – чтоб тот их рассудил… Поднялись они к чародею на башню и рассказывают: у нас спорное дело, а граф послал нас к тебе, и как ты решишь, так и будет…
Чародею пришлось согласиться, только под условием, чтобы они честно давали показания, ничего не скрывали и не говорили неправды, не то он накажет их!
Согласились, начали излагать свои жалобы, но забылись и стали врать; – он напоминал им, предупредил раз, другой, третий – ничего не помогло. Разозлился он, дунул на них, и они вылетели из окошка, окаменели и упали: один – на гору, а другой – в садик…
Когда «он», да продлит Бог дни его, откупил у наследников графа эту землю, он сказал, что он мог бы воскресить их, но не хочет этого сделать, потому что были большими ненавистниками Израиля.
* * *
Но я должен вам правду сказать, есть другая версия… Страшная история… Старая-престарая – из давних, седых времен…
Граф еще был жив и воевал со всеми окрестными помещиками – храбрый и воинственный это был человек… Нападет, предаст огню целый ряд дворов… Повесит помещиков, надругается над их женами – страшное дело было…
А в местечке была дочь еврейская, замужняя, и происхождения хорошего, из почтенного еврейского дома, а муж ее – да почиет душа его в небесах – был совсем, совсем, одним, словом, видный человек.
Женщина эта была замечательной красавицей… И увидал ее раз граф… Вы знаете ведь, что значит «хозяин»… Лукавый победил… Ни про вас, ни про какую-либо дочь Израилеву будь то сказано…
И подземный ход вел от графского замка вплоть до домишек, где жили графские слуги, исполнитель его воли чародей, смотрители птичьего двора и псарни, начальник отряда казаков, с которыми граф опустошал все кругом…
И в этом подземелье были комнаты, где прятаться во время войны, и в одной из этих комнат у них происходили свидания!
Что ни ночь, муж отправляется на полуночную молитву, а она украдкой – из постели, одевается в праздничное платье, обвешивает себя драгоценностями, обливается разными благовонными духами – и через садик в подземелье… А граф тихонько оставлял свои апартаменты, где идет веселье на чем свет стоит, и в одной из самых красивых комнат они встречаются, лобызаются, обнимаются – упаси Бог каждого…







