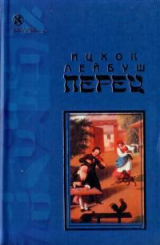
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
У реб Гавриэля, не про вас будь сказано, заворот кишок. Ему уже, слышно, ртуть давали, а шепотом передают, будто он уже и мускус принимал. Спасти его может раньше Бог, а потом Орель со своими рысаками. Пока же дело плохо! Старый служка погребального братства, видавший на своем веку больше мертвецов, чем иной – живых людей, говорит, что если кишка не выпрямится после этой скачки по базару; то больше надеяться не на что. Нужно очень большое заступничество там, необходимо безграничное милосердие Господа… Откуда-то привезли доктора, но и тот признал, что все в руках Божиих…
О сборе денег для Авигдора как-то вдруг перестали говорить. Почему же, собственно, – никто не решается высказать причину, но всякий ее знает. Очередной старшина погребального братства заважничал, стал даже старикам говорить «ты», и уж никому и понюшки табаку не даст, на поклон едва кивнет. Он знает, что власть теперь в его руках!
А у общины с реб Гавриэлем давние счеты, и денег хватит теперь не на одного Авигдора. Человек реб Гавриэль богатый, имеет три дома, две лавки, о наличных деньгах и говорить нечего, а детей у него нет… И ничего он никогда не дает: ни в одну кружку не бросит ни гроша, не даст ничего на пасхальные опресноки для бедных, ни тарелочного сбора, ни для кружки раби Меера-Чудотворца, ни бедняка никогда не пригласит на субботу… На Пурим он как раз заболевает и велит запереть окна и двери. Со времени своей последней женитьбы (а этому будет уж лет двадцать) он даже ни разу не угостил прихожан пряником и водкой.
Зла, Боже упаси, ему никто не желает. Еврей остается евреем, и к Богу с советами никто соваться не станет, но – что правда, то правда.
У Ореля-извозчика уже пала одна лошадь, и старшина погребального братства еще больше храбрости набрался: жены даже перестал бояться!.. В наши дни хоть и редко, но все же случаются чудеса. Реб Гавриэль пожертвовал в синагогу несколько фунтов свечей, и это возымело свое действие: он воскрес из мертвых.
А реб Авигдор внезапно умер.
2
Похороны
Похороны на долю Авигдора выпали редкие: собрались все, и стар и млад.
Но все же то были – я не нахожу другого слова – сухие похороны: ни вдовы не осталось, ни сирот.
Женщинам не за что уцепиться. Никто не падает в обморок; даже слезы как-то не льются. Бедный сирота еще не понимает значения слов «могила», «умереть», лицо у него скорее испуганное, чем заплаканное. Тут действительно разжалобиться нечем. Если одна из женщин вспомнит о собственной горькой доле и заголосит, то крик остается висеть в воздухе, никто не поддержит, не продолжит, – и одинокий вопль застывает сейчас же, замирает в пространстве.
Женщины поэтому скоро все отстали.
Это заметил Иона Бац, очередной старшина «братства могильщиков», и крикнул им вслед:
– По домам, бабы, а? по домам? Похороны без слез все равно, что – не про вас будь сказано – свадьба без музыки.
Женщины издали ругают «долговязого Иону», но все таки расходятся.
Расходятся понемногу и мужчины.
Вечно занятые лавочники да старики и слабые идут только до конца своей улицы. Другие провожают покойника до конца города и там останавливаются, а, остановившись, стучатся в первое попавшееся окно. Там уже знают, что это означает, и выносят кружку воды. Провожавшие польют себе на кончики ногтей, повздыхают, произнесут соответствующую молитву и уходят каждый своей дорогой, чтобы снова взяться за прерванные дела.
Молодожены, живущие еще на иждивении родителей и занимающиеся изучением Торы, бывало, учились у Авигдора, или вели с ним диспуты, – и они провожают его за город. Но до кладбища и они не доходят.
День выдался прекрасный, светлый, и они сворачивают направо, к реке, чтобы там умыть руки, некоторым хочется погулять, – специально для этого не стоит ходить за город, но раз они уже там, то почему не воспользоваться случаем?.. Иные собираются выкупаться.
Только несколько меламедов засыпали могилу и подсказали сироте слова заупокойной молитвы. Но и они спешат обратно в хедер: ученики, наверное, там уже «все верх дном перевернули».
Дощечку с надписью «здесь покоится…» – временный надгробный памятник, который наверное не будет заменен другим, постоянным, укрепил на могиле Иона Бац, сыпля при этом всевозможными проклятиями на головы зажиточных хозяев города; все силы они у него отняли, выжали последние соки, а потом бросили, как корку выжатого лимона
«Носильщики» запирают кладбище.
До города около версты ходьбы. Солнце уже заходит. Придут к вечерней молитве и, пожалуй, еще успеют пропустить по рюмке… За работу уже все равно сесть не придется, и потому идут медленно, не переставая ругать богачей за их жестокосердие… Они-де относятся так не к одним меламедам… Как они поступают по отношению к беднякам вообще и ремесленникам в частности? О покойнике позабыли, переходят к невзгодам живых… Бедняки состоят только в кружке могильщиков, ими верховодят богачи – члены погребального братства. Первые работают до седьмого пота, а вторые забирают денежки для родственников старшин, для нескольких бездельников, лизоблюдов… Голос бедняка не имеет никакого значения. Кто выбирает кантора? Богачи! А спроси их, разве могут они отличить настоящую трель от петушиного пения? Разве они знают толк в настоящем пении? И эти обжоры выбирают кантора! Кто назначает резников? Старшина Шмерль – да сотрется имя его! Три резника в городе, и все трое его родственники. Право, пора было бы восстать против этого, но что поделаешь, когда как раз теперь такая дороговизна… Иона Бац у собирался начать закупки для пирушки, которую братство устраивает ежегодно, – но цены такие, что просто не подступись… А во время дороговизны ремесленнику не до бунтов…. С пирушки речь переходит на прошлогодние и последние выборы, – везде обман, мошенничество и т. д.
Бедный сирота плетется сзади, всеми позабытый, совсем оробевший. Глаза глядят испуганно, худенькое личико все в полосах – это следы слез, катившихся по грязным щекам. Губки дрожат, – он еще не успокоился… Он даже голода не чувствует, хотя с утра ничего не ел.
Ног дети не умеют долго грустить. Внимание его привлекают камни, лежание по обеим сторонам шоссе. Через каждые несколько шагов лежит такой камень на бугорке, поросшем травой. Издали камень смотрит на него одним большим глазом, – он подходит ближе и видит, что это круг, с написанной посредине цифрой. Ему не интересно знать назначение камня, но он должен попытаться через него перепрыгнуть. Удалось! Он спешить ко второму камню, прыгает еще более ловко, и спешит дальше, пока не обгоняет всю компанию.
– Смотри-ка, смотри, – сирота-то!
– Босой он, бедняжка, – со вздохом замечает Иона Бац.
– Мои тоже ходят босиком, – отзывается Гешель-шапочник.
– Но они хоть не сироты, говорит Иона.
– Фью! – свистнул Берель-кондитер. Это должно означать: много помогут родители, если они сами голыши.
День близится к концу. В небе появляется подвижная туча ласточек. Воздух наполняется щебетанием, Шелестом их крылышек… Стоит писк, шум, затеваются игры… Играя, спускается несколько ласточек вниз, за ними падают еще несколько, описывая причудливые зигзаги, все ниже, ниже… Изумленный сиротка останавливается с раскрытым ртом, следя за птичками. Через минуту у него вырываются из горла какие-то странные звуки: это он вздумал подражать ласточкам. Он начинает подпрыгивать, как будто хочет подняться к ним, хлопает в ладоши, с восторгом глядя на веселое воздушное общество. Вдруг он поднимает камешек и начинает прицеливаться в низко летающих птичек.
– Только что молился за покойного отца, – сердито говорит Гешедь-шапочник. – Стоит рожать и воспитывать!
– Что понимает ребенок? – вступается Иона Бац.
– Даже новорожденный теленок, – говорит Гешель, – и тот мычит, когда уведут корову.
– Но то ведь корова – мать, а не отец, а мальчик не теленок, – говорит кондитер.
Иона Бац зовет сироту:
– Поди-ка сюда, шельмец ты этакий!
Как ни был мягок голос Ионы, но мальчик задрожал… Слетели с его личика улыбка, и радость, вместо них выступил тупой испуг. Мальчик неохотно подошел.
Иона взял его за ручку.
– Пойдем, я отведу тебя домой.
– А где у собаки дом? – шутит кондитер.
Иона Бац задумывается, но не выпускает ручки сироты.
Тихо вошли члены братства в город. Никто из них не заметил, что мальчик поранил себе ногу и прихрамывает.
От страха он даже не вздохнул ни разу.
3
Иона Бац и его товарищи
Они вошли в город. В самом начале, там, где расходятся узкие улицы, из которых одна ведет к главной синагоге, а другая – к синагоге братства могильщиков, Иона останавливает своих спутников и озабоченно спрашивает:
– Что делать с сироткой?
– Жени его, – по обыкновению острит кондитер.
– Веди его в главную синагогу, – советует Гешель-шапочник.
– И только?
– Мало у тебя детей? – спрашивает кондитер
– Пусть богачи заботятся.
Вступается Иона:
– А вы помните сына сумасшедшей Ханы?.. Где он теперь?
– В тюрьме, – равнодушно замечает кондитер.
– Ему там лучше, чем моим у меня, – со вздохом говорит Гешель.
– Евреи! – серьезно говорит Иона. – Не грешите перед Богом такими словами.
– Ну?
– Слушайте, что я вам скажу, – изменившимся голосом продолжает Иона. – Сирота пошел за нами… Это неспроста… Это, должно быть, так суждено свыше.
– Тоже сказал!
– Нет, не говорите так. Почему же он ни за кем не пошел, а остался с нами?
– Мы ушли последними.
– Это от Бога… С неба взирают на сирот… Мы не должны оставить его…
Оба пожимают плечами. Иона сегодня что-то необычайно серьезен и кроток… Они глядят на ребенка и сами пугаются: перед ними дрожащая, испуганная птичка. Сердце сжимается!
– Как тебя зовут, мальчик? – мягко спрашивает кондитер.
– Довидль, – чуть слышно произносит ребенок.
– Ну? – спрашивает Иона.
Они молчат.
– Посоветуйте же что-нибудь, – просит Иона.
Но товарищи уже стряхнули с себя жалостливое настроение и больше не хотят смотреть на сироту.
– Возьми его к себе, – говорят оба, не поднимая глаз с земли.
– А жена?
Они молчат. Им хорошо известно, что в доме Ионы бразды травления находятся в руках его жены, что долговязый Иона уже по дороге домой низко опускает голову, а раньше, чем нажать ручку двери, подумает, не найдется ли у него еще какое-нибудь дело. Если такого не оказывается, сгибается он еще ниже. В комнате он ходит, согнувшись в три погибели… Иона-говорун, Иона-верховод и душа каждой пирушки, каждого собрания, любящий выпить, часто дающий волю рукам, Иона – гроза раввина и общины, – дома и рта раскрыть не может – совсем неузнаваем человек.
– Она ему отравит жизнь, – говорит он. – Даже своим собственным детям она вздохнуть не дает, – прибавляет он печально.
– А на что ты, чтобы тебя черти побрали!
– Что поделаешь с женщиной!
Все молчат. Действительно, что поделаешь с женщиной? Если надоест какой-нибудь зазнавшийся богач, Иона не постеснится отколотить его; раввина оборвет грубым словом, – спрячется так, что ты его долго не увидишь… Но женщина? Где найти защиту от женщины, с ее причитаньями, криками и острыми ногтями? Тут уже нет спасения.
– Знаешь что, Гешель, – вдруг спохватывается Иона, как бы очнувшись от сна. – Возьми его к себе.
– С ума ты спятил! Хороши теперь, дела у меня, для своих хлеба не хватает.
– Тебе будут платить.
– Кто будет платить?
– Сколько ты хочешь в неделю?
– По крайней мере, рубль, – отвечает Гешель. – Но кто же все-таки будет платить? – продолжает он.
Всем известно, что деньги всегда хранятся, не у Ионы, а у Сореле, что у него даже нет на рюмку водки, хотя зарабатывает он недурно, котельщик он, слава Богу, хороший!
– А если из общины будут платить? – спрашивает Иона.
– Ну, да так они и расщедрились!
Иона топнул ногой.
– Должны платить!
– Иона, – говорит кондитер, – сдержись! Не впутывайся в общественные дела! Давно уже не было раздора в общине? Хочешь снова раздуть пожар?
Гешель того же мнения:
– Дайте мне сироту, я отведу его в синагогу.
– Я сам его отведу, – резко заявляет Иона.
– Так чего же ты пристаешь?..
Берель и Гешель пожимают плечами и уходят. Иона несколько мгновений стоит в раздумье, а потом кричит им вслед:
– Помни же, Гешель: за рубль в неделю.
– Помню, помню, – отвечает Гешель.
– Какой-то бес в него вселился, прости Господи! – говорит кондитер.
– Ну, действительно жалко, – отвечает Гешель.
– Понятно, жалко. Но знаешь, что я тебе скажу, брат? Жалость – самое дорогое блюдо для бедняка
Они сворачивают в сторону и заходят в первый попавшийся кабачок.
Иона все еще стоит посреди улицы, держа сироту за руку. Он еще не пришел к окончательному решению.
4
В синагоге перед вечерней молитвой
– Ты здесь зачем? – спрашивают Иону, увидев его в синагоге.
В городе, слава Богу, тихо. Все успокоились, закурили трубки, и пошли обычные разговоры для времяпровождения. О покойном Авигдоре сказано было много хорошего – все, что можно было сказать. Перешли к хлебным сделкам, заговорили о воинской повинности, о политике… Об эмиграции тогда еще не знали.
Сироту встретили ласково. Кто его ни замечал, останавливался, вздыхал. Кое-кто даже погладил его по головке…
Вдруг все заволновались и устремили взоры на средину синагоги, где находится амвон. Там появился Иона и поставил мальчика на стол. Ребенок заплакал, – он хочет сойти со стола, хочет хоть сесть, ему страшно смотреть с высоты на толпу. Но Иона не пускает. Он крепко держит ребенка за воротник и старается его успокоить.
– Молчи, Довидль, молчи. Для тебя я стараюсь!
Мальчик продолжает всхлипывать, но уже тише. От восточной стены кричит один из богачей:
– В сапогах на амвон! Прочь безбожник!
Иона узнает голос говорящего и отвечает спокойно, но твердо;
– Не пугайся, Рувеле, не пугайся, праведник! Босиком стоит сиротка, – на нем давно нет сапог.
И, разгоряченный собственными словами, он со злобой продолжает:
– Стоять он здесь будет, пока богачи не позаботятся о нем.
Заинтересованная публика молчит.
– Ему, положим, трудно стоять. Босиком он ходил и на кладбище, по дороге поранил себе ногу. Но стоять он должен, прихожане! Должен, потому что он сирота, и некому позаботиться о нем.
– Полюбуйся-ка на этого благодетеля! – кричит кто-то сзади.
– Молиться, молиться! – кричит другой.
– Кантор, к алтарю! – командует синагогальный староста.
Иона с такой силой ударяет кулаком по столу, что гул разносится по всей синагоге. Стоящие поближе испуганно отскакивают в сторону. У амвона стоит дайон, реб Клейнимус. Во время описываемой сцены он успел окончить свое чтение и закрыл свое измученное от напряжения, а может быть, и от голода лицо руками. Вот он отнял руки от лица. В старческих, выцветших глазах светится немая, глубокая скорбь.
– Иона, – робко говорит он, – нельзя силой.
– Молиться не дам! – кричит Иона, хватая с амвона подсвечник.
Староста сел. Кантор остановился на полпути к алтарю.
– Ребе! – зло говорит Иона, обращаясь к дайону. – Вы думаете, молиться хотят они? Боже упаси! Они хотят ужинать. Ведь жены уже готовят ужин. Их ждет горячий суп, хрустящие бублики, кусок жирного мяса с острым хреном. Может быть и сладкая морковь. А сироте есть нечего.
– Не твое дело! – кричит кто-то, прячась за спинами. Реб Клейнимус снова закрывает лицо костлявыми руками, а Иона кричит в ответ.
– Нет, мое дело! Вы разбежались с похорон, как мыши, а сиротку оставили на меня. Но на то была не ваша, а Божья воля! Бог знает, что делает. Он знает, что у бедняка есть милосердие, что он не оставит беспомощным сироту.
Мальчик начинает понимать, о чем говорят. Он немного выпрямляется, правую ручку кладет Ионе на плечо, и так остается стоять, придерживая левой рукой поврежденную ногу.
Единственная пуговица разорванного кафтанчика отстегнулась. Из-под рваной рубашки выглядывает истощенное грязное тело. На лице мелькает странная, грустная улыбка… Он не боится толпы.
Он чувствует, что Иона Бац царит над всеми, и что он опирается на Иону Баца,
– Смотрите, богачи! Смотрите, евреи милосердные! – мягко говорит Иона. – Сиротка босой, с искалеченной ногой.
– У меня найдутся сапожки. Старые, но целые.
Ионе знаком этот голос.
– Хорошо, – говорит он, – это дарит реб Иосель, начало хорошее! Но на мальчике нет и рубашки.
Кто-то другой заявляет, что жена его наверное не поскупится и пожертвует несколько рубашек.
– Хорошо, – говорит Иона, – я уж знаю, Генеле не откажет. Ну, а верхняя одежда?
Кто-то обещает и это. Иона все принимает.
– Но кормить, – продолжает Иона. – Кто кормить его будет? Почему молчит реб Шмерль? Почему не говорит глава общины?
Реб Шмерль, тучный еврей, с нависшими бровями, совершенно закрывающими глаза, и заплывшим лицом, неподвижно сидит над Мишной.
– Здесь не место разбирать мирские дела, – тихо и степенно говорит он, обращаясь к обступившим его прихожанам. Эти слова в минуту облетают всю синагогу: «Реб Шмерль говорит, что тут не место для таких дел»…
– Пройдоха еврей, – замечает один.
– Бисмарк!
– Просто карманщик, – тихо говорит кто-то.
Раздается другой голос от восточной стены.
– Иона! Послушайся меня, Иона! Оставь это!.. Сегодня четверг… уже вечер… Почему же непременно сегодня? Нет ни обычая, ни закона, чтобы мешать молиться в четверг… Иди теперь домой и приходи в субботу утром… Останови тогда, пожалуй, вынос Торы из кивота.
– А в субботу, – обрывает его Иона, – реб Рахмиэль помолится дома, поест и ляжет спать. Правда?
Поднимается смех: глубокий сердцевед – Иона.
– Так чего же ты хочешь, Иона?
– Я? Я для себя ничего не хочу. Я хочу только накормить сироту.
– Кормить, прихожане, кормить сироту надо! – снова начинает он. Невольно он впадает в тон погребальных братчиков, возглашающих при «одевании покойника»: «Два злотых за мицвос! Три злотых за мицвос!»[31] В синагоге становится веселее.
– Я беру его к себе ужинать, – слышен голос.
– И то хорошо, – говорит Иона, – и то благо! Реб Иехиэлю засчитают это великое благодеяние и на том, и на этом свете. Слышишь, сиротка, – обращается он к ребенку, – доброе начало уже положено. Тебе уже нечего заботиться о сегодняшнем ужине. А завтра? – он снова обращается к говорившему. – Завтра что будет?
– Пусть он и позавтракает у меня, – говорит тот же голос.
– А обед?
– Безбожник! – кричат Со всех сторон. – Ведь завтра пятница!
– А в субботу что будет? – продолжает Иона.
– Пусть и в субботу придет ко мне.
– А в воскресенье, в понедельник, во вторник, словом, всю неделю, и опять в субботу, и следующую неделю что будет с ним?
– Чего ты ко мне пристал? Разве я один тут?
– Боже упаси, я обращаюсь ко всем. Если бы у всех было такое еврейское сердце, как у вас, сиротка давно бы уже не стоял на столе.
Молчание.
«Молиться»! Снова поднимается крик, шум.
– Пойдите за его женой, тогда он сейчас же убежит, – вдруг посоветовал кто-то. Иону точно обухом по голове ударило. Долговязый, большой – Иона сразу стал смешным, – он совершенно растерялся. Шутка попала в него, как камень Давида в Голиафа, прямо в цель.
– Молиться, молиться! – кричат уже громче. Иона молчит, не поднимает руки, в которой все еще держит подсвечник. Куда вся его храбрость девалась?..
5
Неожиданная помощь
И кто знает, что сталось бы с сиротой, если бы неожиданно не явилась помощь со стороны.
На ступеньки, ведущие к святому ковчегу, вдруг вскочил молодой человек с густо обросшим лицом. На его темени торчала маленькая ермолка, из-под которой в обе стороны развевались пейсы; из расстегнутого кафтана виднелись цицис. Под широким лбом сверкала пара горящих, беспокойных глаз.
Шум усилился.
– Глядите, глядите! Хаим-Шмуэль тут!
Мгновенно взоры всех обратились с амвона к ковчегу. Встревоженно поднял голову даже реб Шмерль, до сих пор спокойно сидевший над Мишной.
– Кто, кто? – спрашивает он своим слащавым, приторным голосом, в котором все же слышится испуг.
– Хаим-Шмуэль! Хаим-Шмуэль!
– Прихожане! – кричит молодой человек, стоя у ковчега. – Запомните мои слова. Во всех наших священных книгах говорится, что Господь – отец сирот. Вы не должны отвернуться от сироты, не то, Боже упаси, вы сами оставите сирот!
– Прочь, нечестивец, от ковчега!
– Не кричите! Я хочу сказать вам правдивое слово, хорошее слово!
Хорошее слово всякому хочется услышать.
– Тише же!.. Вы, евреи, – «сыны милостивцев». Сердце в вас еврейское. Почему же вы молчите? У вас, вы говорите, карманы дырявые?
Поднимается смех.
– Не смейтесь, я далек от шуток. У вас нет денег. Бедная община! У вас нет денег, у реб Шмерля тоже нет… Так что же остается? Деньги вам дам я!
При этих словах реб Шмерль начинает беспокойно ерзать на своем месте. Наконец, он закрывает Мишну, встает и тоже поворачивается к ковчегу.
– Иона! – кричит молодой человек. – Ты уже решил, кому отдать сироту?
– Ну, да, – отвечает Иона, успевший прийти в себя.
– Сколько это должно стоить?
– Рубль в неделю.
– Хорошо, слушайте же, деньги даю я. Я буду платить рубль в неделю.
– Ты, ты? – раздается со всех сторон. Всем известно, что у молодого человека ни гроша за душой.
– Не свои деньги я буду давать. Слушайте же! Деньги будут не мои, а моего шурина Айзикля.
Поднимается шум. Теперь все поняли, в чем дело. У Айзикля имеется разрешение на занятие резничеством.
Реб Шмерль бледнеет. Глаза его мечут искры, и он понемногу придвигается к ковчегу. Но раньше, чем он пробивается туда, молодой человек успевает сказать:
– Мой шурин дает подписку, что будет платить за сироту рубль в неделю до самой бар-мицве… даже до его свадьбы…
И, видя реб Шмерля уже на первой ступеньке, он торопливо выкрикивает:
– Налог будет только на птицу, только на птицу. Кричите все: «Согласны!»
Присутствующим понравился этот подвох. Все с жаром закричали:
– Да, да! Согласны, согласны! Все согласны!
Реб Шмерль уже стоял возле молодого человека, уже успел схватить его за лацкан, намереваясь стащить его вниз, но крики: «Да… согласны!..» ошеломили его.
«Резник Айзикль!» – в последний раз крикнул Хаим-Шмуэль и прыгнул со ступенек направо, не желая столкнуться с реб Шмерлем.
Реб Шмерль приходит в себя и начинает говорить, обращаясь к дайону:
– Реб Клейнимус, реб Клейнимус, как вы допустили.
Но Хаим-Шмуэль уже накинул на себя талес, стал у амвона и громко выкрикивает:
– «Вегу рахум» – «И Он милосерд»…
Присутствующие, раскачиваясь, начинают читать слова молитвы, и голос реб Шмерля тонет в общем шуме.
Реб Клейнимус продолжает стоять, закрыв лицо руками.

Посыльный
 н идет, и ветер треплет полы его кафтана и белую бороду.
н идет, и ветер треплет полы его кафтана и белую бороду.
Ежеминутно он хватается рукой за левый бок, каждый раз он чувствует острую, колющую боль. Но он самому себе не хочет сознаться в этом, он хочет уговорить себя, что только ощупывает боковой карман.
«Только бы не потерял деньги и контракт!» Этого одного он будто бы боится.
«А если даже колет, так что же из того… пустяки!
У меня еще, слава Богу, хватит сил для такого конца. Другой в мои годы не прошел бы и версты, я же, слава Богу, не нуждаюсь в людской помощи, и сам зарабатываю свой кусок хлеба.
Хвала Всевышнему, люди мне деньги доверяют.»
«Если бы мне принадлежало все то, что доверяют мне другие, – продолжает он свои размышления, – я не был бы посыльным в семьдесят лет. Но если так угодно Господу Богу, то хорошо и это!»
Снег начинает падать крупными хлопьями. Старик поминутно вытирает лицо.
«Мне осталось пройти, – думает он, – полмили. Тоже конец! Пустяки. Гораздо меньше, чем я прошел».
Он оборачивается. Не видно уже ни городской башни, ни костела, ни казармы. «Ну, Шмерль, двигай!»
И Шмерль ступает по мокрому снегу. Его старые ноги вязнут в снегу, но он продолжает идти.
«Слава Богу, ветер не сильный». На его языке сильным ветром, должно быть, называется буря. Ветер был довольно сильный и бил прямо в лицо так, что поминутно у него захватывало дыхание. Слезы выступали на его старых глазах и кололи точно иглами. Но ведь глазами он всегда страдает.
«На первые же деньги, – говорит он себе, – надо будет купить дорожные очки, большие круглые очки, которые совсем закрывали бы глаза.»
«Если бы Бог захотел, я добился бы этого. Только бы иметь каждый день хоть одно поручение куда-нибудь подальше!» Идти, благодарение Богу, он еще в силах и мог бы кое-что сэкономить и на очки.
Собственно говоря, ему бы нужна и какая-нибудь шубенка, может быть, тогда не кололо бы так в груди, но пока у него есть ведь теплый кафтан.
Если бы только он не разлезался по швам, то было бы совсем хорошо. Он самодовольно улыбается. Это не из нынешних кафтанов, сшитых на живую нитку из жидкого, никуда не годного материала, – это старый, хороший ластик, который переживет, пожалуй, и меня самого! Хорошо еще, что без шлица сзади, – по крайней мере, полы не разлетаются во все стороны. А спереди они запахиваются чуть ли не на целый аршин!..
В шубе было бы, конечно, лучше. В шубе так тепло… Очень тепло. Но все-таки сперва нужно приобрести очки. Шуба годится только зимой, а очки нужны всегда. Летом, когда ветер сыплет песком прямо в глаза, пожалуй, еще хуже, чем зимой.
Итак, решено: сперва очки, а потом уже шуба. Если бы с Божьей помощью он окончил приемку пшеницы, он наверняка, получил бы за это четыре злотых.
И он плетется дальше. Мокрый, холодный снег залепляет ему глаза, ветер час от часу становится сильнее, колики в боку усиливаются.
Если бы только переменился ветер. Впрочем, так лучше: на обратном пути я еще больше устану, и тогда ветер будет дуть мне в спину. О, тогда я совсем иначе зашагаю! Вопрос выяснен, на душе легко.
Он принужден остановиться на минуту, чтобы перевести дух. Это немного беспокоит его.
– Что бы это со мной могло случиться? Мало ли вьюг и морозов перенес я, будучи кантонистом?
И он вспоминает свою военную службу, то время, когда он был николаевским солдатом. Двадцать пять лет действительной службы под ружьем, не считая детского возраста, когда он был кантонистом.
Он немало ходил на своем веку, маршировал по горам и долинам, и в какие вьюги, в какие морозы! Деревья трещат, птицы замертво падают на землю, а русский солдат как ни в чем не бывало бодро идет вперед и еще песенку распевает да камаринского или трепака отплясывает. Мысль, что он выдержал тогдашнюю тридцатилетнюю службу с ее тяжёлыми испытаниями, перенес столько вьюг, морозов, столько лишений, голода, жажды и домой здоровым вернулся, вызывает в нем чувство гордости.
Он распрямляет спину, гордо подымает голову и шагает с удвоенной силой.
«Ха, ха! Что значит для меня такой морозец? В России – там было совсем другое дело».
Он продолжает свой путь. Ветер немного стихает. Становится темнее. Близится ночь.
«Тоже день, нечего сказать! Оглянуться не успеешь…» И он ускоряет шаги, боясь, чтоб ночь не застигла его на полпути. Недаром же он по субботам изучает Тору в синагоге. Он отлично знает, что «надо выходить и возвращаться заблаговременно».
Он начинает чувствовать голод, а когда он голоден, ему почему-то становится весело – такова уж у него привычка. Он знает, что аппетит – вещь хорошая: купцы, у которых он состоит на посылках, вечно жалуются, что никогда не чувствуют голода. У него, слава Богу, всегда есть аппетит. Разве только, когда ему становится не по себе, как вчера, например: он чувствовал себя нездоровым, и хлеб показался ему кислым.
– Поди ты, чтоб солдатский хлеб был кислый. Может быть, когда-то, в былые времена, но не теперь. Теперь христиане пекут такой хлеб, что еврейских пекарей за пояс заткнут. А хлеб он купил свежеиспеченный. Одно удовольствие резать его. Но, действительно, сам он был не совсем здоров, дрожь какая-то пробегала по всему телу.
– Но слава Тому, Чье имя он недостоин произносить, это случается с ним редко!
Теперь у него снова появился аппетит, он даже запасся на дорогу куском хлеба с сыром… Сыр ему дала жена купца, дай Бог ей здоровья! Она таки настоящая благотворительница, у нее истинно еврейское сердце.
Если бы она только не бранилась так крепко, то была бы совсем славной женщиной!.. Он вспоминает свою умершую жену.
– Точь-в-точь, моя Шпринце! У той тоже было доброе сердце и привычка браниться за каждую мелочь. Кого бы из детей я ни отсылал в люди, она плакала навзрыд, несмотря на то, что дома ругала их самыми отборными словами. Что уж говорить, когда умирал, кто-нибудь из них! Она целыми днями, извивалась по полу, как змея, и колотила себя кулаками в голову. Однажды она дошла даже до того, что хотела бросить камень в небо!
– Подумаешь! Будто в самом деле Бог обращает внимание на глупую женщину! Но она ни за что не хотела выпустить из дому носилок с покойником. Она колотила женщин, а носильщикам вцепилась в бороды.
И какая сила таилась в этой Шпринце! На вид – муха, а такая сила, такая сила.
– Но все-таки она была доброй женщиной. Даже ко мне она не питала вражды, даром, что не находила никогда доброго слова для меня. Вечно требовала развода, не то, мол, она так сбежит. Но какого ей там развода хотелось!
Он о чем-то вспоминает и самодовольно улыбается.
Случилось это много, много лет тому назад, Еще во времена откупов. Он был ночным сторожем и по целым ночам расхаживал у склада с железной палкой в руке. Службу он знал отлично, он прошел хорошую школу, в полку имел превосходных учителей!..
Было это зимой перед рассветом. Его сменил дневной сторож Хаим Иона – царствие ему небесное. И Шмерль направился домой озябший, окоченевший от мороза. Он стучится в дверь, а жена кричит ему из постели:
– Провались ты сквозь землю! Я думала, что вернешься уже не ты, а тень твоя.
Ого! Она сердита еще со вчерашнего дня. Он не помнит даже, что случилось вчера, но что-то должно же было случиться.
– Заткни свою глотку и открой дверь! – кричит он.
– Череп я тебе раскрою! – слышится короткий ответ.
– Впусти!
– Провались ты сквозь землю!
Подумав немного, он направился в синагогу. Там он расположился за печкой и уснул. К его несчастью, случился как раз угар, и его еле живого принесли домой…
Шутка сказать, что тогда вытворяла Шпринце. Позже немного он стал хорошо слышать все, что творилось вокруг него.
Ей говорят: ничего опасного нет, он только угорел.
Так нет же! Ей непременно доктора подавай. Она сейчас упадет в обморок, бросится в воду!.. И кричит благим матом; «Муж мой! Муж мой… Безвинный мой!»
Собравшись с силами, он садится и спокойно спрашивает.
– Ну что, Шпринце, хочешь развод?
– Прова… – Но она не докончила проклятия и разразилась громким плачем…
– Как ты думаешь, Шмерль, Бог накажет меня за мои проклятия, за мою злость?..
Но едва лишь он выздоровел – снова прежняя Шпринце: язык удержу не знает, сильна, как черт, и запускает свои когти, как настоящая кошка. Э-эх, жалко Шпринце! Она даже не дождалась радости от своих детей.
Им, должно быть, хорошо живется там, на чужбине, – все ремесленники. С ремеслом нигде не пропадешь с голоду, сил у них, слава Богу, достаточно, – в меня пошли, а то, что они не пишут, ну, так что ж? Сами они не умеют, а других просить… И что за вкус в таком письме? Что рыба без перцу! И, кроме того, – время… дети, молодые, забывчивы… Им, должно быть, очень хорошо живется…







