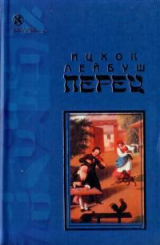
Текст книги "Хасидские рассказы"
Автор книги: Ицхок-Лейбуш Перец
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
И там я, – бедный, больной, забитый, изголодавшийся и высохший меламед, – я, придавленный бедняк, который здесь нем, как рыба, которого здесь топчут, как червяка – там я человек, с которым считаются! И я свободен, свободна моя воля, и я могу творить! Я целые миры строю и целые миры разрушаю! И новые созидаю на их место! Новые, более красивые и лучшие миры! И я живу в них, летаю по ним. Я в раю… в истинном раю.
И понимаю, что я куда больше знаю того, что в состоянии высказать своим ученикам и даже себе самому! И я чувствую то, чего нельзя выразить словами, чего ни один глаз не видит и ни одно ухо не слышит, только в сердце это растет, там оно живет, там бьется!
«Двое ухватились за талес» – в этом тексте «двое» в моих глазах не обыкновенные люди с улицы, Рувим и Симеон, как я объясняю своим ученикам! И «талес», из-за которого они спорят, не простой талес, который можно купить у Иосель Пешее в лавке. Нет! я глубже это понимаю…
Я глотаю блестки, яркие искры, сверкающие между строками, меж словами, между буквами, душа впитывает их, как губка. Я чувствую, как пропитываюсь насквозь и проникаюсь светом, который скрыт для праведников в будущем мире.
Только бы сидеть над Талмудом! Только бы изучать его!
* * *
И то должен я вам сказать, что, когда приходится бывать в богатых домах и видеть, как они по целым ночам играют в карты, или проводят время в двусмысленных беседах или других суетных делах…
Или, когда я иду по улице, вижу сквозь открытые окна трактира, как окутанный облаком дыма сидит рабочий, пьет и говорит непристойности… Когда я вижу все это, поверьте, я вовсе не сержусь… Я их вовсе не осуждаю… Наоборот, сердце у меня сжимается от жалости к ним…
Ибо, с другой стороны, что им делать без Торы?..
Как я уже раньше сказал, я был меламедом в деревне. И ученик мой показал мне, как под конец лета птички слетаются и до наступления зимы покидают нашу страну… Я видел, как они слетаются целыми стаями и улетают далеко, далеко…
Маленькие птички не могут и не хотят здесь оставаться на время снега и морозов… В это время бедной птичке здесь не прожить… И птички это знают: они чувствуют, что идет зима, их ангел смерти приближается…
Только раз я видел, как одна маленькая птичка искалеченная, с переломленным крылышком, прыгала-скакала по холодной промокшей земле, пищала-пищала, и не могла подняться ввысь и поспевать за большими птицами…
И больно было смотреть, как бедная птичка места себе не находила; она все прыгала, прыгала, смотрела, как те, свободные птички, улетают, уносятся далеко-далеко ввысь…
И тогда то я подумал: вот на эту больную птичку похожа душа неуча!..
Летать не умеют они, невежды; крыльев у них нет, знаний нет!
Дай им знание, дай им крылья, они полетят! И они тоже полетят ввысь, в надзвездные миры.
Но им переломали крылья, и они пресмыкаются по земле, по мокрой грязи…
Сквернословят, играют в карты!
Богатый в зале, бедный в трактире.
Но вернемся к делу.
Как сказано, я сидел над Талмудом.
Мало-помалу народ разошелся. Служка вышел последним.
Мне какое дело? Я поглощен, ничего не вижу!
При свече, в теплой синагоге, за раскрытой книгой я и один не боюсь.
И я как следует увлекся и углубился!
Тора, как вам известно, похожа на море, волны захлестывают!
Они проглотить меня хотят. Но я умею плавать. Вот я опускаюсь, но затем всплываю наверх, и опять я на поверхности. Порою утихает море. Становится красиво, чисто и ясно, как небо. И душа моя купается в освежающей, оживляющей воде; скользить, как по зеркалу, с радостью, с удовольствием. И вода омывает ее, очищает ее от всех пятен мира сего.
Чистой, святой делается душа.
Но вдруг чувствую, что обожгло мне палец… и я остаюсь в темноте…
Оказывается, свечка кончилась у меня между пальцев.
А одному в темноте, мне страшно!
Большой страх напал на меня.
Когда светло, будь то днем или ночью, я не боюсь.
Тогда мне хорошо! Я вижу мир вокруг себя, я чувствую хозяина над миром. Я вижу мир, и мир видит меня; и я знаю, что я частица мира, что его хозяин – и мой хозяин, что без Его воли ни один волос не упадет с головы моей. Он не допустит, и мир сам тоже не допустит…
В самом деле – за что? почему?
Но в темноте, когда я один впотьмах, когда я не вижу мира, тогда я совершенно теряюсь. Дурные мысли осаждают меня! Тогда кажется мне – пусть Бог не покарает за это – что у меня нет ничего общего с миром, что меня вырвали из него и увели куда-то…
Я уже не принадлежу миру; ни я, ни моя жена, ни мои дети… Никакого касательства с ним не имеем! Вот схватят меня, или кого-нибудь из них, схватят тихонько, и никто не увидит, никто не узнает, никто не почувствует.
И как только кончилась свеча, у меня испарилась избыточная душа, жаждущая знаний, и я остался со своей дрожащей, испуганной, обычной душой меламеда-нищего…
Я снова – ничтожество, червь, затерявшаяся вещь…
И уста мои лепечут: «Господи помилуй, Господи помилуй»…
А сердце бьется и стучит: Лия родит, наверно родит… И еще двойни родятся. Мать ее славилась своими двойнями!
Мало с тебя собственной жены и детей, вот тебе еще Лия с ребенком, с двумя-тремя детьми. Зайнвель-Иехиэль уже покоится в земле… Он сидит себе там в раю и, изучает Тору; а ты работай… корми…
И уста лепечут: «Господи помилуй, Господи помилуй!»
И дурные мысли подсказывают: если бы Бог захотел сжалиться, то другого средства у него нет, как послать ангела смерти… Ко мне… или к родильнице…
Более милосердый, Боже милосердый!
И я знаю, что грешу перед Богом, что становлюсь неверующим в Него… Я знаю, но у меня нет власти изгнать из души искушения… эти дурные мысли… Я беспомощен, когда один. А в темноте – совсем бессилен!
Я знаю, что единственное средство – Тора, и я хочу учить наизусть, хочу вспомнить содержание, но не могу! Я забыл, я все перезабыл! Всю Тору забыл!
И что было сил я закричал тогда;
– Господи! помоги мне! помоги мне!
И – чудо совершилось!
6.
Чудо. Скрытый свет. Исправление души. Ангел смерти. Наказание за призыв смерти.
Позже, когда я рассказал эту историю одному из «просвещенных», моему бывшему ученику, он смеялся, да еще как смеялся! Совсем, совсем никакого чуда не было, – говорит он. Случай, только случай, говорит он, или сила воображения, а может быть, совсем сон…
Но мне-то какое до этого дело?
У Исро было семь имен, а был всего один Исро.
Называй это, как хочешь: чудом, случаем, воображением… факт остается фактом.
И я знаю только, что в тот момент, когда мне уже казалось, что вот-вот я провалюсь в преисподнюю – вся синагога вдруг озарилась светом! И поразительно приятным светом! Такой голубой свет, как снопы, которые летом исходят из солнца, и проникают через окно в комнату.
Сноп – воочию видишь, – состоит из маленьких светящихся капелек, и каждая капля с быстротой молнии несется в сноп…
И такой сноп света наполнил тогда всю синагогу…
И я сразу успокоился… дурные мысли исчезли…
Синагога полна приятного света! И я преисполнен светлой, сладостной надеждой! И все внутри меня так ясно, чисто, как: хрусталь.
И когда я поворачиваюсь к восточной стене, откуда идет этот сноп, и я вижу кого-то!
И кого, думаете вы, я вижу?
Брата моего, блаженной памяти! И на том самом месте, где он обычно сидел и занимался.
Он сидит над книгой… Лица его я не вижу, так как он держит голову руками; но сердце подсказало мне, что это он!.. Что это брат мой Зайнвель-Иехиэль…
И я совсем не испугался.
Ибо правило такое: кто живых не боится, тот дрожит перед мертвецами… Но я? Я несчастный червь, который постоянно боится всего живого, чего мне бояться покойников? И кого вдобавок? Брата своего Зайнвель-Иехиэля, который и при жизни был шелковым? И я прямо задаю вопрос:
– Зайнвель-Иехиэль, это ты?
– Я, – отвечает он и снимает руку с глаз.
И я увидел его лицо… Такой лаской веяло от него. В глазах светилось такое умиление.
И я спрашиваю дальше.
– Что ты делаешь тут, брат мой?
А он мне отвечает:
– Что я делаю? Очень многое делаю. При жизни я здесь сидел и занимался Торой, и лукавый путал меня. Забота о насущном хлебе вмешивалась, и я много-много мест пропустил, и много мест я без проникновения в их смысл учил… Теперь я делаю то, к чему я присужден, спасаю душу свою. Я повторяю вновь.
– И все с усердием, осмысленно?
Он качает головой в знак утверждения, а я спрашиваю:
– Зайнвель-Иехиэль, ты учишь с усердием, ибо ты не знаешь…
И он перебивает меня своим сладким голосом:
– Дурень ты этакий, – говорит он, – совсем наоборот. Так как я знаю, я с усердием и учу; при жизни я мало знал, много сомнений было, и я пропускал много вещей без смысла; так как то, чего не знаешь, сбивает.
– А теперь, когда я знаю, когда у меня нет сомнений, я все учу со смыслом, проникновенно.
– А ты знаешь, что Моше…
– …убежал в Америку? Я знаю. Я знаю даже с каким пароходом он ухал… Он трефное ест на пароходе… я знаю.
– А ты знаешь, что Лия…
– …Тяжело рожает? Конечно, знаю. Я даже знаю, что у нее родится мальчик…
– А не двойня?
– Нет, двойни у нее не будет. Но в великой милости нуждается она. Ребенок будет калекой… Разбойник этот толкнул ее и искалечил…
А я продолжаю спрашивать:
– А может быть ты знаешь, чем она будет жить?
– И это я знаю, – отвечает он приятным голосом.
Он придвигается ко мне, берет меня за плечи и говорит:
– Выгляни, выгляни в окошко!
Я взглянул.
– Ну, что ты видишь?
– Я вижу, кто-то мимо идет… одет в белое… лицо сияет, словно дух Божий снизошел на него, поразительно сияет… И идет медленно.
Мне чудится, будто музыкант идет и наигрывает сладостную, за душу хватающую мелодию!..
Вот прошел человек…
– Не человек это был, – а ангел!
– Ангел?
– Ангел, и добрый ангел… очень добрый! Ангел смерти!
– Ангел смерти? – говорю я, уже испугавшись.
– Чего ты боишься? Хочешь убежать от него?
– И куда, куда направился этот ангел?
– Куда? К богачу Симхе, дочь его в родовых муках…
– Это я знаю… Сегодня утром я с целой компанией читал псалтырь за нее и ее ребенка…
– Молитва спасает наполовину; ребенок останется в живых…
– А она?
– Ты ведь видел!
– Это он к ней шел!.. И так нехотя, медленно, шаг за шагом; из жалости что ли?
– Возможно! Ему нечего спешить, он не посланец Бога.
– Что ты говоришь? – кричу я в испуге. – Кто же еще может распоряжаться?
– И у человека тоже есть своя воля… Она сама призвала его…
– Она сама?!
– Ей не хотелось иметь ребенка, ей не хотелось быть матерью! Тоже искалечила…
– Господи Боже мой! – воскликнул я, и в голосе у меня слышалось большое страдание. – Она умрет за грехи свои. Но в чем ребенок виноват? Ребенок ведь сиротой останется… Господи Боже мой!
– Не кричи, – и Зайнвель-Иехиэль берет меня за руку. – Не кричи! Лия будет его кормилицей!. И отныне знай: кто дает жизнь, дает и на жизнь!
И в тот самый момент он испарился в пространстве, светлый сноп исчез, и в окно глядел бледный свить раннего утра…
7.
Кто дает жизнь, тот дает и на жизнь.
Вы и представить себе не можете, что я пережил в этот момент.
Я упал ниц, растянулся во весь рост; целые реки открылись в глазах моих, и слезы лились, лились…
И мне казалось, что то не слезы льются, а камни падают, камни поднимаются из сердца и сваливаются сквозь глаза! Ибо чем больше слез проливалось, тем меньше тяжелых камней оставалось на сердце, становилось легче и свободнее!
И рассказ уже кончается.
Я отправляюсь домой.
Дверь, вижу я, настежь открыта.
Вошел я в комнату и при слабом свет занимающегося утра вижу, что здесь орудовали воры.
Вещи исчезли из дому!
– Ладно! – думаю я себе.
Дети кашляют со сна хриплым, сухим кашлем.
Я прислушиваюсь и все думаю – ничего не страшно.
Вскоре пришла и жена моя Фейга и говорит:
– Поздравляю.
А я ей в ответ
– Что? Мальчик, урод?
Она остолбенела.
– Ты пророк, что ли?
И не слышит, как дети кашляют, как дом опустошен.
– Откуда ты это все знаешь?
И я говорю ей:
– И еще кое-что я знаю, жена моя! Я знаю, что дочь богача Симхи померла (слово «почила» не шло мне на язык), ребенок ее – мальчик – жив! А Лия будет его кормилицей.
– Кто это тебе все сказал?
– Ибо, – отвечаю я, – Тот кто дает жизнь, тот дает и на жизнь.
И я ей все рассказал.
2. С каждым разом все меньше
Меламед Иехонон говорил: раз «просвещенные» не смеялись, а наши не обиделись на мою первую «историю», значит я прав, значить это так, как я говорю: вся разница между «просвещенным» и хасидом в наше время только в названии. А что люди ссорятся, спорят, так это тоже только из-за названия…
А раз так; то зачем мне молчать?
Как пчела, собирающая соки из трав и цветов, дает мед, так и я, насмотревшись много в жизни, обязан рассказывать.
И я расскажу вам то, о чем я вспомнил в то время, когда я занимался с моими учениками в хедере.
Дошел я до этого, благодаря ученику моему Ицыку, который был большой любитель споров. Если я, бывало, смолчу ему, потому что не хотел оторваться от Торы, так он думает, что я соглашаюсь с ним! Бог с ним!
А этот Ицык большой сторонник новых веяний…
– Шутка ли, – говорит он, – наше время! Одни машины! (у отца его фабрика). Все движется паром и электричеством; они – наши слуги, – говорить он. – Они размалывают нам муку, пекут хлеб, делают мыло, перевозят нас из одного конца земли в другой!
И он убежден, что изобретатели со временем поработят ветры, и запрягут их в свои машины; соберут лучи солнца и заставят их, к примеру, сапоги чистить! А самое главное, – со временем будут летать на воздушных шарах по воздуху, как ангелы небесные, простите за сопоставление…
Что ж? Когда дело касается техники, машин, еще кое-как можно согласиться… Одно поколение наследует открытия предыдущего, и таким образом, становится изобретений все больше и больше; ребенок, сидящий на плечах у отца, всегда будет; выше самого отца…
Мой ученик, Ицык, утверждает, что человек вообще становится умнее, лучше, как в смысле знаний, так и в душевных свойствах…
– С каждым годом мы на голову вырастаем, – говорит он.
Это, может быть, зависит от того, что ученик мой Ицык, вообще жизнерадостен, и доволен мировым порядком.
– Мир, – говорит он, – распространяется во всех странах, – чувство сострадания растет с каждым днем (много денег жертвуется: отец его, – богач, тоже много денег раздает) и скоро, скоро настанет время, когда сбудутся слова пророка Исайи: овечка будет рядом с волком лежать…
Вот в этом-то я и сомневаюсь!..
Мне вспоминается вопрос царя Соломона: кто знает, возвышается ли дух человеческий?.. Я знаю: есть нечистая вода, которая течет по песку, и от этого делается все чище, так как она осаждает в пески нечистоты; в конце концов она очищается настолько, что может делаться годной для питья. Но есть вода, которая вытекает из скалы, из высокого и чистого места, и чем дальше, тем становится грязнее. Чуть ли не в яд превращается!
Какой воде мы уподобляемся?
Я сижу и думаю; перед моими глазами проходят: ребе Зиселе, блаженной памяти, – известный во всем мире ученый, который двадцать лет занимал раввинское кресло в Замостье; сын его ребе Иехиель, мир праху его, еврей, богач, который, сосватавшись с дочерью люблинского богача, сидел там, всецело отдавшись Торе и благотворению, и слава о его добрых делах гремела по всему миру!
И третий, тоже величина не маленькая, сын ребе Иехиеля, мир праху его, внук ребе Зиселе, именитый богач и всеми почитаемый ребе Иосиф, отец моего ученика Ицыка, который живет тут, в Варшаве, имеет большую фабрику, и уважаемый во всем городе человек…
* * *
Вернемся к ребе Зиселе.
Всем известно, что ребе Зиселе был одним из великих людей своего времени!..
Юношей он учился у раввина из Лисы, – из древних ученых. Раввин этот был о нем весьма высокого мнения. В одном из своих писаний он так о нем говорить: «И мой дорогой ученик, Зиселе, в моем присутствии толковал это место, и он опустился глубоко в воду и добыл оттуда дорогой жемчуг. И я уверен, что он будет великим в Израиле».
И так оно и было!
Ребе Зиселе, как говорят, был ходячей библиотекой, – необыкновенная память, светлый ум, – гений со всеми достоинствами.
И почему это его звали ребе Зиселе? А не просто ребе Зисе?
Во-первых, из большой любви к нему.
Он был очень скромен, кроток и ласков со всеми людьми… Он был всей душой предан науке и общественным делам; он не обращал внимания на сильных мира сего, на богачей… Все брал на себя; когда речь шла о большом убытке, он не считался с мнением даже древних ученых, раз вопрос шел о еврейских деньгах, то он обыкновенно говаривал; «Тот древний ученый был раввином в свое время и в своем городе, а я раввин в свое время и в своем городе».
И этот ребе Зиселе управлял своей пестрой паствой, состоявшей из «немцев», обывателей, хасидов разных толков, ремесленников, как добрый пастух своим стадом…
Его боялись все, громкого слова никто не скажет ему.
Стоило ему только сказать: я думаю вот так-то и так-то.
И этого было довольно!
А то «ребе Зиселе обидится!» Чтобы ребе Зиселе не обиделся, содержатель коробки не повышает цены на мясо.
Чтоб «ребе Зиселе не обиделся» ростовщик не продаст заложенный бедняком скарб.
Чтоб «ребе Зиселе не обиделся» – погребальное братство не оскорбит носильщиков, а общество носильщиков не пойдет против погребального братства… Даже хасиды не пригласят себе отдельного резника!..
И в то время, как все боятся ребе Зисе, этого кроткого, как голубь, человека, он сам боялся только квашеного хлеба на Пасху.
В течение всего года он был снисходителен: все разрешено, все можно!
А в Пасху – все запрещено! Нельзя есть, нельзя даже воспользоваться для других целей, ломать посуду велит, – ни с чем не считается…
И почему он так боится? Кары он боялся. Шутка ли, – говорит он. – Какая кара! «Да будет истреблена душа сия из стана еврейского».
И он говорил:
– Лучше все муки ада, – эти я беру на себя за еврейскую копейку, – чем «истребление» еврейства!.
Глубокая мысль!
Во-вторых, его звали ребе Зиселе за его малый рост.
Вечный дух был заключен в тело, которое могло под столом гулять.
Когда ребе Зиселе на собрании сидит, бывало, на председательском месте, его и не видно: хотя и шапку меховую он носил высокую…
Бывало, опоздает кто-нибудь, то только спрашивает, здесь ли ребе Зиселе? Так как, посмотришь, все равно его не увидишь. Но зато, когда он замечает, что кругом тихо, что все повернулись лицом в одну сторону и прислушиваются, – он уже знает, что ребе Зиселе здесь.
Улыбается такой и думает: «Перлы уже сыплются из уст ребе Зиселе… Все молчат и глотают каждое слово… Дай Бог много лет нашему ребе Зиселе».
Главным образом ребе Зиселе отдавался детям. Он страшно любил детей.
Молодежь в синагоге знала это, и стоило ребе Зиселе показаться в синагоге по какому-нибудь случаю, как его тут же подростки окружали со всех сторон, и приставали к нему с открытыми книгами, о том, о другом. И он улыбался, каждому отвечал с улыбкою на устах, с той радостью и любовью в детских глазах, которая не оставила его до последнего издыхания, объяснял сладким голоском своим, звучащим, как серебряный колокольчик. Но видеть его среди молодежи не видели. Однажды случилась такая история. Сребершино, – в трех милях от Замостья, – пригласило к себе нового раввина откуда-то издалека. Последний не знал в лицо ребе Зиселе, и сейчас же после первой субботы, после первой произнесенной проповеди, он пришел в Замостье к ребе Зиселе…
Не застал его дома, он пошел в синагогу; куда же еще пойти раввину?
И увидел он кружок молодежи, и среди них раздается звонкий голос, раздается по всей синагоге, и ведет с ними дружественную беседу…
Он подошел и остолбенел: что такое случилось с этим юношей, что он поседел, как лунь? – спрашивает он.
В новый год ребе Зиселе совершал богослужение вместо кантора; так как место перед амвоном ниже, (соответственно изречению: «из глубины воззвал я к Тебе, Господи!..») то ребе Зиселе наверное не видать! Но всем хочется видеть, как покачивается его маленькая головка: движения его головы, уверяют, вместе с его сладкими мелодиями лучше всего объясняют молитвы… И поэтому все время богослужения стоят на цыпочках, иные вскакивают на скамейки.
И бессребреником он был…
Чуть ли не каждый год являются послы из больших городов и приглашают его занять раввинское место.
Озолотить хотят ребе Зиселе!
А он и слышать, и думать не хочет…
И он шутит: разве я, – говорит он, – убил кого-нибудь, Боже упаси, что я должен скитаться?
Город умоляет его: дорогой ребе Зиселе, разрешите хоть увеличить оклад ваш…
Он сердится. Что вы из меня обжору хотите сделать на старости лет? Я и так, слава Богу, сыт.
Ну, а как велик его оклад? Пятьдесят польских злотых в неделю.
И за требы не берет.
Ребе Зиселе говорит, что он раввин, а не чиновник!
Доход с судебных решений он отдает судьям.
Своей Торы, – говорит он, – я не продаю; своего ума и мнения он тоже не продаст.
Праздничные деньги он раздает служкам.
Здесь уже и объяснения не требуется: знамо, они бедные евреи…
Подарки, получаемые в Праздник Пурим, он обменивает… Получаемые от богатых, он отсылает бедным, а присылаемое бедняками – богатым, а сам ест то, что испечет его жена…
Но все это я рассказал вам так, между прочим… Когда вспомнишь про ребе Зиселе, нельзя не рассказать хоть что-нибудь про него.
Но суть в одной привычке, которую имел ребе Зиселе.
Бывало, когда ему приходилось последним уходить из дому и запирать за собою дверь… Видя, что дверь ветхая: задвижка не менее ветха, одним ударом ее разнести можно, он думал: как легко меня обокрасть, и…
– Много ведь воров кругом, – вздыхал он.
А ребе Зиселе не хочет, чтоб еврей введен был в искушение, благодаря тому, что он забывает починить дверь…
Что же он делает?
Он говорит:
– Господи, будь свидетелем моим, что я отрекаюсь от всего моего достояния, как домашнего имущества, так и наличных денег, как мне известных, так и неизвестных.
И когда он возвращался домой, и все оказывалось в целости, он, так сказать, пользовался собственностью, не имеющей владельца.
Я слишком подробно остановился на ребе Зиселе, блаженной памяти, а потому в рассказе о сыне его и внуке постараюсь быть кратким…
Как уже было сказано, ребе Зиселе женил сына своего ребе Иехиеля на девушке из Люблина Долгое время ребе Иехиель был на хлебах у родителей, затем обзавелся своим домом. Капитала у него много было. Всю жизнь он жил процентами, отдавшись Торе, благотворительности и добрым делам.
Ростовщиком, понятно, он не был…
И от отца своего он унаследовал одну черту: никого не конфузить, кроме того – скромность и смирение.
Ребе Иехиель принимает живое участие в общественных делах, но должностей не берет: ни члена правления, ни старосты, ничего!
Благотворительность он понимает только так: жертвовать тайно.
Зимою рано утром он выходит на улицу; видит – везут дрова (об угле тогда еще понятия не имели), он покупает воз, – другой, третий и велит их отвезти… Он знает, где живут исхолодавшиеся бедняки. Перед каждым праздником он по почте переводил пожертвования, и адреса писал бывало левой рукой, чтобы по почерку не узнали от кого.
Его почерк знали, так как им писались разные ходатайства по еврейским делам.
Отсюда и пошел слух, что переводы по почте посылает раскаявшийся грешник, который ограбил кого-то и не может вернуть ограбленного… Только после смерти ребе Иехиеля узнали, кто был этот «грабитель»…
Милостыни он в руки не подавал… Он все в долг давал, ссуды, ссуды! «Бог тебе поможет, ты мне отдашь! Сразу, или по частям! Мне ли или другому нуждающемуся»…
И однажды случилась такого рода история; ребе Иехиель приходит домой и застает у себя в квартире человека. Тот увидел и побледнел, как смерть.
Ребе Иехиель посмотрел и увидел, что из-под полы у еврея что-то торчит.
По лицу еврея ребе Иехиель понял, что перед ним не простой вор… Он догадывается, что это приличный бедняк, который пришел просить помощи и, не застав никого, не мог устоять: лукавый попутал…
Ребе Иехиель подходит к нему и мягко с улыбкой говорит.
– Вы наверно хотели получить у меня ссуду под залог? Ну-ка покажите, что вы хотите заложить…
Y бедняка зуб на зуб не попадает.
– Что за стыд? – спокойно замечает ребе Иехиель. – Счастье, что колесо; монета – кругла, от одного переходит к другому. Сегодня вы у меня одалживаете, а завтра я у вас…
И, говоря так, он достает из-под полы бедняка свою пару серебряных подсвечников.
Ребе Иехиель спокойно ставит их на стол, словно он их впервые видит, и хочет оценить, сколько за них можно дать.
Еврей же хочет бежать, но ноги у него как будто скованы.
– Коротко, голубчик, – спрашивает ребе Иехиель, – сколько вам нужно?
А у того язык не поворачивается.
– Вы, голубчик мой, очень застенчивы… Ну что поделаешь? Буду я за вас говорить, сказано: «ты начни за него».
Дело к Пасхе идет, – скажите, у вас есть на праздники… ну, хоть головой качните: да или нет!
Тот отрицательно кивает головой.
– Так что же? Вовсе не надо быть пророком: лицо выдает вас! Может быть, дочка у вас имеется, на выданье? Да?
Ну, скажите: да или нет?
У несчастного еврея слезы ручьем полились из глаз, он сильно расплакался.
– Глупый человек! – Обращается к нему ребе Иехиель. – Чего вы плачете? Ведь я же вам сказал, колесо вертится.
Но еврей не в силах удержаться. Иехиель делает вид, что сердится и как бы обижен.
– По закону – голубчик мой, я обязан вам помочь, так сказано в Писании, но скажите мне на милость, где сказано, что я должен выслушивать ваш плач?
Еврей напрягает последние силы, чтобы сдержаться, а ребе Иехиель продолжает:
– Я дам вам столько, сколько стоит ваша вещь…
По-моему, вещь эта за глаза рублей полтораста стоит… Я вам дам взаймы рублей семьдесят пять, восемьдесят. Десять рублей на праздники, шестьдесят в приданое дочери, а еще десять как задаток на платья, на расходы по свадьбе, а на остальное Бог поможет.
А если Бог поможет, – добавлял он по обыкновению, – вы уплатите… Я уверен, что вы уплатите!
* * *
Теперь перейдем к внуку ребе Зиселе.
Как-то раз, в праздничный день, ученик мой Ицык стал меня упрашивать пойти с ним осмотреть фабрику отца. Ему хочется показать мне удивительные и дорогие машины.
Я ему не мог отказать; день свободный, и я иду.
На фабрику мы вошли узеньким коридором, где двоим нельзя рядом пройти, а лишь один за другим. Оттуда мы пробрались на большой двор, а со двора уже на фабрику. На фабрике еще больший простор, чем на дворе.
Фабрика полна станками. За каждым станком стоит рабочий. Станок мечется из стороны в сторону, а вместе со станком мечется и рабочий. И станок вместе с рабочим производят впечатление одного тела в припадке падучей, которое мечется из стороны в сторону…
А где душа этого тела? Пар! Это он двигает ремни, окружающие каждый станок…
Кроме пара, здесь тело не имеет души, ни сам станок, ни рабочий, который подражает станку; у них нет души, нет воли, нет сознания…
Так мне кажется!
Ученик мой хочет мне объяснить и рассказать, что здесь происходит, что вырабатывается, как вырабатывается, но я не слышу, меня пугают эти стучащие истуканы…
Я глохну от шума и грохота…
Море голосов, ураган шумов и стуков… Скрипит, шипит, скрежещет зубами…
И страшная мысль пронизывает мозг мой:
Приди сюда, в этот ад, наши величайшие пророки… Иеремия, Исайя… даже сам Моисей, открой они рот и захоти что-нибудь сказать – перекричали бы они этот ад?
Услыхала ли бы их хоть одна истерзанная душа?
Нет, наверно нет! – думаю я и выбегаю, обливаясь холодным потом от страха.
И мы снова идем по узенькому коридору, и вдвоем с Ицыком мы не можем пройти…
– Почему здесь так узко? – спрашиваю я.
– Здесь обыскивают рабочих, – отвечает Ицык – одного за другим обыскивают…
– Зачем?
– Воруют с фабрики… инструменты… товары…
– Воры они, что ли?
– Не все, помилуй Бог! Но на некоторых падает подозрение!..
– Ну, а если подозрение падает на некоторых, зачем всех обыскивают?
– Отец мой говорит, что нельзя конфузить, а потому обыскивают даже мастеров…
* * *
Это тоже принцип «не конфузить», но по совершенно иной системе!

Проклятие
 де-то в большом, городе, жила была известная богачка.
де-то в большом, городе, жила была известная богачка.
Богачка эта была знатного происхождения, как со своей стороны, так и со стороны своего мужа – богача.
Была она еще красавицей, а потому держала себя гордо, корчила из себя, как принято говорить, важную персону, и с прочими женщинами города не хотела иметь ничего общего.
Ни на какое торжество ни к кому она не ходила, а у нее самой никакого торжества еще не случалось – несмотря на то, что ома уже несколько лет была замужем, детей у нее не было.
И вот, когда муж ее, купец, уезжал по своим делам в Лейпциг, оставалась она одна-одинешенька во всем доме, большом и богатом доме, шагала из угла в угол и не знала, что с собой делать.
Читать душеспасительные или иные книги ей не хотелось; на рояле в еврейских домах еще тогда не играли; книжек для женщин тогда еще не было; слугу и двух горничных, которые служили у нее, она держала подальше от себя. Без зова никто не смел показаться. И она по целым дням простаивала у ящика с драгоценностями, играла золотыми и бриллиантовыми вещичками, которые были у нее, и смотрела, как камни играют. Примерит и снимет, снова оденет и снова снимет. Лишь бы время коротать.
Когда это надоедало ей, она подходила к гардеробу, перебрасывала все свои шелковые, атласные и бархатные платья.
И так она коротала дни, в ожидании приезда мужа из Лейпцига.
Но как-то раз муж задержался, и к сроку своего обычного приезда он отправил ей письмо, в котором сообщал, что дела задержали его… С Божьей помощью он сделал хорошие дела, и его страшно огорчает то обстоятельство, что он не может вовремя приехать.
И так как он полагает, что ее это тоже огорчает, то он хочет обрадовать ее и посылает ей горностаевый мех, дорогой горностаевый мех, по пятнадцать золотых шкурка.
Несколько дней спустя, богачка получила горностаевый мех и принялась делать себе шубу.
Во-первых, мех ей очень понравился; во-вторых, есть дело, и она не будет помирать от скуки.
Отдать мех ремесленнику она боится, как бы не украли. И посылает она за портным, чтоб тот сшил ей шубу у нее на дому. Она сама будет сидеть и следить за работой.
Портной же этот был сорвиголова, какие встречаются среди портных.
Мужчина – красавец, говорит – точно рубит, и вдобавок ловкий – иголка летала у него в руках, и притом, если он за работой не говорил, то пел, как канарейка.
Дошло до того, что между богачкой и портным завязался разговор.
И портной рассказывает ей про свои детские годы:
Он с ранних лет остался сиротой, без отца и без матери; бедные родственники, которым трудно было кормить его и платить за учение в хедере, отдали его в учение к портному.
А портной очень плохо обращался с ним… Каторжная была работа, и не по ремеслу. Он дрова рубил, воду таскал… Били его смертным боем… Хозяин, хозяйка, старшие мастера… Он и от голода страдал… И чего только он не вынес?.. Летом и зимою он ходил гол и бос. В самые трескучие морозы он спал на голом полу, подложив кулак под голову. У него даже нечем было прикрыться…







