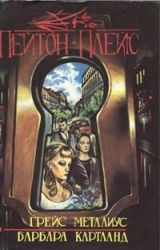
Текст книги "Пейтон-Плейс"
Автор книги: Грейс Металиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
ГЛАВА III
В ту же самую октябрьскую пятницу Сет Басвелл встретил на улице Вязов Лесли Харрингтона. Они обменялись приветствиями, так как были цивилизованными людьми и родились на одной улице, в одном городе и мальчиками ходили в одну школу.
В действительности, если на минуту задуматься, криво усмехаясь, рассуждал Сет, у них с Лесли много общего.
– Вы, ребята, все еще играете в карты по пятницам? – спросил Лесли.
Сет с трудом скрыл удивление: первый раз он слышал от Лесли то, что было очень похоже на просьбу.
– Да, – ответил Сет, и после этого единственного слова наступила неловкая пауза.
Каждый ждал, когда заговорит другой, но Сет не сделал ожидаемого приглашения, а Лесли больше не спрашивал. Они разошлись, но оба думали об одном и том же. Лесли Харрингтон не играл в покер на Каштановой улице с 1939 года и, если Сет не изменит себе, больше никогда не будет.
В течение многих лет между игроками в покер существовала договоренность: если кто-то из них не мог присутствовать на еженедельной игре, он должен был позвонить и уведомить об этом Сета после ужина в вечер встречи. Вечером, четыре года назад, Лесли позвонил ему. Это было в тот вечер, когда присяжные приняли решение по делу Элсворс против Харрингтона.
– Сет, – сказал Лесли. – Целый день в суде, я просто одурел. Вычеркни меня на сегодня.
– Я вычеркну тебя, Лесли, – разозленный прошедшим днем, с болью в сердце сказал Сет. – На сегодня и на все последующие пятницы. Я больше не хочу видеть тебя в моем доме.
– Перестань, не сходи с ума, Сет, – предостерегал Лесли. – В конце концов, мы столько лет были друзьями.
– Мы не были друзьями, – отвечал Сет. – Это просто совпадение, мы родились на одной улице в одном городе. Неприятное совпадение, должен сказать, – и на этом он повесил трубку.
«Да, действительно, – рассуждал Сет, поднимаясь по ступенькам крыльца своего дома, – у нас с Лесли и правда много общего. Один город, улица, друзья. Даже когда-то одна женщина. Как это легко, как опасно легко ненавидеть человека за свои собственные недостатки».
Эта последняя мысль ослабила в Сете пружину самобичевания до такой степени, что он почувствовал привкус желчи во рту, и как только вошел в дом, сразу сделал себе такую порцию спиртного, что ею можно было отбить любой неприятный привкус. К тому времени как, опередив на несколько минут остальных, прибыл Мэтью Свейн, редактор газеты был совершенно пьян.
– Бог ты мой! – воскликнул доктор, переступая через вытянутые ноги Сета, чтобы подойти к столу, на котором стояла бутылка. – В чем причина?
– Я размышлял, мой дорогой друг, – заплетающимся языком сказал Сет. – Размышлял о том, с какой легкостью один человек может обвинить другого в своих собственных недостатках. И из этого, старина, – Сет прищурил один глаз и ткнул пальцем в доктора, – многое следует. Используя идиомы на твоем уровне, я могу даже сказать, что эта мысль беременна.
Доктор налил себе выпить и сел.
– Вижу, сегодня не составит труда почистить твои карманы, – сказал он.
– Эх, Мэтью, где твоя душа, если ты можешь говорить о картах, когда я нашел решение всех мировых проблем.
– Извините, Наполеон, – сказал Свейн, – звонят в дверь.
– Если каждый человек, – продолжал Сет, игнорируя ремарку Дока, – прекратит ненавидеть и обвинять другого в собственных недостатках и неудачах, мы станем свидетелями гибели зла в этом мире – от войны до злословия.
Мэтью Свейн, который ходил открывать дверь, вернулся в сопровождении Чарльза Пертриджа, Джареда Кларка и Декстера Хамфри.
– Мы все в одной дырявой лодке, – сказал Сет вместо приветствия.
– Что с ним такое? – риторически спросил Джаред.
– Он нашел решение мировых проблем, – сказал Свейн.
– Хм, – буркнул Хамфри, чей недостаток чувства юмора был притчей во языцех. – С ним все было в порядке, когда я видел его сегодня днем. Ну, я пришел играть в карты. Мы будем играть?
– Располагайтесь, джентльмены, – сказал Сет, щедро взмахнув рукой. – Чувствуйте себя как дома. Я посижу здесь и помедитирую.
– Черт возьми, что на тебя нашло, Сет? Так рано начал с бутылки, – спросил Пертридж.
Сет посмотрел на адвоката.
– Тебе никогда не приходило в голову, Чарльз, что терпимость может дойти до той точки, когда это уже не терпимость? Когда получается, что благородная позиция, которой мы все так гордимся, превращается в слабость и молчаливое соглашательство.
– Фу, – сказал Пертридж, искусственным жестом вытирая лоб. – Ты изъясняешься как на студенческом сборище. Что ты хочешь этим сказать?
– Я говорю, – высокопарно сказал Сет, – о тебе, о себе, обо всех нас в связи с Лесли Харрингтоном.
Наступила тишина, и Сет, как сова, переводил глаза с одного друга на другого. Наконец Декстер Хамфри откашлялся.
– Давайте играть в карты, – сказал он и пошел в кухню Сета.
– Все мы, каждый из нас, ненавидит Лесли за свои собственные недостатки, – сказал Сет, откинулся в кресле и отпил из бокала.
Если Сет Басвелл и Лесли Харрингтон и имели что-то общее, так это то, что Сет, как и Лесли, был не из тех, кто волнуется. Разница тут была лишь в том, что Лесли приучил себя не волноваться, а Сет никогда не волновался вообще. Джордж Басвелл, отец Сета, был так же богат, как и отец Лесли, он был видным человеком в штате и «отбрасывал длинную тень». И если Лесли страдал от постоянного желания добиться успеха, то Сет так давно оставил всякие надежды оставить след в этой жизни, что уже сам не помнил, когда это было, и это позволяло ему не волноваться из-за неудач, с которыми Лесли был вынужден научиться сосуществовать. Сет не мог вспомнить свое решение – годы превратили его в неопределенное чувство.
«Никто никогда не сможет сказать, что, несмотря на все попытки, я не смог стать таким, как отец, потому что я никогда не буду стараться быть таким, как он»
Это чувство молодого Сета было началом того, что его отец позднее с прискорбием называл «лень Сета», – а мать обозначила, как «полное отсутствие амбиций у Сета».
Как бы это ни называлось, в результате забытого решения Сет поплыл по течению. Он дрейфовал через юность, и через четыре года в Дартмуте, и таким же путем приплыл по течению к владению «Пейтон-Плейс Таймс». Он отрешенно дрейфовал через смерть родителей и потерю любимой, и вскоре отрешенность Сета стала известна в Пейтон-Плейс как терпимость Сета.
– Если ты ничему не придаешь значения, очень легко быть терпимым, – сказал однажды Сет своему молодому другу д-ру Свейну. – Ни одна из сторон картины не волнует тебя, и это дает тебе возможность трезво и ясно увидеть обе стороны.
Молодой доктор Свейн, две недели назад женившийся на девушке по имени Эмили Гилберт, сказал:
– Я скорее умру, чем не буду придавать ничему значения.
А так как это трудно, если не невозможно, для человека – выжить, не любя хоть что-нибудь, – Сет Басвелл обратил свою любовь на Пейтон-Плейс. Это была терпимая, беспристрастная любовь, которая не требовала и не ждала ничего взамен, и со стороны больше походила на заинтересованность и гражданскую гордость, чем на любовь.
«Нам нужна новая средняя школа, – писал Сет в редакторской статье, – но, конечно, это будет нам стоить денег. Вырастут налоги. С другой стороны, с тем, что мы имеем, мы не можем дать детям достойное образование. Мне кажется, те люди, у которых есть дети, и те, кто собирается их иметь, должны решить: или они платят налоги на собственность на 1 доллар и 24 цента выше, или нас удовлетворяет второсортное образование».
Люди северной Новой Англии – люди Сета, и он хорошо их знал. Его терпимость, его кажущееся безразличие одерживали верх там, где сила и приказной тон неминуемо потерпели бы поражение. В Пейтон-Плейс говорили, что Сет никогда не использовал «Таймс», как оружие, даже во время политических кампаний, и это была правда. Сет публиковал материалы, интересующие жителей Пейтон-Плейс и ближайших городов. Какими бы ни были мировые новости, которые Сет получал из «Ассошиэйтед Пресс», Сет никогда не комментировал и не распространялся о них в редакторских статьях. «Светские новости, городские сплетни и прочая вода – вот что вам предлагает „Таймс"», – так могли сказать владельцы других газет штата. И тем не менее за первые несколько лет владения газетой Сет добился того, что его город получил новую среднюю школу, был построен Мемориальный парк и создан фонд для его содержания. Он собрал немало денег, которые были переданы на строительство городской больницы, и через газету собрал добровольцев для строительства новой пожарной части. Годами, с помощью своей терпимости и несиловой манеры, Сет заботился о том, чтобы его город рос и улучшался, а потом родился сын Лесли Харрингтона. Получилось так, что у Лесли, одержавшего победу на новом поле, появились новые интересы. В год, последовавший за рождением Родни, на городском собрании впервые поднялись голоса против Сета, и это были голоса рабочих с фабрики. Год за годом, когда дело касалось волнующих Сета проблем, таких как строительство новой школы и закон о зонах, большинство голосов было против редактора. Сет отступал за свое терпимое безразличие и позволял Лесли Харрингтону занимать позицию, близкую к диктаторской. Сет упорно отказывался использовать газету для пропаганды своих идей. Он пожимал плечами и говорил, что люди скоро устанут от диктаторских методов Харрингтона, но тут он ошибался, – Лесли не диктовал, он покупал. Когда Сет это понял, он снова пожал плечами, и все в городе говорили, что его терпимость героических пропорций. Сет и сам в это верил, пока в один прекрасный день 1939 года в его кабинет, сжав кулаки, не вошла бледная Эллисон Маккензи.
– Элсворсы подали в суд на Харрингтона, – сказала она. – И все говорят, что они не выиграют ни цента, потому что жюри целиком состоит из работников фабрики. Что мы собираемся предпринять?
Сет посмотрел на напряженную, прекрасную девушку шестнадцати лет и постарался ей объяснить, почему они ничего не собираются предпринимать по делу «Элсворсы против Харрингтона».
– Меня это раздражает не меньше, чем тебя, – сказал он. – Действительно, я часто грозил использовать газету как инструмент разоблачения. Я угрожал каждый год перед городским собранием, когда понимал, что потерплю поражение, выступив с предложением о строительстве новой школы или законе о зонах. Но я никогда этого не делал. Почему? Потому что я верю в терпимость, а одно из требований терпимости – это не только умение выслушать точку зрения другого, но и не забивать ему в глотку свое мнение. Я скажу все, что я думаю, любому, кто захочет слушать, но я не буду принуждать читать об этом на страницах моей газеты.
– Даже если вы уверены в своей правоте? – спросила звенящим голосом Эллисон – она не верила ему.
– Разве в этом дело? Мнение одного человека и право другого защитить себя от него – разные вещи. Я напечатаю что-нибудь в газете, позже человек придет домой и прочитает это, но меня не будет рядом, если он захочет возразить мне. Единственный выход для него – сесть и написать «Письмо редактору», и тогда это будет несправедливо по отношению ко мне, потому что, если я захочу возразить читателю, его не будет рядом.
– Не знаю, – сказала Эллисон, контролируя свой голос, – как вы дошли до таких мыслей, и меня это не волнует. Я принесла то, что я написала. Я не прошу вас печатать в газете свое мнение. Напечатайте мое и напечатайте мою фамилию. Я не боюсь писать то, что думаю, и меня не волнует, кто это прочтет и кто со мной не согласится. Я знаю, что права.
– Давай посмотрим, что ты написала, – сказал Сет, протягивая руку.
Эллисон написала много, это касалось Конституции, Декларации Независимости и Богом данного права человеку на справедливый суд. Она также написала о желании скупца делать деньги, которое доходит до такой степени, что он уже не придает значения тому, как он их добывает. Она обвинила Харрингтона в безразличии и бездушии, потому что, если он имеет право называться человеком, он никогда не стал бы ждать суда, а сам бы положил деньги на счет Элсворсов и до конца жизни чувствовал бы себя виноватым перед Кэти Элсворс. Пришла пора, писала Эллисон, подняться людям, которым дорога их честь. Если в свободной Америке человеку грозит предвзятое слушание в суде – пришла пора испытать души людей. Всего Эллисон исписала семнадцать страниц, выражая свое мнение о Лесли Харрингтоне и о том, в каких клещах он держит Пейтон-Плейс. Сет закончил чтение и аккуратно положил рукопись на стол.
– Я не могу напечатать это, Эллисон, – сказал он.
– Не можете! – крикнула она и схватила свои бумаги со стола. – Вы просто не хотите!
– Эллисон, дорогая…
Ее глаза наполнились злыми слезами.
– А я думала, вы мой друг, – сказала она и выбежала из кабинета.
Сигарета обожгла пальцы Сету, и он резко выпрямился в кресле. Какой-то момент его разум отказывался воспринимать окружающее, но потом в поле его зрения попал книжный шкаф у противоположной стены, и Сет понял, что находится в гостиной, в своем собственном доме.
– Будь оно все проклято, – пробормотал он и начал обследовать пол в поисках оброненного окурка.
Увидев его, Сет втоптал окурок в ковер, откинулся в кресле и допил полупустой бокал. С кухни неслись приглушенные голоса мужчин, играли в карты.
– Дальше.
– Я пас.
– Называй.
– Черт, а я сидел с тремя королями.
«Мои друзья, – подумал Сет и сглотнул слюну от слишком много выпитого на пустой желудок. Это, конечно, способствовало и дурным воспоминаниям. – Мои добрые, усталые, настоящие друзья», – подумал Сет и снова услышал голос из прошлого:
– А я думала – вы мой друг!
Сет допил бокал и налил новый. «Я был твоим другом, ты это знаешь, – мысленно обращался Сет к Эллисон из прошлого. – Если бы ты слушала меня, тебе не было бы так больно. Я старался научить тебя не волноваться слишком много. Это беспокойство обо всем, оно всегда было в тебе, моя дорогая. Это было видно по тому, как ты писала, а так, моя дорогая, милая, талантливая, прекрасная Эллисон, не делается ясная, разумная, аналитическая проза».
– Стрит, все пики, мой Бог! – долетел до Сета полный энтузиазма голос Чарльза Пертриджа.
«Мой друг, – подумал Сет, – мой добрый друг Чарли Пертридж. Какие оправдания мы придумывали тогда друг для друга, Чарли. Замечательные оправдания, они звучали весьма благородно!»
И неожиданно Сет снова был там, в 1939-м. Октябрь 1939-го. «Бабье лето» 1939-го, переполненный зал суда, и его друг Чарли Пертридж мягко говорит его другу Эллисон Маккензи:
– Дорогая, запомни, что ты поклялась говорить правду. Я хочу, чтобы ты рассказала суду, что точно произошло вечером в День труда в этом году. Не бойся, дорогая, ты здесь среди друзей.
– Среди друзей? – это не был голос ребенка, который благодарил Сета за возможность писать статьи в газету. За деньги. – Друзья? Кэти Элсворс – мой друг. Она – мой единственный друг в Пейтон-Плейс.
– Теперь, – звучал голос Чарльза Пертриджа в воспоминаниях Сета. – Не было ли так, что у твоей подруги Кэти Элсворс закружилась голова, когда она посмотрела на вращающиеся части машины в этом доме в луна-парке?
– Протестую, ваша честь! – это был голос Питера Дрейка, молодого адвоката, открывшего свой офис в Пейтон-Плейс один Бог знает зачем.
Он пришел, как говорили горожане, «неизвестно откуда» и до дела «Элсворсы против Харрингтона» занимался разбором пустячных дел рабочих с фабрики. И вот, пожалуйста, осмеливается возражать Чарли Пертриджу, который родился в этом городе.
Достопочтенный Энтони Элдридж, упрямо отказывающийся поселиться на Каштановой улице, хотя он был судьей и мог себе это позволить, поддержал Питера Дрейка. Суд не интересовало, что думает Эллисон, его интересовало только то, что она видела. Сет посмотрел на жюри, чтобы узнать, какой вред нанес вопрос Чарли, – жюри состояло из сторонников Лесли Харрингтона. В Пейтон-Плейс невозможно было найти двенадцать человек, которые бы не работали на фабрике и не брали бы кредит в городском банке, где Лесли был председателем правления, а Лесли действовал быстро. Он уволил Джона Элсворса, отца Кэти, неожиданно нашел покупателя на дом, который арендовала семья Элсворсов. Не удивительно, что работники с фабрики были на стороне Лесли, подумал Сет, глядя на Эллисон, занявшую место свидетеля.
Слушание продолжалось три дня, единственный человек, который поддержал Эллисон Маккензи, – Майкл Росси. Он показал, что, когда он подошел к механику и попросил его отключить механизмы, работающие в «доме смеха», тот сказал, что не знает, как это сделать. Показания Льюиса Уэллеса, по мнению Пейтон-Плейс, не шли в счет, потому что все в городе знали, что он и Кэти «ходят вместе» и он, естественно, будет ее поддерживать, тем более, если речь идет о тридцати тысячах долларов.
Тридцать тысяч долларов! Пейтон-Плейс не уставал произносить эти слова.
– Тридцать тысяч! Ты только подумай!
– Представляешь, подать на Харрингтона на тридцать тысяч долларов!
– И что этот Элсворс о себе думает? Откуда он взялся? Это он за этим стоит. Девочка никогда бы этого не сделала, если бы отец не подтолкнул ее!
– Тридцать тысяч одним куском, да за такие деньги я бы две руки отдал!
После трех дней слушания жюри совещалось, судя по часам Сета, ровно сорок две минуты. Они оштрафовали Харрингтона на две с половиной тысячи долларов; слышали, как он говорил, что такая цифра его устроит. Кэти Элсворс, которая не присутствовала на суде, восприняла эту новость спокойнее всех. У нее теперь нет правой руки, говорила она, и тут ничего не поделаешь. Ни тридцать тысяч, ни две с половиной не повлияют на то, что теперь она должна учиться обходиться одной левой рукой.
В тот вечер, когда мужчины Каштановой улицы без Лесли Харрингтона собрались у Сета для игры в покер, Чарльз Пертридж был полон оправданий.
– Господи, – говорил он. – Я знаю, что так не должно быть. Но что я мог сделать? Я адвокат Лесли. Он платит мне по договору, заключенному на год, в котором говорится, что я согласен защищать его и делать со своей стороны все возможное. Тридцать тысяч – большая сумма. Я должен был сделать то, что сделал.
– Только не говори, что этот сукин сын не мог себе позволить заплатить эту сумму, – сказал Декстер Хамфри, президент банка.
– Лесли всегда был скрягой, – сказал Джаред Кларк. – Не думаю, что он хоть раз в жизни купил что-нибудь, не поторговавшись перед этим.
– А вообще, – сказал д-р Свейн, – я не надеялся, что девочка выживет.
– В один прекрасный день этот подонок получит свое, – сказал Сет. – В пиках. Он расплатится за все и никогда этого не забудет. Я только надеюсь, что окажусь рядом и увижу это.
«Все мы, каждый из нас ненавидит Лесли Харрингтона, потому что ни у кого из нас не хватило смелости встать и сказать ему и всем остальным, что мы обо всем этом думаем», – размышлял пьяный Сет, сидя у себя дома, осенью 1943 года. Он поднял пустой бокал и, собрав остаток сил, швырнул его в стену. Бокал даже не разбился, он покатился по ковру в сторону стенного шкафа.
– Мои друзья, – сказал вслух Сет – Мои добрые, благородные друзья. Пошли они все!
– Что ты говоришь, Сет? – спросил Свейн, входя в комнату, а за ним и все игроки, закончившие игру в покер.
– Кроме тебя, Мэт, – бормотал Сет. – Пошли они все, кроме тебя, Мэт, – сказал он и заснул в кресле с открытым ртом.
ГЛАВА IV
В этот год снег выпал рано. К середине ноября поля стали белыми, и, еще не успела закончиться первая неделя декабря, вдоль улиц Пейтон-Плейс выросли сугробы снега, убранного с дорог и тротуаров, чтобы не мешать машинам и пешеходам.
Магазин Татла всегда был переполнен в зимние месяцы. Фермеры, которым так не хватало времени в последние дни лета, обнаружили, что у них масса свободного времени. Большинство из них проводило его в разговорах у Татла. Эти разговоры очень мало значили, очень мало решали и зимой 1943-го в основном касались войны. Хотя война и изменила внешность Пейтон-Плейс, но мало, а собирающихся у Татла не изменила вовсе. В городе осталось мало молодых людей, но молодые никогда и не собирались вокруг печки Татла, так что состав беседующих не менялся здесь годами. В магазине уменьшился ассортимент продуктов, но у здешних стариков никогда не было достаточно денег, чтобы покупать всякую всячину, поэтому недостаток товаров никак на них не отразился. Что касается фермеров, продукты для них оставались такой же проблемой, как и всегда. Война не сделала почву Новой Англии менее каменистой и плодородной, не сделала она и погоду более предсказуемой. Вырвать жизнь у земли всегда было нелегким делом, и война тут ничего не меняла. Старики у Татла говорили и говорили, а фермеры не чувствовали себя обманутыми, проводя заработанные нелегким трудом часы досуга в этих разговорах. Когда разговоры на местные темы исчерпывали себя, начинались нескончаемые разговоры о войне. Каждая битва на фронтах переигрывалась стариками у печки заново, но с более талантливой, блестящей стратегией, с большей смелостью и отвагой. Мужчины, включая тех, чьи сыновья воевали, неутомимо принимали участие в этих разговорах, так как считали, что именно это требуется от мужчин, чья страна участвует в военных действиях. Хотя ни один из них даже на секунду не верил в поражение Америки, они обсуждали и эту возможность. Идея о том, что сапог германского или японского солдата будет топтать землю, которую возделывали деды стариков, собравшихся у Татла, была такой искусственной и натянутой, это было настолько невозможно представить, что, когда это произносилось вслух, говорившего слушали в такой тишине, будто дискуссия требовала экстрасенсорного восприятия. Об этом можно было поговорить и послушать других, но никто в это не верил. Человек, приехавший в Пейтон-Плейс из мест, где шла война, мог бы быть ошарашен недостатком перемен в связи с происходящим. Единственные серьезные изменения произошли на фабрике, которая теперь перешла на военную продукцию. Рабочие работали в три смены, двадцать четыре часа в сутки, а тот факт, что люди стали больше зарабатывать, не был очевиден, так как на заработанные деньги было нечего покупать. Новый в Пейтон-Плейс человек мог бы по ошибке принять неверие в опасность за смелость или равнодушие.
Селена была одной из немногих, кто эмоционально переживал войну. Ее сводный брат Пол служил где-то на Тихом океане, а Глэдис работала на самолетостроительном заводе в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Зимой 1943 года Селену преследовало ощущение беспокойства и крушения надежд.
– Хотела бы я быть мужчиной, – сказала она Майку Росси. – Тогда меня бы здесь ничто не удержало, я бы сразу ушла в армию.
Потом она пожалела, что сказала это. Селена узнала, что Майк несколько раз пытался добровольцем уйти в армию. Но, казалось, ни один из родов войск не горит желанием увидеть Майка в своих рядах: ему было за сорок и когда-то давно у него были сломаны обе коленки.
Кроме беспокойства, Селену мучило еще и чувство вины. Она знала, что должна быть благодарна судьбе за то, что Тед Картер находится в полной безопасности и продолжает учебу в университете, благодаря хорошим оценкам. Но почему-то это ее не радовало. Ей казалось, что Тед должен воевать плечом к плечу с Полом и другими, и ее раздражало, когда Тед приезжал на уикенды или писал жизнерадостные письма, в которых постоянно упоминал, как ему повезло, что «он может продолжать учебу».
Это прекрасно, признавала Селена, когда человек твердо выбрал цель своей жизни, и Тед, она знала это, – не трус. После окончания учебы он был готов и хотел уйти на войну.
– Если я смогу остаться еще на один год, включая лето, я получу степень бакалавра. Тогда останется совсем немного и – кто знает? Может, война закончится раньше, – говорил ей Тед.
– А я думала, ты хочешь пойти в армию. В конце концов; Соединенные Штаты воюют.
– Не то что я не хочу, – отвечал Тед, уязвленный ее непонятливостью. – Просто так я не потеряю время и мы сможем очень скоро пожениться.
– Время! – усмехнулась Селена. – Дай только немцам или японцам прийти сюда, и тогда посмотрим, что будет с твоим драгоценным временем!
– Но, Селена, мы все спланировали на год, еще когда были детьми. В чем же дело?
– Ни в чем!
Селена и вправду не могла сказать Теду, в чем дело. Она понимала, что ее чувства были ребяческими и такими неразумными, что их нельзя было объяснить, и все-таки она так чувствовала. Она не могла избавиться от ощущения, что что-то не так с молодым, здоровым парнем, который хочет оставаться в сонном студенческом городке, когда во всем мире бушует война.
После смерти Нелли и после того, как приехали Пол и Глэдис и сделали жизнь Селены более комфортной и безопасной, отношение Картеров к ней заметно смягчилось. В конце концов, говорили они, только действительно смышленая девушка может справиться с магазином без какой-либо помощи со стороны владельца. С тех пор как Конни вышла замуж за этого грека, она редко появлялась в «Трифти Корнер». Селена управлялась одна, а для этого требуется немало способностей от восемнадцатилетней девушки. Теперь, когда Селена осталась одна с Джо, Роберта иногда приглашала ее на воскресный ужин и всегда настаивала на прочтении писем от Теда, надеясь, что Селена в ответ поделится с ней своими. Селена никогда этого не делала. Ей не нравились Роберта и Гармон, и она не могла заставить себя довериться им. Она принимала приглашения Роберты, так как не могла найти достойного повода для отказа, но ей никогда не было хорошо по воскресеньям у Картеров, и всегда, когда заканчивалось такое воскресенье, Селена и Джо вели себя как дети, сбежавшие из школы. Они хохотали и вприпрыжку бежали домой. Селена готовила гамбургеры, Джо ел и изображал манерную леди Роберту, пока Селена смеялась. Еда в ее тарелке остывала.
«Мне не на что жаловаться, – думала Селена, однажды холодным декабрьским вечером возвращаясь домой после закрытия «Трифти Корнер». – Если бы во мне был хоть грамм благодарности, я бы знала, что должна сказать спасибо за все, что у меня есть».
Перед тем как открыть дверь и войти в дом, Селена подняла голову и посмотрела на тяжелое небо. Будет снег, подумала она и поспешила в тепло, где Джо уже накрыл на стол ужин и где ее ждало очередное письмо от Теда. Джо разжег в камине огонь, – он знал, что Селена любит смотреть на пламя за едой. Камин был ненужной экстравагантностью. После того как Пол узнал от Глэдис, что Селена считает, что дом нельзя назвать домом, если в нем нет камина, Пол потратил немало раздумий и труда для его установки.
– Камин! – добродушно насмехался Пол, когда Селена расплакалась, увидев его законченную работу. – Они грязные и старомодные. Откуда у тебя такие представления?
– От Конни Маккензи, – отвечала Селена. – Я сидела у них дома напротив камина вместе с Эллисон и мечтала о том дне, когда у меня будет свой камин.
– Ну, теперь ты его получила, – сказал Пол. – Только не ворчи на меня, когда дрова будут сырыми, а труба будет плохо тянуть и вся комната заполнится дымом.
Селена рассмеялась.
– А еще я представляла, что у меня белые волосы и я сижу напротив своего камина, и они блестят в отсветах огня, совсем как у Конни. Я бы отдала все, чтобы быть такой же красивой, как она.
– Тут тебе ничего не поможет! – поддразнивал ее Пол. – У тебя фигура, как у швабры, а лицо, как у ежа. Конни Маккензи – подумать только! Нет ни одного шанса.
Хотя Селена совсем не была похожа на маму Эллисон, как она того хотела, тем не менее она была прекрасна. К двадцати годам она оправдала все надежды, которые подавала в ранней юности. В ее глазах была невысказанная тайна, но теперь уже не казалось, что у Селены не по возрасту взрослые глаза. Куда бы она ни шла, люди по два-три раза оборачивались на нее. В Селене были видны следы пережитого страдания, а это привлекает больше, чем просто красота. Джо иногда смотрел на нее, и его переполняла такая любовь, что ему хотелось дотронуться до Селены или хотя бы позвать по имени, чтобы она посмотрела на него.
– Селена!
Она оторвала глаза от книги и взглянула на него. Огонь в камине так освещал ее лицо, что щеки казались более впалыми, чем были на самом деле.
– Да, Джо?
Он опустил глаза.
– Сегодня, наверное, будет сильный снегопад, – сказал он. – Ветер воет, как собака.
Селена встала, подошла к окну и прижалась лицом к стеклу, прикрыв с боков ладонями глаза.
– Так уже идет снег! – воскликнула она. – Начинается настоящая метель. Ты хорошо закрыл загон?
– Да. Я знал, что будет метель. Мне Клейтон Фрейзер сказал. И объяснил, откуда он знает. Он смотрит, есть ли тучи до четырех часов дня.
– А что случится, если туч до четырех не будет? – рассмеялась Селена.
– Тогда не будет метели в этот вечер, – уверенно сказал Джо. – Будет только на следующий день.
– Понимаю, – серьезно сказала Селена. – Послушай, как насчет выпить по чашке какао и сыграть в шашки?
– Я не против, – небрежно сказал Джо, но его сердце и глаза наполнились любовью к сестре.
Селена всегда давала ему почувствовать себя большим и важным. Почувствовать себя мужчиной, а не мальчишкой. Она полагалась на него и любила, когда он был рядом. Джо знал в школе мальчишек, чьи старшие сестры скорее бы умерли, чем позволили бы младшему брату болтаться рядом. А Селена не такая. Если она не видела его какое-то время, пусть даже только два часа, она всегда вела себя так, будто он вернулся из дальней поездки. «Привет, Джо!», – говорила она, улыбаясь, и лицо ее освещалось от радости. Она никогда не целовала и не ласкала его, как некоторые женщины других мальчиков. «Я бы умер, – думал Джо, – если бы она хоть раз сделала это». Но иногда она его, играючи, шлепала или трепала по волосам и говорила, что если он в скором времени не подстрижется, парикмахер будет гоняться за ним по улице Вязов, размахивая ножницами. Она трепала его волосы и говорила так, даже, когда он не нуждался в стрижке.
– Давай, братишка, – сказала Селена, потрепав его по голове. – Давай шашки. И когда ты сострижешь эту мочалку? Если ты не поспешишь, в один из этих дней Клемент устроит на тебя охоту на улице Вязов. Он будет гоняться за тобой, размахивая ножницами, и умолять, чтобы ты подождал, пока он тебя поймает.
Они пили какао и играли в шашки. Джо три раза подряд обыграл сестру, она сидела и стонала, по-видимому не в силах остановить своего гениального соперника. Потом они легли спать. Гораздо позже, ближе к часу ночи, раздался дверной звонок.
Селена испуганно села на кровати! Пол, подумала она и начала шарить в темноте в поисках выключателя ночника. Что-то случилось с Полом, это принесли телеграмму Селена знала, чего можно ждать. Желтая телеграмма с одной или двумя красными звездами, приклеенная к окну, – таким образом правительство подготавливало людей к сообщению о том, что дорогой им человек искалечен или убит. Подсознательно Селена обратила внимание, что ветер усилился и снег, как дробинка, бьется о стекла. Она воевала с рукавом халата и одновременно включила в гостиной свет, и когда она наконец открыла дверь, ветер вырвал ее у Селены из рук, хлопнул ею о стену и швырнул снегом в лицо. Лукас Кросс ввалился в дом. Парализованный мозг Селены мог думать только о том, что надо закрыть за ним дверь.








