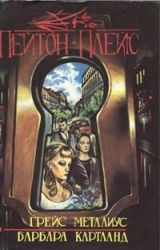
Текст книги "Пейтон-Плейс"
Автор книги: Грейс Металиус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
ГЛАВА IV
Эллисон Маккензи, в честь которого и была названа дочь, умер, когда ей было три года. У нее не осталось воспоминаний, связанных с отцом. Сколько Эллисон себя помнила, она всегда жила со своей матерью Констанс в Пейтон-Плейс, в доме, который когда-то принадлежал ее бабушке. Констанс и Эллисон имели мало общего: мать была слишком холодна и практична, чтобы понять чувствительного и мечтательного ребенка, а Эллисон была слишком молода и полна надежд и фантазий, чтобы сочувствовать матери.
Констанс была красивой женщиной с трезвым умом, чем всегда очень гордилась. В девятнадцать лет она осознала все недостатки такого города, как Пейтон-Плейс, и, несмотря на протесты своей овдовевшей матери, отправилась в Нью-Йорк с целью встретить новых людей, устроиться на хорошую работу и, наконец, выйти замуж за человека богатого и с положением. Констанс стала секретарем Эллисон Маккензи, красивого, благовоспитанного шотландца, преуспевающего владельца магазина по продаже импортных товаров. Через три недели после устройства Констанс на работу они стали любовниками, а на следующий год у них появился ребенок, которого Констанс тут же назвала в честь отца. Эллисон Маккензи и Констанс Стэндиш никогда не были женаты, поскольку, как он выражался, «там в Скарсдейл» у него уже были жена и двое детей. Эллисон произносил «там в Скарсдейл» так, будто говорил: «там на Северном полюсе», но Констанс никогда не забывала, что семья ее любовника живет на опасно близком расстоянии от Нью-Йорка.
– И что ты собираешься теперь делать? – спросила Констанс.
– Будем жить, как и жили, – сказал он. – Не вижу, что еще мы можем сделать, не вызвав при этом неземное зловоние.
Констанс, выросшая в маленьком городке, хорошо знала, как неприятно становиться предметом разговоров.
– Наверное, действительно ничего, – согласилась она.
Но с этого момента Констанс начала планировать свою жизнь и жизнь еще не родившегося тогда ребенка. Через мать она распространила в Пейтон-Плейс респектабельный вымысел о самой себе. Элизабет Стэндиш отправилась в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на скромном бракосочетании своей дочери, куда были приглашены только родственники и самые близкие друзья. Так думали в Пейтон-Плейс. На самом деле она отправилась в Нью-Йорк, чтобы побыть рядом с Констанс, которая только что вышла из госпиталя с ребенком, названным в честь Эллисона Маккензи. Позже для Констанс не составило особого труда вытравить в свидетельстве о рождении Эллисон последнюю цифру в дате ее рождения и заменить на другую. Не реагируя на письма, полные намеков о желании посетить семью Маккензи, Констанс постепенно оборвала все связи с друзьями детства. Вскоре в Пейтон-Плейс забыли о ее существовании, лишь старые друзья иногда вспоминали о ней, встречая на улице Элизабет Стэндиш.
– Как Конни? – спрашивали они. – Как ребенок?
– Прекрасно. Все просто прекрасно, – отвечала бедная миссис Стэндиш, боясь, что, глядя на нее, они догадаются, что все совсем не так уж прекрасно.
С того дня как родилась Эллисон, Элизабет Стэндиш жила в постоянном страхе. Она боялась, что плохо справляется со своей ролью, что когда-нибудь, раньше или позже, кто-нибудь узнает, что в свидетельстве стоит неверная дата рождения или что какой-нибудь наблюдательный человек поймет, что ее внучка Эллисон на год старше, чем говорит Констанс. Но больше всего она боялась самой себя. В самых страшных ночных кошмарах она слышала голоса жителей Пейтон-Плейс.
– Вон идет Элизабет Стэндиш. У ее дочери проблемы с одним парнем в Нью-Йорке.
– Все зависит от матери: как она воспитает свою дочь, такой та и будет, когда повзрослеет.
– У Констанс маленькая девочка.
– Малышка растет без отца.
– Безотцовщина.
– Эта потаскуха Констанс Стэндиш и ее сиротка дочь.
После смерти Элизабет Стэндиш коттедж на Буковой улице опустел. Констанс была готова вернуться в Пейтон-Плейс, как только Эллисон Маккензи захочет избавиться от нее. Но Эллисон не бросил Констанс с ребенком. По-своему он был хорошим человеком с обостренным чувством ответственности. Он заботился и обеспечивал две семьи до самой смерти и даже после нее. Констанс никогда не знала, да и не хотела знать, в каком положении осталась жена Эллисона. Ей было достаточно того, что он, через адвоката, умеющего держать рот под замком, оставил ей и дочери существенную сумму. Прибавив к этому сбережения, накопленные при жизни Эллисона, Констанс вернулась в Пейтон-Плейс и обосновалась в коттедже Стэндиш. Она не оплакивала своего любовника, по той простой причине, что никогда не любила его.
Вскоре после возвращения в Пейтон-Плейс Констанс открыла на улице Вязов небольшой магазин одежды и полностью посвятила себя работе и собственной дочери. Никто не подвергал сомнению тот факт, что Констанс была вдовой человека по имени Эллисон Маккензи. На камине в гостиной она поставила большую фотографию своего покойного мужа. Все в Пейтон-Плейс симпатизировали Констанс Маккензи.
– Ужасно, – говорил Пейтон-Плейс, – умереть таким молодым.
– Женщине нелегко приходится одной, особенно с ребенком.
– Она много работает, эта Конни Маккензи. Каждый день до шести вечера в своем магазине.
В тридцать три года Констанс была по-прежнему хороша. Ее светлые волосы были гладкими и блестящими, время не оставило никаких следов на прекрасном лице Констанс.
– Такая женщина, – говорили мужчины Пейтон-Плейс, – еще вполне может присмотреть себе пару и снова выйти замуж.
– Может она все еще горюет по своему мужу, – говорили женщины. – Некоторые вдовы оплакивают мужей до конца своих дней.
На самом же деле Констанс просто нравилось жить одной. Она решила, что не настолько уж она сексуальна, чтобы начинать все сначала, а ее роман с Эллисоном был просто бегством от одиночества. Она снова и снова повторяла про себя, что жизнь с дочерью ее полностью устраивает и это как раз то, чего она хотела. Мужчины совсем ни к чему, в лучшем случае они ненадежны и только создают проблемы. Что же касается любви, она хорошо знала, к чему приводят отношения с нелюбимым мужчиной. Каков же будет результат, если она позволит себе полюбить? Нет, говорила себе Констанс, лучше уж все оставить, как есть, заниматься своим делом и ждать, когда вырастет Эллисон. Если же когда-нибудь она ощущала внутри какое-то смутное беспокойство, Констанс твердо говорила себе, что это не сексуальные потребности, а, возможно, легкое расстройство кишечника.
Магазин одежды «Трифти Корнер» процветал. Может быть, потому, что это был единственный магазин такого рода в Пейтон-Плейс, а может, потому, что у Констанс было чутье на моду и безупречное чувство стиля. Как бы там ни было, женщины города одевались исключительно у Констанс. Все в городе считали, что товар Конни Маккензи ничем не хуже, чем в магазинах Манчестера или в Уайт-Ривер, и вдобавок ничуть не дороже, так что уж лучше оставлять свои деньги в городе, а не где-нибудь еще.
В 6.15 вечера Констанс шла домой по Буковой улице. На ней был элегантный черный костюм, присланный из довольно дорогого бостонского магазина, и маленькая черная шляпка. Констанс смотрелась как фотомодель из журнала мод, из-за чего ее дочь всегда чувствовала себя немного неуютно, но что, как часто говорила ей Констанс, было очень полезно для бизнеса. По пути домой Констанс думала об отце Эллисон, это случалось не часто, так как мысли о нем всегда вызывали беспокойство в душе у преуспевающей владелицы магазина одежды. Констанс знала, что придет время и она будет обязана рассказать дочери правду о ее рождении. Она часто спрашивала себя почему, но никогда не могла найти разумного ответа.
«Будет гораздо лучше, если Эллисон узнает все от меня, чем от чужого человека», – думала она.
Но это был не ответ, потому что никто не знал правды, а возможность того, что кто-нибудь когда-нибудь ее узнает, была очень и очень невелика.
«И все-таки в один прекрасный день я должна буду это сделать», – думала Констанс.
Она открыла дверь в дом и прошла в гостиную, где ее ждала Эллисон.
– Привет, дорогая, – сказала Констанс.
– Привет, мама.
Эллисон сидела в кресле, перекинув ноги через подлокотник, и читала книжку.
– А что ты теперь читаешь? – спросила Констанс, стоя перед зеркалом и аккуратно снимая шляпку.
– Просто детскую сказку, – оборонительно ответила Эллисон. – Я люблю время от времени их перечитывать. Это «Спящая красавица».
– Прекрасно, дорогая, – неопределенно среагировала Констанс. Ей сложно было понять двенадцатилетнюю девочку, уткнувшую нос в книгу. Другие в ее возрасте проводили бы все свое время в магазине, проверяя коробки с новыми товарами и восхищаясь чудесными платьями и бельем, которые прибывали туда почти каждый день.
– Кажется, пора придумать что-нибудь поесть, – сказала Констанс.
– Полчаса назад я положила в духовку пару картошек, – сказала Эллисон, откладывая книгу в сторону.
Вместе они прошли на кухню и приготовили то, что Констанс называла «обедом». Как понимала Эллисон, ее мама была единственной женщиной в Пейтон-Плейс, которая называла это именно так. Вне дома Эллисон была очень осмотрительна в определении «ужина». При посторонних она всегда говорила «пойти в церковь» и никогда – «на службу», или, если речь шла о платье, – «хорошенькое» и никогда – «элегантное». Такие мелочи, как разница в терминологии, всегда стесняли Эллисон и доводили до того, что по ночам, ерзая в кровати, она сгорала от стыда и начинала ненавидеть свою мать за то, что та сама не как все и ее делает такой же.
– Мама, ну, пожалуйста, – в слезах говорила Эллисон, когда Констанс своей манерой выражаться доводила ее до точки кипения.
А Констанс, похоронившая в Нью-Йорке диалект родных мест, отвечала:
– Но, дорогая, это действительно элегантное маленькое платье!
Или:
– Но, Эллисон, главная дневная трапеза всегда называлась обедом!
В девять часов вечера Эллисон надела пижаму и положила свои книжки на камин в гостиной. Она посмотрела на фотографию отца и на минуту замерла, изучая улыбающееся ей лицо. Волосы у него надо лбом росли, что называется, мысиком, и это придавало ему несколько дьявольский вид. Глаза у Эллисона Маккензи были большие, темные и глубокие.
– Он был красив, правда? – тихо спросила Эллисон.
– Кто, дорогая? – отозвалась Констанс, оторвавшись от своей бухгалтерской книги.
– Мой папа, – сказала Эллисон.
– О, – сказала Констанс, – конечно, дорогая, конечно.
Эллисон продолжала рассматривать фото.
– Он похож на принца.
– Что ты говоришь?
– Ничего, мама. Спокойной ночи.
Лежа на широкой кровати, Эллисон смотрела в потолок, где тени и отсветы уличных огней составляли странные узоры.
Как принц, подумала она и неожиданно почувствовала, как сжалось горло.
На секунду она попыталась представить, какой бы была ее жизнь, если бы умерла мама, а папа был бы жив, но в следующее мгновение она изо всех сил сжала в зубах край подушки, чувствуя жуткий стыд за свои мысли.
– Папа, папа, – повторяла Эллисон, но звук этого странного слова ничего для нее не значил.
Она подумала о фотографии на камине внизу в гостиной.
Мой принц, сказала она себе, и тут же его образ ожил в ее воображении. Он посмотрен на нее и улыбнулся. Эллисон уснула.
ГЛАВА V
Каштановая улица шла параллельно улице Вязов; квартал, расположенный к югу от главной улицы, считался «лучшим» в Пейтон-Плейс, – здесь жила городская элита.
В самом конце Каштановой улицы стоял внушительный дом из красного кирпича, он принадлежал Лесли Харрингтону. Харрингтон был очень богатым человеком и, кроме того, являлся членом правления городского банка и председателем школьного комитета Пейтон-Плейс. Его дом, отгороженный от улицы высокими деревьями и широкими газонами, был самым большим домом в городе.
На противоположной стороне улицы стоял дом доктора Мэтью Свейна. Это был белый дом с колоннадой, и большинство горожан считало, что он выглядит как «дом южанина». Жена Свейна умерла много лет назад, и весь город недоумевал, почему Док, а именно так называли все доктора Свейна, продолжает жить в таком большом доме.
– Он слишком большой для одинокого мужчины; – говорили в Пейтон-Плейс. – Держу пари, Док болтается там как муха в консервной банке.
– Ну, дом Дока поменьше, чем у Харрингтона.
– Да, но Харрингтон – совсем другое дело. У него растет парень, и когда-нибудь он обязательно женится, поэтому-то Харрингтон и держит такую громадину после смерти жены. Это для сына.
– Да, это точно. Жаль, у Дока никогда не было детей. Тяжело, когда твоя жена умерла, остаться одному, без детей.
Ниже доктора Свейна, на той же стороне улицы, жил Чарльз Пертридж, ведущий адвокат города. Дом, где жил старый Чарли, как звали его в городе, с женой, был построен в викторианском стиле, выкрашен в темно-красный цвет и отделан белым. Детей у Пертриджей не было.
– Смешно, да? – говорили горожане, многие из которых жили в тесных квартирах со множеством детей. – Самые большие дома на Каштановой улице – самые пустые в городе.
– Ну, знаешь, как говорится – у богатых появляется больше денег, а у бедных – больше детей.
– Сто против одного – это точно.
Также на Каштановой улице проживали: Декстер Хамфри – президент городского банка; Лейтон Филбрук, владеющий лесопилкой и обширным лиственным лесом; Джаред Кларк – владелец сети продовольственных магазинов в северной части штата, являющийся также председателем городского управления; и Сет Басвелл – владелец «Пейтон-Плейс Таймс».
– Сет – единственный человек с Каштановой улицы, которому не обязательно работать в этой жизни, – говорили в городе. – Он может спокойно сидеть, выводить свои каракули и не заботиться о счетах.
И это была правда. Сет Басвелл был единственным сыном покойного Джорджа Басвелла удачливого в делах землевладельца, в один прекрасный день ставшего губернатором штата. После смерти Джордж Басвелл обеспечил своему сыну безбедное будущее.
– Джордж Басвелл был крепким, как гвоздь, – говорили горожане, знавшие его при жизни.
– Да, крепким, как гвоздь, и изогнутым, как штопор.
Обитатели Каштановой улицы величали себя не иначе как «спинной хребет Пейтон-Плейс» Это были старые фамилии, люди, чьи предки помнили времена, когда территория города была просто дикой местностью и на мили вокруг не было ни одного дома, кроме замка Сэмюэля Пейтона. Люди с Каштановой улицы обеспечивали город работой. Их заботили его боли и тревоги, они улаживали его дела с законом, формировали мышление и тратили его деньги. Эти люди знали о городе и его жителях больше, чем кто-либо другой.
– В Каштановой улице больше силы, чем в большой реке Коннектикут, – говорил Питер Дрейк, юрист, практикующий на невыгодных условиях, – он был молод и родился не в Пейтон-Плейс.
ГЛАВА VI
Вечерами по пятницам мужчины Каштановой улицы собирались в доме Сета Басвелла и играли в покер. Обычно приходили все мужчины, но конкретно в эту пятницу за столом на кухне Сета сидели только четверо из них: Чарльз Пертридж, Мэтью Свейн, Лесли Харрингтон и хозяин дома.
– Не большая компания сегодня, – сказал Харрингтон, думая о том, что это препятствует большим ставкам.
– Да, – сказал Сет. – У Декстера сегодня родственники, Джареду понадобилось поехать в Уайт-Ривер, а Лейтон позвонил и сказал, что у него дела в Манчестере.
– Бьюсь об заклад – дела по кошачьим связям, – сказал д-р Свейн. – И как только старина Филбрук столько лет умудряется не подхватить триппер! Честное слово, я не представляю, как ему это удается.
Пертридж расхохотался:
– Наверное, следует твоим указаниям, Док.
– Ну, начнем игру, – нетерпеливо сказал Лесли, открывая белыми руками новую колоду карт.
– Не терпится прибрать к рукам наши деньги, а, Лесли? – спросил Сет, который с трудом выносил Харрингтона.
– Точно, – согласился Лесли, прекрасно знающий о чувствах Сета, и улыбнулся в лицо своему врагу.
Харрингтона всегда возбуждало то, что люди, которые его ненавидят, вынуждены мириться с ним. Он считал это доказательством своего успеха, и каждый раз при подобных обстоятельствах как бы заново ощущал ту силу, которая была сосредоточена у него в руках. В Пейтон-Плейс не было секретом, что ни одно начинание или проект не пройдет в городском управлении, пока Харрингтон не отдаст за него свой голос. Лесли всегда мог собрать своих фабричных работяг и, ничуть не стыдясь, заявить:
– Парни, я был бы чертовски доволен, если бы мы не проголосовали за строительство новой начальной школы в этом году. Я был бы так доволен, что захотел бы дать пятипроцентную премию каждому парню из этого цеха.
Сет Басвелл, в чьих жилах текла кровь крестоносца, был так же бессилен перед Харрингтоном, как фермер, не выплативший по закладной.
– Займемся делом, – сказал Пертридж, и игра началась.
Около часа игра протекала спокойно, лишь изредка Сет вставал из-за стола, чтобы заново наполнить бокалы. Редактор газеты играл из рук вон плохо; вместо того чтобы сосредоточиться на картах, он думал о том, как бы перевести разговор на волнующую его тему. Наконец он решил, что дипломатическая тактика в этом случае бессмысленна, и, когда очередной игрок придвинул к себе выигрыш, сказал:
– Я тут думал об этих бумажных хижинах, залитых гудроном. Они растут как грибы. Мне кажется, нам пора подумать о том, чтобы ввести в действие закон о зонах.
Несколько секунд все молчали, потом Пертридж, для которого эта тема была не нова, пригубил бокал и громко вздохнул.
– Опять, Сет? – спросил адвокат.
– Да, опять, – сказал Сет. – Уже несколько лет я пытаюсь заставить вас всерьез задуматься над этим, и теперь я снова говорю, что пора что-то предпринять. На следующей неделе я собираюсь начать серию статей с фотографиями…
– Ну, ну, Сет, – успокаивающе сказал Харрингтон. – Я бы не стал с этим спешить. В конце концов владельцы хижин, о которых ты говоришь, платят налоги, как и все остальные. Этот город не может позволить себе терять налогоплательщиков.
– Ради Христа, Лесли, – сказал д-р Свейн. – У тебя, наверное, под старость размягчились мозги. Естественно, обитатели хижин платят налоги, но их собственность оценивается так низко, что город от них получает жалкие гроши. Они же продолжают жить в своих хижинах и дюжинами рожают детей. Именно мы платим за их образование, за то, чтобы наши дороги были в порядке и чтобы время от времени обновлялось снаряжение пожарников. Всех налогов, выплаченных владельцем хижины за десять лет, недостаточно, чтобы оплатить обучение его детей в школе за один год.
– И ты отлично знаешь, что Док прав, Лесли, – сказал Сет.
– Без хижин, – сказал Харрингтон, – земля, на которой они стоят, опустеет; сколько долларов вы соберете в этом случае? И дело не только в этом, вы не можете поднять налоги для них, не подняв налоги для остальных. Разделение на зоны территории хижин повлечет за собой деление на зоны всего города, а тут уж все начнут сходить с ума. Да, ребята, мне не больше, чем вам, нравится платить за образование детей этих дятлов, но я еще раз повторю – оставьте хижины в покое.
– Ради Бога! – воскликнул д-р Свейн, теряя терпение и забыв о предварительной договоренности с Сетом не делать этого сегодня вечером. – Дело не только в налогах и в том, что эти хижины мозолят всем глаза. Это же выгребная яма, вонючая, как канализация, и полезная для здоровья, как африканское болото. Не далее как на прошлой неделе я был в одной из хижин. Ни туалета, ни чистых баков для воды, ни самой воды, восемь человек в одной комнате без холодильника. Это просто чудо, что их дети доживают до школьного возраста.
– Так именно это свербит у тебя в заднице, я правильно понял? – рассмеялся Харрингтон. – Тебя и Сета волнуют совсем не налоги, а то, что какой-нибудь чумазый пострел, бегая босиком на улицу по нужде, подхватит простуду.
– Ты дурак, Лесли, – сказал д-р Свейн – Я и не думал о простуде. Я думаю о брюшном тифе и полиомиелите. Если хотя бы намек на эти болезни появится в хижинах, очень скоро весь город будет в опасности.
– О чем ты говоришь? – спросил Харрингтон. – В наших местах никогда не было ничего подобного. Ты как старуха, Док, и Сет тоже.
Сет покраснел от злости, но не успел он сказать и слова, как вмешался Пертридж.
– Каким, черт возьми, способом ты собираешься выставить их из хижин, если они откажутся подчиниться твоему закону о зонах? – спросил адвокат.
– Не думаю, что многим придется уехать, – сказал Сет. – Большинство из них может позволить себе улучшить свою жизнь. Они могут потратить часть денег, которые пропивают, на постройку туалетов и установку баков для воды.
– На чем ты настаиваешь, Сет? – смеясь, спросил Лесли. – Хочешь превратить Пейтон-Плейс в полицейский штат?
– Я согласен с Доком, – сказал Сет. – Ты дурак, Лесли.
Харрингтон потемнел лицом.
– Может, и так, – сказал он. – Но я знаю: когда начинаешь говорить человеку, что он должен сделать то, другое или третье, ты дьявольски рискуешь, потому что это уже пахнет нарушением гражданских прав.
– О, Боже, – простонал Сет.
– Вперед, можешь еще раз назвать меня дураком, – сказал Харрингтон. – Но ты никогда не заставишь меня проголосовать за закон, указывающий человеку, в каком доме он должен жить.
Сет и Свейн с нескрываемым недоверием выслушали ханжеское заявление Харрингтона, Пертридж же, как прирожденный пацифист, не дал им среагировать на услышанное: он взял карты и начал их перетасовывать.
– Мы собрались, чтобы сыграть в покер, – сказал он. – Ну, так давайте играть.
Больше проблемы хижин в этот вечер не обсуждались. В полвосьмого д-р Свейн взял колоду, чтобы последний раз сдать карты.
– Открываюсь, – сказал Харрингтон, держа карты у самой груди и хмуро их разглядывая.
– Поднимаю, – сказал Сет.
Пертридж и Свейн спасовали, Харрингтон продолжал игру.
– Еще раз, – сказал редактор и придвинул к центру стола деньги.
– Хорошо, – нерешительно сказал Лесли. – Поднимаю дальше.
Д-р Свейн с отвращением заметил, что Харрингтон начал потеть.
«До чего жадный негодяй, – подумал доктор, – с его-то деньгами волнуется из-за ставки в пять-десять долларов».
– Еще раз, – холодно сказал Сет.
– Черт с тобой, – сказал Харрингтон. – Хорошо. Итак, называй.
– Все красные, – мягко сказал Сет, раскладывая карты веером.
Харрингтон, у которого самой старшей картой был король, побагровел.
– Проклятье, – сказал он. – Один раз за вечер пришла приличная карта, и все равно мало. Ты выиграл, Басвелл.
– Да, – сказал Сет, глядя в глаза хозяину фабрики. – Я всегда выигрываю… в конце.
– Если я что-то не люблю больше, чем жалкого неудачника, – ответил Харрингтон, не отводя глаз, так это жалкого победителя.
– Взяв зеркало, вынужден смотреть на собственное отражение, – сказал Сет, улыбнувшись Харрингтону. – Это мое любимое выражение. А ты что всегда говоришь, Лесли?
Пертридж встал из-за стола и потянулся.
– Ну, ребята, утро приходит рано. Думаю, мне пора домой.
Харрингтон проигнорировал адвоката.
– Выигрывает тот, у кого лучшие карты, Сет. Вот, что я всегда говорю. Подожди, Чарли, я пойду с тобой.
Когда Харрингтон и Пертридж ушли, д-р Свейн дружески положил руку на плечо Сету.
– Плохо, парень, – сказал он. – Я думаю, тебе лучше подождать и, прежде чем начинать писать статьи об этих хижинах, переговорить с Джаредом и Лейтоном.
– Чего ждать? – раздраженно спросил Сет. – Я жду не первый год. Чего мы должны ждать на этот раз, Док? Тифа? Полиомиелита? Плати деньги и выбирай.
– Я знаю, знаю, – сказал д-р Свейн. – И все-таки лучше подождать. Ты должен научить людей думать по-новому, иногда это очень долгий процесс. Если ты выстрелишь без подготовки, они поведут себя так же, как Лесли сегодня. Они скажут что хижины всегда были в Пейтон-Плейс и никогда не было никаких эпидемий или чего-нибудь подобного.
– Черт, Док, я не понимаю. Может, одна хорошая эпидемия решит эту проблему Может, для города было бы лучше, если бы жители вообще исчезли.
– Нет ничего дороже жизни, Сет, – грубо сказал Свейн. – Даже жизнь обитателей этих трущоб.
– Пожалуйста, – сказал Сет, к которому постепенно начало возвращаться чувство юмора. – Ты мог бы сказать, «лагерь» или «летние домики»
– Пригород! – поддержал д-р Свейн. – Видит Бог – именно так! Вопрос: «Где вы живете, мистер Владелец Хижины?» Ответ: «Я живу в пригороде и совершаю ежедневные поездки в Пейтон-Плейс».
Они расхохотались.
– Выпьешь еще перед уходом? – спросил Сет.
– Да, сэр Пригород, – сказал д-р Свейн. – Мы можем даже дать имена этим поместьям. Например, Сосковый Гребень или Солнечный Холм.
Все это совсем не смешно, рассуждал д-р Свейн, выйдя из дома Сета и совершая свою обычную вечернюю прогулку перед возвращением домой.
Пройдя по Каштановой улице, он двинулся дальше на юг и уже через полчаса миновал первую хижину. За единственным маленьким окном едва теплился свет, из оловянной трубы поднимались тонкие завитки дыма. Д-р Свейн остановился посреди грязной дороги и посмотрел на крохотный черный дом, где ютились Лукас Кросс, его жена Нелли и трое их детей. Доктор уже как-то бывал внутри этого дома и знал, что он представляет собой одну комнату, где семья ест, спит и живет.
Должно быть, зимой там чертовски холодно, подумал доктор и понял, что это единственно добрая мысль о доме семьи Кросс.
Он уже повернулся и собрался идти обратно в город, как вдруг тишину ночи разорвал пронзительный крик.
– Боже мой! – вслух сказал Свейн и побежал к хижине; на бегу он представлял все возможные варианты несчастного случая и корил себя за то, что не носит с собой постоянно медицинский саквояж. Подбежав к двери, он услышал голос Лукаса Кросса.
– Ах ты, сука, – орал пьяный Лукас, – Говори, куда спрятала!
Послышался грохот, будто кто-то упал, повалив при этом стул.
– Я же говорила тебе, говорила, – скулила Нелли. – Больше ничего нет. Ты все выпил.
– Ты еще врешь, чертова сука, – не унимался Лукас. – Я знаю, ты спрятала. Или ты скажешь где, или я сдеру с тебя твою вшивую шкуру.
Нелли снова закричала резко и громко. Почувствовав легкий приступ тошноты, доктор отвернулся от двери.
«Я могу предположить, – подумал д-р Свейн, – что неписаный закон не лезть не в свое дело – хороший закон. Но иногда я просто не могу в это поверить».
Он быстро пошел в сторону дороги, но не успел сделать и нескольких шагов, как наткнулся и чуть не перелетел через маленькую фигурку, на корточках сидящую на земле.
– Боже мой, – мягко сказал доктор, наклонился и взял девочку за руки. – Что ты делаешь на улице так поздно?
Девочка резко вырвала руки.
– А вы сами что здесь делаете, Док? – сердито спросила она. – За вами никто не посылал.
При скудном свете из окна хижины доктор с трудом различил черты ее лица.
– О, это Селена, – сказал Свейн. – Я видел тебя в городе с маленькой Маккензи, я прав?
– Да, – сказала Селена. – Эллисон моя лучшая подруга. Послушайте, Док, никогда не говорите Эллисон о сегодняшней ругани, ладно? Она не поймет.
– Хорошо, – сказал Свейн. – Никому не скажу ни слова. Ты самая старшая из детей, да?
– Нет. Мой брат Пол старше меня. Он самый старший.
– А где сейчас Пол? – спросил доктор. – Почему он не прекратит этот скандал?
– Он поехал в город к своей девчонке, – сказала Селена. – Да я и не понимаю, о чем вы говорите. Если Па напился и начал буянить, его никто не сможет остановить.
Она замолчала, тихонько свистнула, и из-за дерева выбежал маленький мальчишка.
– Когда Па начинает, я всегда ухожу на улицу, – сказала Селена. – И Джо тоже беру с собой, чтобы ему не влетело от Па.
Маленькому, худому Джо было не больше семи лет. Он спрятался за сестрой и робко поглядывал на доктора из своего убежища. Свейн страшно разозлился.
– Я остановлю его, – сказал он и снова пошел к хижине.
Селена тут же забежала вперед и уперлась руками ему в грудь.
– Вы хотите, чтобы вас убили? – зло спросила она. – За вами никто не посылал, Док. Лучше возвращайтесь на Каштановую улицу.
Из хижины все еще доносились завывания, но крики прекратились – Лукас утихомирился.
– Все уже кончилось, – сказала Селена. – Если вы сейчас туда войдете, Па начнет все сначала, так что лучше идите, Док.
Какое-то мгновение доктор колебался, потом дотронулся кончиками пальцев до края шляпы и сказал:
– Хорошо, Селена. Я пойду. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Док.
Свейн уже дошел до дороги, когда Селена догнала его и взяла за рукав.
– Док, – сказала она. – Мы с Джо все равно хотим сказать вам спасибо. Очень любезно с вашей стороны, что вы остановились.
Леди прощается с гостями после званого ужина, подумал доктор. Очень любезно с вашей стороны, что заглянули к нам.
– Все хорошо, Селена, – сказал он. – В любое время, когда захочешь, чтобы я пришел, только дай знать.
Доктор Свейн заметил, что, хотя Джо всегда был за спиной Селены, он так и не проронил ни слова.








