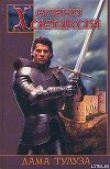Текст книги "Песнь о крестовом походе против альбигойцев"
Автор книги: Гийом Тудельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
Из коих каждый столько сил работе отдавал. <...>
А ночью жители несли дозор и караул,
Повсюду факелы зажглись, был слышен шум и гул,
Трезвон и барабанный бой. В ту ночь никто не спал,
Плясали девушки вокруг, на лютне паж играл,
И был сей праздник для души похож на карнавал.
И граф Тулузский в эту ночь глаз так и не сомкнул...
(Лесса 183, ст. 69 и сл.)
В суровых описаниях сражений Аноним отчасти следует за трубадуром Бертраном де Борном, мастером прославляющих войну сирвент[839]. В полемическом задоре поэт называет епископа Тулузы «мерзким лжецом» (лесса 145, ст. 71), а крестоносцев-французов «лжецами, извергами и бандитами» (лесса 145, ст. 53) и «разбойниками» (лесса 211, ст. 11). Эпический размах приобретают картины битв, рисуя которые автор щедро пользуется традиционными формулами и клише средневековой поэзии:
Кремни и камни с низких крыш свергались на врагов,
Круша и шлемы, и щиты, сминая сталь щитков,
Ломая кости рук, и ног, и плеч, и кулаков.
Клянусь, всеобщий стон и вопль достал до облаков,
И столько сыпалось вокруг ударов, тумаков,
Что страх французов охватил...
(Лесса 184, ст. 42—47)
7.«Час грянул! Иль удар врага, как чашу, разобьет Тулузу, иль в ее стенах мы обретем оплот...»
Повествование безымянного поэта оканчивается на оптимистической ноте, автор уверен в торжестве правого дела тулузцев. Но время побед Раймонденов длилось недолго. После гибели Монфора его сын Амори оказался неспособен удержать завоеванные отцом земли и обратился за помощью к королю Франции. В 1219 году принц Людовик снова выступил в поход и, двигаясь к Тулузе, учинил резню в Марманде, столь же страшную, сколь резня, устроенная Монфором десятью годами ранее в Безье. Затем армия Людовика осадила Тулузу, но город устоял, и в августе принц вынужден был вернуться во Францию, бросив под стенами города осадные машины. Некоторое время окситанцам сопутствовал успех: города, захваченные Монфором и вынужденные присягнуть ему, один за другим стали переходить на сторону графов Тулузских.
В 1223 году умер Филипп Август, и перед принцем Людовиком, ставшим королем, встал вопрос о южных землях. Для его решения он прибег к помощи Церкви. В 1225 году Собор в Бурже отлучил Раймона VII от Церкви, а наследник Симона, Амори де Монфор, уступил свои права на завоеванные отцом земли королевскому дому. В 1226 году Людовик VIII начал новый крестовый поход на земли Окситании, главной целью которого был захват богатых провинций на Средиземноморском побережье. Не имея поддержки извне, граф Тулузский Раймон VII, чтобы не допустить окончательного разорения измученного длительной войной края, принял решение покориться. Кабальное соглашение, подписанное 12 апреля 1229 года в Mo, положило конец альбигойским войнам, а с ними и независимости Окситании. Как взволнованно писал историк-романтик Н. Пейра, за двадцать лет войны французских Севера и Юга погибло «2 миллиона человек, один король, много князей, народ, цивилизация, язык, гений» (Peyrat 1870: 27)[840]. Раймон VII умер в 1249 году, не оставив потомства мужского пола, и все его владения перешли к дочери Жанне, ставшей, как было оговорено в Mo, женой Альфонса де Пуатье, брата Людовика IX. Брак этот оказался бездетным, и, когда в 1271 году Альфонс де Пуатье, а следом за ним и его супруга скончались, графство Тулузское было присоединено к короне Франции. Слухи о том, что Жанну отравили, скорее всего, относятся к области легенд.
Окситания вошла в состав Франции, но история истребления альбигойских еретиков на этом не закончилась. Преследования катаров приняли поистине беспрецедентный размах. 20 апреля 1233 года циркуляром Папы Григория IX[841] была учреждена инквизиция, которой предстояло стать инструментом террора в руках пап. Новый институт, доверенный недавно созданному ордену доминиканцев, обрушил свой гнев не только на живых, но даже на мертвых катаров: их останки выкапывали из могил и публично сжигали на костре. Население как могло оборонялось от инквизиторов[842]. Главным убежищем катаров стал неприступный замок Монсегюр, высившийся на скале во владениях графов де Фуа. В эту крепость, обороняемую наемными отрядами рыцарей, бежали от преследований инквизиторов «совершенные» и простые сторонники альбигойской веры. Летом 1240 года юному виконту Раймону Тренкавелю удалось собрать войско, состоявшее в основном из файдитов, и с его помощью он – безуспешно – попытался захватить Каркассонн. В мае 1242 года вооруженный отряд из гарнизона Монсегюра во время вылазки уничтожил одиннадцать инквизиторов, остановившихся на ночлег в небольшом городке Авиньонет. Восстание Тренкавеля и убийство инквизиторов настолько разгневали власти, что они решили покончить с последним пристанищем катаров. Французы осадили Монсегюр, и после почти полуторагодовой осады обитатели крепости вынуждены были сдаться на милость победителя. Стойкость защитников Монсегюра настолько поразила врагов, что они обещали прощение не только рыцарям, оборонявшим замок, но и всем, кто был готов отречься от «ложной веры». Таковых не нашлось, и 16 марта 1244 года более двухсот катаров, как «совершенных», так и простых верующих, как мужчин, так и женщин, во главе с катарским епископом Бертраном Марти взошли на костер. Предание гласит, что в то время как у подножия Монсегюра полыхало пламя, четверо облеченных доверием «добрых людей» уносили из цитадели таинственное «сокровище катаров», о природе которого продолжают спорить и поныне. Историки полагают, что это, скорее всего, были деньги, накопленные катарами в Монсегюре для текущих нужд, и, возможно, рукописи, где был изложен символ веры катаров.
С падением Монсегюра катаризм в Окситании фактически умер. Отдельные крепости, построенные на труднодоступных вершинах, еще около двух десятков лет предоставляли убежище катарским пастырям, но вскоре и они перешли в руки французов. В 1258 году, когда в результате военных операций установилась граница между Францией и Арагоном, французы получили в свои руки последние цитадели окситанских сеньоров, расположенные в гористых районах края Фенуйед. В начале XIV века, когда «Юг Франции допел свои последние песни» (Шишмарев 1972: 267), догорели и последние костры, в пламени которых покинули этот несовершенный мир последние альбигойцы. Катаризм, еще сто лет назад угрожавший вытеснить Католическую Церковь из Окситании, усилиями инквизиции перешел в разряд истории идей: людей, исповедовавших его, в альбигойских краях более не осталось. Современные попытки возрождения катаризма в Окситании относятся преимущественно к идеологическим спекуляциям. В 1970-е годы, в контексте движения за национальную автономию, альбигойские войны даже приравняли к национально-освободительной борьбе с захватчиками-колонизаторами[843], подтверждая тем самым, что незримая граница, проведенная между севером и югом Франции, не исчезла до сих пор. Не угасает интерес к эзотерической стороне учения «добрых людей» и оставленному ими в наследство потомкам загадочному «сокровищу», которым многие считают Святой Грааль[844].
* * *
«Песнь о крестовом походе против альбигойцев» – единственный памятник окситанской литературы, объединивший в себе два жанра: исторического повествования и эпоса. Первый автор, Гильем из Туделы, вдохновленный описаниями заморских крестовых походов, создал поэтическую хронику альбигойской войны, воспев графа де Монфора и его воинство, отважно разящее еретиков. Продолживший сочинение Аноним перевел конфликт в сферу трагического столкновения идеалов, выработанных окситанским обществом, с насилием и вероломством, насаждаемыми Монфором и его баронами. Религиозная распря отступила на второй план, на первый вышла идея национального единства Окситании, борьба за независимость южнофранцузской нации и посрамление ее врагов. Эпический размах, присущий отдельным пассажам поэмы Гильема, в поэме Анонима достиг своей кульминации. Оба автора создали произведение, обогатившее не только окситанскую, но и мировую литературу Средневековья, и оно по праву заняло достойное место среди литературных памятников прошлого.
И.О. Белавин
О концепции литературного перевода «Песни о крестовом походе против альбигойцев»
Давно подмечено, что переводы сродни женщинам: «Если верны, то некрасивы, а если красивы, то неверны». Этот афоризм Сафира Мориц-Готлиба[845] актуален и по сей день. Поэтому литературный перевод должен органически сочетать в себе взаимоисключающие вещи, традиционно определяемые как «дух и буква перевода». Существует мнение, что поэзия в принципе непереводима, поскольку связана не столько со смыслом сказанного, сколько со структурой лингвистического сообщения. И переводчику приходится «переводить непереводимое» (Влахов, Флорин 1986: 10), защищая при этом как эстетические позиции, так и содержательность, заданную изначальным текстом. Однако вряд ли следует ориентироваться на некую условную «золотую середину», балансируя между буквалистским подходом («переводом для литературных производителей», по выражению М.Л. Гаспарова (Поэтика перевода 1988: 48)) и вольным пересказом оригинала. Переводчик иноязычной поэзии пытается сохранить информационную насыщенность и основополагающие свойства оригинального произведения, перенося его как единое целое в иную систему координат, каковой является язык-приемник. Когда же помимо чужого языка переводчик имеет дело еще и с исчезнувшей реальностью, каковой в нашем случае является Средневековье, его задача усложняется вдвойне, ибо воспроизводить черты этой реальности следует бережно и подробно. В этом случае переводческий труд приближается к труду реставратора старинных книг и храмовых фресок.
Люди, жившие в эпоху Средневековья, их культура и мировоззрение, при всех существенных отличиях, могут быть нам понятны, а потому вызывают у нас не только умозрительный, но и вполне человеческий интерес. Неизвестность, открывающая нам свое лицо, особенно привлекательна, поскольку при этом возникает эффект дополнительного количества информации, пополняющей наш собственный культурный лексикон. Сложность перевода отдаленных по времени возникновения текстов состоит в том, что всегда существует опасность ложного понимания, приписывания чужой эпохе тех черт, которые близки нам самим. «Оживляя» произведение, делая его понятным современному читателю, переводчик не должен выходить за рамки избранной им эпохи, за пределы чуждых современности понятий и реалий. Стремление передать одновременно и дух, и букву Средневековья, равно как и желание не погрешить против поэтичности русского языка и определили в целом переводческий метод, последовательно использовавшийся при переводе староокситанского эпоса «Песнь о крестовом походе против альбигойцев». Но прежде чем говорить о проблемах переводах «Песни», посмотрим на этот литературный памятник глазами переводчика, иначе говоря, неравнодушного читателя, для которого эмоциональный заряд текста важен не менее, чем логика фактов и скрупулезность исторического исследования.
«Песнь о крестовом походе против альбигойцев», восходящая к началу XIII века, описывает события крестового похода французских рыцарей под предводительством графа Симона де Монфора на земли Окситании для истребления ереси катаров, получившей активное распространение на юге Франции. Однако довольно быстро война за чистоту веры переросла в войну грабительскую и завоевательную и после долгих лет сражений завершилась присоединением окситанских земель к французской короне. Привольно жившее население Лангедока, равно как и других феодальных образований Окситании, изначально тяготело к испанскому ареалу влияния, в те времена более просвещенному и передовому, нежели мрачно-мощный и воинственный Иль-де-Франс, медленно вбиравший в свою орбиту будущие земли Великой Франции. Окситанский язык, или язык ок, распространенный к югу от Луары, стал языком великой поэзии трубадуров, языком Достоинства, Рыцарской Доблести и Куртуазной Любви. Именно там, в окситанском ареале, возник культ Прекрасной Дамы, оказавший сильнейшее влияние на мировую культуру. Одновременно этот язык стал языком ереси катаров и вальденсов, увидевших в католицизме излишне «роскошную» религию, предавшую заветы Евангелия.
Катары и вальденсы стремились к духовному совершенству. Они хотели разговаривать с Богом напрямую, без лукавого посредничества богатых епископов. Знать и народ Окситании, в большинстве своем не будучи сторонниками еретических учений, тем не менее были недовольны всевозможными поборами и стремлением церковников к роскоши, а также их отнюдь не добронравным поведением. В результате конфликт, начавшийся как религиозный, а завершившийся как политический, вылился в такую опустошительную мясорубку, с какой сравнимы разве что древнеримские карательные походы и мировые войны новейшего времени. О масштабе событий говорит хотя бы то, что, по эмоциональным оценкам, за годы этой колониальной (если использовать современную терминологию) войны погибло около двух миллионов человек, населявших этот благодатный край. Во всяком случае, потери в этой бойне, длившейся почти двадцать лет, сравнимы с жертвами Черной смерти (эпидемии чумы), истреблявшей жителей средневековой Европы.
Разоренная и покоренная французским воинством Окситания впоследствии стала предоставлять убежище протестантам-гугенотам (вспомним позднейшие исторически значимые события во Франции, в частности, Варфоломеевскую ночь), которые, споря с мощью официальной Католической Церкви, выстраивали свое христианство, подвергавшее пересмотру католическое учение и исподволь подтачивавшее всеохватную власть Католической Церкви. Зародившийся спустя несколько веков после описываемых в «Песни» событий протестантизм, со временем распространившийся на добрую треть мира, свидетельствовал, что еретические движения Средневековья не прошли бесследно. Разумеется, позднейших протестантов нельзя назвать непосредственными преемниками катаров, «еретиков из Альби», однако они похожи на них своей честностью, свободолюбием и упорством в достижении целей.
Напомним еще об одном важном положении учения катаров. Краеугольным камнем религиозно-философской доктрины альбигойцев являлось представление о равновеличии Добра и Зла. Демократическое и тираноборческое по своей сути, это учение противоречило иерархичности католической религии и служило постоянным поводом для гонений на его последователей. Нам кажется, что для осознания сущности катарской ереси искать глубинный ее источник не столь важно. Известно, что в ней прослеживается влияние религии восточных мудрецов—манихеев и раннего евангельского христианства. Тем не менее мы вправе предположить, что катары сами пришли к мысли о двуначалии мира и сделали это, читая Евангелие и обдумывая собственный житейский опыт. По нашему мнению, в дуализме катаров отражен вечный конфликт между цивилизацией и культурой, между обновляющейся жизнью, постоянно припадающей в поисках обновления к истокам, и дряхлеющей догмой, пытающейся сковать жизнь и помешать ее обновлению.
Непосредственным поводом для кровопролитного крестового похода на Лангедок явилось разбойничье по сути нападение на представителя папской власти, ставшее возможным при попустительстве тулузского властелина, графа Раймона VI, который и сам не раз совершал набеги на церкви и монастыри, а потом каялся и делал богатые подарки. В конце концов графа отлучили от Церкви; отлучение было расценено крестоносцами как своего рода индульгенция на захват процветающего графства Тулузского. «Песнь о крестовом походе против альбигойцев» представляет собой поэтизированную летопись военно-политических действий и принадлежит двум авторам, о которых, как и о многих других средневековых писателях, мы почти ничего не знаем. Известно только, что создателем первой части поэмы был монах Гильем. Принадлежа к разным политическим лагерям, авторы излагают происходящее с разным эмоциональным подтекстом, но события фиксируют довольно точно. Оба подробно описывают военные действия и сопутствующие им события, придавая своему рассказу стихотворную форму. Такая форма не только облегчала запоминание и последующее – характерное для Средневековья – устное воспроизведение текста, но и опиралась на соответствующие литературные образцы, подтвержденные временем и привычные тогдашнему «читательскому уху».
Вот как описывает методику создания своего произведения монах Гильем, автор первой части эпоса-летописи:
Мои сеньоры! Эта песнь писалась для людей...
Живой александрийский стих был образцом для ней,
Чтоб мог ее пересказать сказитель-грамотей.
Не стоит забывать, что «Песнь» была сложена в эпоху расцвета поэзии трубадуров, а ряд участников «трубадурского цеха», например Фолькет Марсельский, принимали живейшее участие в описываемых событиях и фигурируют в «Песни» в качестве литературных персонажей. Есть основания полагать, что авторы окситанского эпоса были прекрасно осведомлены о поэтическом искусстве трубадуров, впитали их культуру, понятия, образную систему. Несмотря на то, что и структура, и поэтическое содержание эпоса существенно отличаются от кансон, тенсон и даже сирвент, поэзия трубадуров составляет латентный фон оригинала.
Итак, если понятийный и исторический аспекты «Песни о крестовом походе против альбигойцев» очевидны, то как оживить современными поэтическими средствами средневековый стих, имеющий в рассматриваемом произведении свои реалии, особенности и отличия? Какие составляющие текста являются базисом, а какие – надстройкой? Прежде всего, специфична ритмическая структура эпоса. Уточним, что произведение состоит из 214 лесс, а именно равносложных ритмических конструкций-строф, каждая из которых имеет постоянную рифму и произвольное количество строк. Помимо этих ограничений между концом каждой лессы и началом следующей существует связь, диктуемая установленными для этого правилами. Такая поэтическая конструкция-строфа называется моноримом. Кстати, длина большинства моноримов весьма значительна; во второй части «Песни» многие строфы состоят из более чем 100 строк!
Свойства русского поэтического языка и его традиции таковы, что воспроизведение монорима, например, с помощью глагольных рифм или отглагольных форм, имеющих одинаковые окончания, вызывает естественное отторжение. Примеры использования хотя бы относительно длинных правильных однорифменных конструкций в русской поэзии отсутствуют. При всем этом соблюдение формы средневековой лессы с историко-литературной и эстетической точки зрения весьма продуктивно. Наличие единой огласовки на протяжении целой лессы обуславливает формальную оригинальность произведения, подчеркивает его поэтические достоинства. Поэтому при пересоздании ритмической структуры средневекового монорима было решено применить новаторский прием: аллитерационный способ построения единой рифмы (точнее – рифмоида). Хотя рифма в строфе, строго говоря, меняется, обеспечивая естественность звучания для всей лессы, ее смена внутри лессы происходит по иным правилам, чем в традиционной для России поэтике. Таким образом, вместо единой рифмы используется единый рифмоид, основанный на изменении предваряющей гласной в последнем слове строки при постоянном концевом звуке.
Новизна вышеупомянутого приема заключается в том, что впервые аллитерационный рифмоид был применен в не ограниченной по объему строфе. Следует отметить, что на небольшом поэтическом пространстве такой способ рифмообразования в русском стихосложении уже использовался (И. Бродский, «Одной поэтессе», 1965). Широко применял аллитерационные рифмоиды и Е. Евтушенко, хотя в его оригинальной поэзии они имели несколько иной характер и иное звучание. Кстати сказать, рифмоиды давно известны и широко распространены. Так, в переводах испаноязычной поэзии часто используется ассонансный принцип рифмовки, ориентированный на совпадение гласных, что для испанского языка весьма продуктивно. Однако ассонансная рифма нетрадиционна для современного русского стихосложения и плохо воспринимается на слух. Напротив, формирование рифмоида на принципе аллитерации, при всей парадоксальности, более удачно передает единую концепцию средневековой монорифмической строфы-лессы.
Следующая важнейшая задача при переводе средневекового текста – обеспечение естественности, поэтичности языка перевода, легкости его восприятия на слух, без чего средневековый подлинник просто не мог бы существовать изустно и, скорее всего, не дошел бы до современного читателя. Именно потому, что это системообразующее свойство устной поэзии, использовать лексическую яркость и разнообразие, соблюдать качество поэтического текста в переводе средневековых поэтических форм необходимо в первую очередь. Напротив, часто бывает так, что стремление к условной «лексической точности», упрощенное понимание переводческих задач приводит к созданию некоего переводческого эсперанто, выдуманного языка, восприятие которого русским читателем сопряжено с большими и ненужными проблемами. В чем тут дело? Сразу оговоримся, что существуют различные переводческие «школы» и различные способы оценки качества поэзии как таковой. В ряде случаев переводчик сознательно жертвует просодией, метафорикой, синонимическим разнообразием и другими возможностями великого русского языка, обедняя его ради частных решений. Иногда кажется, что перевод «слово в слово» ближе к оригиналу. Однако не стоит забывать о превалировании в поэзии эстетической функции над сугубо коммуникативными задачами. Специфической целью любого поэтического текста, как известно, является порождение этоса, «аффективного состояния получателя, которое возникает в результате воздействия на него какого-либо сообщения» (Дюбуа 1986: 264). Вне этого особого эмоционального состояния, порождаемого самой структурой поэтического текста, особой словесной тканью поэтического произведения, не существует ничего, что могло бы обеспечить канал связи между текстом стихотворения и теми, кто его воспринимает. Если законы этоса не соблюдаются, у читателя остается лишь впечатление неестественности поэтического высказывания, связанное с обычным для поэзии, как литературного жанра, однако ничем не подкрепленным нарушением языковых норм. Но как при этом сохранить «букву» оригинала?
Думается, что вопрос о степени соответствия поэтических систем оригинала и перевода гораздо шире и значимей, чем лексические рамки, которые слишком часто ограничивают разумную «вольность» поэтического перевода. При переводе поэзии прямое соответствие, с короткой «длиной контекста», опирающееся на номинативную, назывную функцию слова, вряд ли продуктивно. Разве что речь идет о включенных в состав стихотворения научных терминах, именах собственных, «кальках» или тому подобном. Конечно, общее требование лексического соответствия ценно и вполне применимо к произведению в целом или к его крупной, структурно законченной части, например, строфе, но никак не к переводу конкретной фразы оригинала. Перемещение или даже замена слова, фразеологического оборота или стилистической формулы внутри структурной единицы текста (в нашем случае, лессы), если при этом не возникают побочные эффекты, не меняет ни содержание, ни целостную поэтическую ткань оригинального произведения и, следовательно, вполне возможно. Думается, что при переводе поэзии следует обратить особое внимание на тот факт, что любое поэтическое высказывание имеет в виду развертывание минимизированной словесной структуры, так называемой «нулевой ступени», с помощью какой-либо стилистической фигуры и с целью завоевать внимание читателя и создать нужный этос. Более того, анализ переводимого текста показывает, что одна и та же «нулевая ступень», передающая содержание высказывания наиболее простыми языковыми средствами, часто корректируется средневековым автором в сторону разнообразия, множественности вариантов, а зачастую прослеживается и авторское стремление к усложнению используемых стилистических формул. На этом основании и переводчик имеет определенную степень свободы в обращении с иноязыковой «нулевой ступенью» и право на множественность применяемых стилистических формул.
Приведем пример. При описании боевых действий средневековый автор, как правило, нагромождает имена участников сражения, перечисляет разнообразные элементы ратного снаряжения, характеризует благородных рыцарей соответствующими эпитетами. Перечисленные автором на протяжении всего произведения понятия и реалии составляют референтный набор, являющийся следствием доступной ему реальности. Естественно, что конкретные авторские описания в каждом случае являются результатом вариативного выбора эпитетов и означающих слов из референтного набора, сами же описания весьма избыточны и в целом используются автором в качестве стилистического приема, позволяющего создать эмоциональный фон происходящих событий. Все это должен учитывать переводчик. Его цель – воссоздать эмоцию, используя тот же стилистический прием «нагромождения», а выбор нужных имен собственных, эпитетов, понятий и реалий из имеющегося референтного набора в каждом конкретном случае вариативен и зависит от множества сопутствующих факторов.
Проблема лексического соответствия неизбежно возникает и при наличии в изначальном тексте или в составе средств языка-приемника тропов, то есть словесных конструкций метафорического типа. Троп, как известно, связан с явлением полисемии и позволяет слову проявить свой контекстно-зависимый смысл. В некотором роде любая поэтическая фраза является тропом, поскольку основной задачей поэтической речи как раз и является обнаружение в языке его скрытых возможностей. Для средневековой поэзии обилие метафор и тропов не слишком характерно, однако этот фактор едва ли упрощает задачу переводчика. Дело в том, что современный русский язык сам по себе насыщен тропами, поэтическая речь, к которой привык читатель, также построена на тропах. Возникающие при этом «вторые смыслы» существенно затрудняют восприятие перевода как «неоригинального текста». Думается, что ключом к решению этой задачи в рамках рассматриваемой нами средневековой поэзии «больших форм» является осторожная архаизация лексики перевода, включение просторечий, упрощение стилистики перевода, даже в ущерб некоторым лексическим и структурным особенностям оригинала.
Вообще говоря, перевод тропов (а также пословиц, развернутых метафор, каламбуров и т. п.) является весьма интересным и творческим делом, хотя этот орешек раскусить бывает ох как непросто! Любопытно высказывание Корнея Чуковского, где он призывает «переводить смех – смехом, улыбку – улыбкой, юмор – юмором, красоту – красотой» (Чуковский 1968: 61, 73). Как это сделать на практике, в общем, понятно. При анализе фразы подлинника вычленяется «нулевая ступень», которая в процессе перевода «по аналогии» превращается в новую фразу, имеющую ту же «нулевую ступень», но пересозданную в силу возможностей языка-приемника и построенную в соответствии со стилистикой изначальной фразы. Отсутствие в языке-приемнике тех или иных нужных компонентов, воспроизводящих этос «читателя» подлинника, компенсируется путем использования близких по смыслу фразеологических конструкций, образования новых словосочетаний или описательно. Несколько упрощая, можно сказать, что соответствие между оригиналом и переводом должно определяться (ощущаться) на уровне ассоциаций, связанных с формой и содержанием текста, на основе анализа авторского стиля, но никак не на уровне отдельных элементов поэтической системы – слов или даже словесных конструкций. Естественно, риск ошибиться есть всегда, поскольку полисемичен не только троп, возникающий в процессе перевода, но и троп подлинника, место которого в поэтической ткани произведения, хотя и чисто теоретически, могут занимать другие, даже и альтернативные по лексическому составу языковые конструкции.
Что же делает поэтический перевод точным при наличии вольностей? Именно то, что переводчик подходит к проблеме системно, синтетически, учитывает степень влияния каждого элемента поэтического текста на качество перевода. Известно, что лингвистическое сообщение зависит от пяти факторов. Вот эти факторы: а) референт (окружающая действительность, которую автор хочет выразить); б) источник информации (отправитель сообщения, автор); в) получатель сообщения (читатель, слушатель); г) непосредственный код сообщения (структурированный текст произведения); д) канал связи (контакт). Очевидно, что у автора оригинала и у автора перевода эти факторы различаются. Прежде всего, существенно меняются факторы в) и д); следовательно, и непосредственный код сообщения не может быть простым пословным переводом, задача переводчика – создать обновленный код сообщения, отражающий как окружающую действительность оригинального произведения (референтную среду), так и само оригинальное произведение, включаемое в состав данной референтной среды в процессе перевода.
При переводе средневекового текста это замечание еще более весомо, поскольку «видимая реальность», доступная средневековому автору, существенно отличается от «реальной действительности», известной современным исследователям Средневековья, и, как следствие, переводчику средневекового произведения. Для средневекового автора реальность, во-первых, фрагментарна, во-вторых, зависит от известных лично ему, при этом часто противоречивых фактов. Кроме того, временами сам текст оригинала, в силу неизбежных недосказанностей («темнот»), требует дополнительных изысканий для окончательной трактовки. Референтная среда исследователя (переводчика) гораздо шире и определенней, чем действительность средневекового автора, переводчик просто обязан соблюдать научность в подходе к интерпретируемым фрагментам текста, учитывать не только непосредственный текст оригинала, но и весь спектр соответствующих исследований.
Приведем пример. Одна из фраз оригинала в подстрочном переводе звучит так: «клянусь елеем моего крещения». В силу особенностей построения конкретной моноримической строфы появилась необходимость ввести в состав конструкции перевода рифмоид: «фиал» – «ввел». В заданных обстоятельствах были определены два возможных решения: 1) «а я клянусь тем самым днем, когда святой фиал священник поднял надо мной и в лоно церкви ввел»; 2) «а я елеем тем клянусь, что наполнял фиал, когда прелат меня крестил и в лоно церкви ввел». Выбор лучшего варианта вовсе не очевиден! Приведем следующие аргументы в пользу второго решения: а) в первом варианте описывается порядок действий, отсутствующий в оригинале и не соответствующий референтной среде; б) в первом варианте используется отсутствующий в оригинале стилистический прием (метонимия: вещество «елей» по схожести заменяется на содержащий это вещество сосуд); в) слово «прелат» более точное с точки зрения описываемой реальности. Остается отметить, что системные свойства текста перевода, опирающиеся как на лексику, так и на структуру (поэтику) оригинала, должны соответствовать свойствам подлинника в том смысле, чтобы современный читатель ощутил себя непосредственным участником соответствующего литературного процесса. Переводчику необходимо донести до сознания читателя нужную референтную среду со всеми ее тонкостями и особенностями, так пересоздав оригинальный текст, чтобы перед читателем возникла его действующая модель, воспроизводящая как содержание, так и этос средневекового произведения. Главное (согласно «бритве Оккама»!) – не создавать новых сущностей, искажающих как оригинальный средневековый текст, так и саму реальность Средневековья.