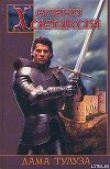Текст книги "Песнь о крестовом походе против альбигойцев"
Автор книги: Гийом Тудельский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Когда Святой Отец завершил свой разговор с прелатами, граф Раймон со своими баронами пришел к нему за ответом на свою жалобу, из-за которой он прибыл в Рим. Граф напомнил Святому Отцу, что он, граф Раймон, и все его бароны очень долго ждали решения своего дела, но так и не дождались. А еще он напомнил Святому Отцу Папе, что, как он уже не раз здесь говорил, нет у него больше ни земель, ни вотчины, куда бы он мог удалиться и где бы мог жить, ибо граф де Монфор все у него забрал. Выслушав жалобы графа, Святой Отец горько вздохнул и ответил:[815] «Граф, не проси больше нас о помощи, пусть Господь тебе поможет. Сейчас тебе надобно вернуться назад, ибо то, о чем ты просишь, я не могу тебе дать. Оставь мне своего сына, сам же можешь уезжать из Рима». Услышав такой суровый ответ, граф Раймон распрощался со Святым Отцом Папой и собрался уезжать, а Папа дал ему свое благословение. И с частью своих людей граф Раймон выехал из Рима, а другую часть оставил с сыном, который по велению Святого Отца остался в городе. Не покинул Рим и граф де Фуа, продолжавший требовать назад свои земли и графство Фуа. Граф Раймон же, выехав из Рима, отправился прямо в Витербо, оставив в городе Риме сына и графа де Фуа.
Когда все, кому было надобно, уехали, граф де Фуа отправился прямо к Святому Отцу и стал требовать назад свои земли. Выслушав его просьбы и жалобы, Святой Отец велел вернуть ему земли. Добившись желаемого, граф де Фуа покинул Рим и направился в Витербо, а сын графа Раймона по-прежнему оставался в Риме. Граф де Фуа прибыл в Витербо и оттуда вместе с графом Раймоном поехал в Геную, где оба пробыли до тех пор, пока сын графа Раймона не приехал к ним из Рима.
Уповая на справедливость Святого Отца, сын графа Раймона в ожидании ответа пробыл в Риме сорок дней. Но, видя, что Святой Отец не намерен разговаривать с ним, он решил посоветоваться с баронами, коих оставил с ним отец, дабы решить, как быть и как поступить. Барон по имени Пейре Раймон[816] сказал ему: «Сеньор, думается мне, что мы лишь теряем время, ибо вряд ли мы дождемся ответа». Затем выступил барон по имени Порселенк[817] и молвил, что негоже им уезжать просто так, никого не предупредив, а потому следует пойти к Святому Отцу и добиться от него ответа и совета. Сын графа Раймона согласился с ним и незамедлительно отправился к Святому Отцу, который, увидев явившегося к нему отрока, взял его за руку и, тяжко вздыхая, усадил его рядом с собой. И отрок сказал ему, что уже долго пребывает в Риме, подле Святого Отца Папы, но толку от этого нет никакого, а потому он намерен покинуть Рим, ибо больше не надеется получить ответ от Святого Отца, поелику тот до сих пор не вынес свое решение и не сообщил его.
Выслушав отрока, Святой Отец ответил: «Сын мой, послушай меня, и если ты станешь внимать моим словам и исполнишь все, что я тебе скажу, ни в чем права твои не будут ущемлены, ибо тебе станет помогать сам всемогущий Господь, который превыше всех нас. Прежде всего люби Господа и верно служи Церкви. Не греши, не бери добра ближнего своего, не требуй лишнего от людей своих и даже малости не бери, когда нет у тебя на это прав. А то, что тебе принадлежит, храбро защищай от всех, кто вздумает тебя обездолить или ограбить». И ответил ему отрок: «Сеньор, как я могу поступать согласно вашему завету, ежели у меня нет ни замка, ни владения, куда бы мог я удалиться и где бы мог преклонить голову? Поэтому я не знаю ни что мне делать, ни что ответить вам». Но Святой Отец велел отроку ни о чем не заботиться. «Ибо даю я тебе графство Венессен, а также Аржанс и Бокер, где ты можешь оставаться и жить до тех пор, пока не соберется церковный Совет. Тогда ты сможешь приехать на этот Совет, дабы предъявить свои права и принести жалобу на графа де Монфора».
ПРИЛОЖЕНИЯ
Е. В. Морозова
История в зеркале поэзии
1. «Совсем у Господа от рук отбился этот край!»
Начавшийся в 1209 году крестовый поход, с целью истребления религиозного инакомыслия, именуемого ересью катаров, или альбигойцев, превратился в двадцать лет опустошительной войны, разорившей цветущие земли юга Франции. Борьба с альбигойцами, участие в которой приняли рыцари со всей Европы, быстро переросла в захватническую войну французских феодалов, а потом и самого короля Франции за присоединение богатых земель и владений Юга к французской короне. «Рим изрек анафему, а Северная Франция взяла на себя экзекуцию» (Иванов 2001: 53).
«Песнь о крестовом походе против альбигойцев», созданная в первой половине XIII века клириком Гильемом из Туделы и безымянным поэтом, которого принято называть Анонимом, – это не только хроника кровопролитных сражений, но и своеобразная лебединая песня стремительно уходившей в прошлое блистательной южнофранцузской культуры, подарившей миру неповторимую лирику трубадуров. Крестовый поход, организованный Папой Иннокентием III, провел незримую границу между «французами», жителями Северной Франции, и «окситанцами», жителями Франции Южной. Имена возглавившего поход графа Симона де Монфора и вставшего рядом с ним бывшего трубадура, епископа Тулузы Фолькета, воспетого Данте в 9-й песни «Рая»[818], стали едва ли не нарицательными, олицетворяя для «французов» благочестие и добродетель, а для «окситанцев» жестокость, ложь и лицемерие.
Говоря о крестовом походе против альбигойцев, нельзя не вспомнить, что в XII—XIII веках в пределах Франции существовали два мира: собственно Франция, край, расположенный к северу от Луары и говоривший на языке «ойль» (langue d’oïl), впоследствии получившем название французского, и Южная Франция, жители которой говорили на языке «ок» (langue d’oc). От утвердительной частички «ок» образовали название Окситания[819]. Разница между двумя частями страны заключалась не только в языке, но и в этносе и культуре: в то время как в северной части, некогда завоеванной германскими племенами франков, медленно, но неуклонно шло формирование монархического централизма, в южной, населенной в основном уроженцами Средиземноморского бассейна, становление национально-территориального единства носило прежде всего социально-экономический характер. Через Окситанию пролегали наиболее важные дороги средневековой Европы: паломники шли поклониться святому Иакову Компостельскому (в Сантьяго-де-Компостелу) и к Папе в Рим, а желающие отплыть с крестовым воинством в Святую землю держали путь в Марсель и расположенный между Арлем и Нимом порт Сен-Жиль. Корабли, прибывавшие в средиземноморские порты с Востока, привозили не только предметы роскоши, но и людей, постигших арабскую философию и неизвестные прежде эзотерические учения и культы. Развитие торговли стимулировало развитие дорог и ремесел, и, как следствие, подстегивало развитие городской культуры. В крупных городах, таких как Нарбонн, Тулуза, Монпелье, Каркассонн, купеческое сословие активно участвовало в формировании выборного самоуправления. Избранные советники, именовавшиеся консулами и объединявшиеся в капитулы и магистраты, издавали свои законы, выносили судебные решения и заключали соглашения с сеньорами, которые, владея замками, тем не менее подолгу жили в своих городских домах, нередко бок о бок с простыми горожанами. В борьбе за свои права и свободы горожане не останавливались ни перед чем: так, в 1161 году жители Безье убили посягнувшего на их вольности епископа прямо в церкви. Тулузский консулат имел в своем подчинении вооруженные отряды городской милиции, а в экстренных случаях мог собрать всеобщую городскую ассамблею. Быстро богатевшие купцы селились в бургах (предместьях), которыми неуклонно прирастали города, постоянно боровшиеся за расширение своих прав и привилегий. Накануне альбигойских войн в Тулузе, столице Лангедока, считавшейся третьим городом Европы после Венеции и Рима, сформировалась подлинная торговая олигархия. Постепенно сосредоточив в своих руках финансовую и административную власть, негоцианты не выпустили ее из рук даже во время войны, заставив графа Раймона VII предоставить тулузским купцам освобождение от всех налогов и поборов в своих владениях (см.: Paterson 1999: 169). В городах процветали еврейские общины, свободно исповедовавшие иудейскую веру, еврейские врачи пользовались всеобщим почтением, а сеньоры охотно приглашали евреев на роль управляющих. В ряде городов евреи избирались в городское управление: известно, например, что в 1180 году некий Элиазар стал консулом в Тулузе (см.: Lafont, Anatole 1970/1: 38). В философских школах преподавали философию не только Аверроэса (последователя Аристотеля), но и Авиценны (последователя Платона), в медицинских школах вели обучение еврейские и арабские врачи. Атмосфера веротерпимости способствовала притоку в край чужеземцев. Каждый из них приносил с собой накопленные знания, умения и навыки, становившиеся своеобразным товаром, который, будучи пущен в оборот, начинал приносить деньги, чья роль в структурировании общества быстро повышалась. Банкиры финансировали крестовые походы и, нарушая запреты Церкви, открыто занимались ростовщичеством; расширялась география торговых связей; владельцы клочков земли, через которые провозились товары, устраивали дорожные заставы и собирали все возраставшие пошлины. У купцов и ремесленников денег зачастую оказывалось больше, чем у сеньора, и тогда последний начинал продавать свои привилегии, сокращая, таким образом, расстояние между горожанами и знатью.

Франция в начале правления короля Филиппа II Августа (1180 г.).
Уникальным явлением культуры, ставшим важным фактором в формировании окситанского самосознания, была поэзия трубадуров[820], поднявшая на недосягаемую высоту язык «ок» и создавшая новую куртуазную идеологию, основой которой стало служение Прекрасной Даме. Куртуазность кардинально изменила внушенный Церковью взгляд на женщину как на «сосуд греха», дерзко включив ее в систему окситанского социального консенсуса, основанного на равенстве и законе. Председательствуя на ассамблеях, дамы, среди которых было немало грамотных и высокообразованных, одним своим присутствием делали нравы мягче, а речи изящней и возвышенней. Поэтические состязания трубадуров вызывали интерес не только у знати, но и у простолюдинов, а среди самих трубадуров числились знатные и простые рыцари, духовные лица, простолюдины и даже женщины. Искусное владение словом ценилось выше умения владеть мечом; вместо пышных рыцарских турниров, которые устраивались к северу от Луары, в Окситании процветали поэтические состязания. Трубадуры сочиняли не только признания в любви и жалобы на равнодушие прекрасных дам и скупость богачей, не только благодарности за наполненный кошель: с началом крестового похода против альбигойцев главным поэтическим жанром стала политическая сирвента[821], содержавшая ядовитые насмешки над лицемерным и сребролюбивым католическим клиром.
Поэзия трубадуров отразила состояние духа всего окситанского общества, объединенного определенным набором общих ценностей, благодаря которым между сословиями не существовало непреодолимых барьеров. Ключевым словом, определившим эти ценности, стало слово «Paratge», наиболее часто повторяемое анонимным автором второй части «Песни». Первоначально означавшее «благородство по рождению», под влиянием куртуазных ценностей трубадуров оно стало обозначать «благородство сердца» (см.: Брюнель, Дюамель 2003: 231). Paratge – благородство, присущее человеку не только в силу его происхождения, но и в силу его ума и отваги; это доблесть и честь, порядочность и равенство. «Восходящее к par – равный, понятие Paratge воплощало идею подчинения не на основе иерархии, а на добровольном согласии» (Camproux 1971: 45). Еще одним «ключом» к моральным ценностям окситанского общества считается понятие «Pretz», также часто упоминаемое автором-анонимом «Песни», и нередко в сочетании с Paratge: «Pretz et Paratge» (в переводе – «Достоинство и Честь», «Достоинство и Доблесть»). Pretz, по словам Ж. Мадоля, – это та «цена», которую имеет человек, поступающий согласно куртуазным заповедям (см.: Мадоль 2000: 45).
Проницаемость социальных барьеров, важная роль городского бюргерства и уравнение его в правах с рыцарями способствовали развитию индивидуализма, самоценного понятия личной чести и доблести. Свободными людьми были не только горожане, но и большая часть крестьян; во владениях, принадлежавших нескольким хозяевам, крестьяне фактически не подчинялись никому. Отношения между людьми и отношение людей к земле и собственности базировались на свободно заключенных договорах. В отличие от севера страны, где, согласно майорату, фьеф (феод) доставался старшему сыну, на юге наследство дробилось по числу наследников, отчего замок и подвластные ему территории нередко имели сразу нескольких владельцев, которые, в свою очередь, на основании брачных или иных родственных уз, претендовали на «кусочки» других земель и замков. Из-за дробности владений знатные сеньоры практически не могли собрать своих вассалов для ведения войны и нанимали отряды рутьеров, зачастую мало чем отличавшиеся от разбойников с большой дороги. В отличие от рыцарей, рутьеры, иначе говоря, наемники, не были связаны никакими этическими нормами и под предводительством окситанских баронов равно грабили как соседнего сеньора, так и аббата с епископом. Не случайно Церковь ненавидела их столь же яростно, сколь и еретиков, предавая и тех, и других анафеме, в то время как окситанское общество в целом относилось к рутьерам вполне терпимо. Впрочем, распри баронов-южан в основном носили характер локальный и сиюминутный, и отряд наемников, служивший сегодня одному барону, завтра уже сражался за его соседа.
При отсутствии выраженного политического единства с XI века в Окситании наметилась тенденция к складыванию Тулузского государства во главе с графами из рода Раймонденов. Собирателем земель, простиравшихся от Гиени до Савойи и от Керси до Пиренеев, стал Раймон IV де Сен-Жиль, один из предводителей 1-го крестового похода. В состав богатого и могущественного графства Тулузского входили территории Верхнего Лангедока, Арманьяка, Ажене, Керси, Руэрга, Жеводана, графства Венессен, Виварэ и Прованса. Среди вассалов графов Тулузских числились такие влиятельные сеньоры, как виконты Каркассонна и Безье из династии Тренкавелей, виконты Нарбонна, правители графств Фуа и Комменж. Вассальные связи на всех уровнях отличались гибкостью и зависели в основном от доброй воли обеих сторон. Владельцы неприступных крепостей, настоящих орлиных гнезд, таких как Терм, Кабарат, Минерва, чувствовали себя вполне независимыми и были готовы договариваться, но не подчиняться. Не жесткая вертикаль, а своеобразное согласие скрепляло окситанское общество снизу доверху.
Будучи вассалами короля Франции, графы Тулузские исключительно номинально признавали власть своего северного сюзерена. Для окситанцев Францией являлся королевский домен Иль-де-Франс, а французы считались такими же чужаками, как нормандцы, бретонцы, фламандцы или немцы (см.: Goure 1986: 174). Когда в 1173 году Раймону V пришлось оборонять свои владения, чтобы обезопасить себя от нападения со стороны принадлежавшей Плантагенетам Аквитании, он с легкостью принес оммаж англичанам. Многочисленные брачные узы соединяли юг Франции с Пиренейскими государствами Арагоном и Наваррой. Граф Тулузский Раймон V был женат вторым браком на Ришильде, вдове графа Раймона II Беренгера Прованского. А дочь Раймона VI от первого брака с Беатрисой, сестрой виконта Безье и Каркассонна, была выдана замуж за Санчо VII, короля Наварры, одного из доблестных победителей в битве при Лас-Навас-де-Толоса. Родство языков, поэзии и менталитета сближало Окситанию с Каталонией. По мнению ряда историков, к началу XIII века даже сложились предпосылки для формирования окситано-каталанского государственного образования (размышления об этом см., в частности, в статье: Roquebert 1978).
Как и вся средневековая Европа, Окситания входила в единое христианское пространство, где одним из двух столпов власти – наряду с королем – оставалась Церковь. Но в Окситании централизованная власть отсутствовала, в обществе процветала веротерпимость, а яркая городская культура гораздо больше привлекала людей, чем культура церковная. Церковь утратила свое главенствующее положение в духовной жизни людей; сами прелаты, ощутив на себе притягательность светских новшеств, попадали в водоворот повседневной суеты и, забросив свои непосредственные обязанности, принимались соперничать в роскоши с купцами и вельможами, бороться за привилегии и земли и конфликтовать с сеньорами. Епископы, избранные общинами (это право Папа отобрал у окситанцев только в середине XII века), больше занимались мирскими делами общины, нежели духовными. Как пишет Н.А. Осокин, ссылаясь на письма Папы Иннокентия III, «священники сделались торговцами, процентщиками, фальшивомонетчиками. Они пьянствуют, разбойничают, святотатствуют и в то же время совершают всевозможные насилия над подчиненными» (Осокин 2000: 88). В итоге авторитет Церкви на юге Франции упал чрезвычайно низко.
2. «Ересь поднялась, как гад со дна морей...»
Начиная с XI века в Западной Европе стали появляться инакомыслящие, в которых насторожившийся клир распознал дуалистов, чья доктрина уходила своими корнями в учение манихеев, последователей полулегендарного перса Мани[822]. Манихейство пришло с Балкан вместе с болгарскими богомилами, через Далмацию проникло в Северную Италию, а оттуда дальше – во Францию и Германию. К началу XII века присутствие еретиков-дуалистов, именовавшихся «катарами», что по-гречески значит «чистый», было отмечено во Фландрии, Швейцарии, Льеже, Реймсе, Везеле, Артуа и Ломбардии, где их именовали патаренами. Во Франции катары объявились еще раньше. Но если к северу от Луары их учение не нашло достаточно адептов, а немногих сторонников Церковь отправляла на костер (как это произошло в 1017 году в Орлеане, где сожгли двух уличенных в катарской ереси каноников собора Святого Креста), то к югу оно распространилось среди самых различных слоев общества – от владетельных сеньоров до городской бедноты.
Катары утверждали наличие двух начал – доброго (Бога) и злого (Сатаны)[823]. Все, что материально, в том числе и человеческое тело, являлось, по их мнению, творением Демиурга, Духа Зла. Добрый Бог выступал творцом человеческой души, заключенной в темницу телесной оболочки. Чтобы вернуться в царство Бога, душе предстояло избавиться от материальной оболочки, иначе говоря, пройти покаяние, которое не заканчивалось со смертью тела. Веруя в переселение душ, катары исповедовали ненасилие и вегетарианство, полагая, что убийство прерывает путь покаяния души, способной вселиться в любое тело, в том числе и тело животного. Есть можно было рыбу, считавшуюся порождением грязи. Известен случай, когда в 1052 году германский император Генрих Черный, будучи в Госларе, приказал повесить нескольких еретиков, объявленных катарами только на том основании, что они отказались убить курицу. Катары отрицали римскую обрядность, храмы, иконы, крест, воплощение Христа считали призрачным, отвергали Ветхий Завет, феодальный суд, основанный на личной клятве, проповедовали аскетизм, безбрачие и непротивление насилию. Адепты учения делились на два разряда: верующие и «совершенные» (пастыри). Христианскому крещению водой противопоставлялось крещение Святым Духом, во время которого на голову испытуемого возлагали Евангелие и читали «Отче наш», главную молитву катаров. Разумеется, от простых верующих не требовалось ни аскетизма, ни безбрачия. Исполняя скромные обряды катаров, верующие должны были преклонять колена, когда мимо проходил «совершенный» (или «совершенная», ибо женщины также имели право принимать посвящение[824]), раз в месяц исповедоваться в присутствии своих собратьев и перед смертью принять «утешение» (consolament). Обряд «утешения», означавший духовное крещение, имел двоякое значение. Для того, кто желал принять посвящение, стать проповедником, обряду предшествовала определенная подготовка, ибо, приняв «утешение», он становился «совершенным», то есть отрекался от мирской суеты и принимал аскезу. Поэтому простые верующие до последнего момента откладывали принятие этого таинства, заключая с «совершенным» договор, дабы тот перед смертью дал ему «утешение», сулившее надежду на прощение грехов. Если умирающий выживал, то «утешение» считалось недействительным, человек возвращался к жизни простого верующего, но при желании мог начать готовиться к принятию «утешения» с целью стать «совершенным». В 1167 году в городке Сен-Феликс-де-Караман в Лангедоке состоялся катарский Собор под председательством прибывшего из Константинополя епископа Никиты, в котором католические священники тотчас увидели катарского Папу. Скорее всего, целью Собора было определение территориальных границ диоцезов и постановка во главе каждого своего епископа.
Успешному распространению катаризма в Окситании способствовал целый ряд факторов, среди которых следует назвать и упадок авторитета Церкви, и политическую разобщенность, и исконно терпимое отношение к иным вероучениям, и высокоразвитое для того времени чувство личного самосознания и свободы у южан, и присущую обществу, жившему на перекрестках торговых путей, жажду новизны. Развращенным нравам духовенства катарские пастыри противопоставили бедность и целомудрие, что не могло не вызывать уважения у населения. В сандалиях и простых черных рясах «совершенные» ходили по краю, убеждая и даруя утешение страждущим, будь то рыцарь или нищий. Они не брали денег за совершение обрядов, раздавали полученные пожертвования нуждающимся, а в случае необходимости жили своим трудом – ремеслом или торговлей, ибо, в отличие от католиков, им дозволялось заниматься финансовыми операциями, в том числе и дачей денег в рост. Катарские общины нередко организовывали ткацкое производство, за что катаров прозвали «ткачами»[825]. Альбигойскую веру принимали люди всех социальных слоев: от дворян до клириков, от горожан до крестьян, от купцов до рыцарей.
Официальная Церковь чаще обращалась к своей пастве на малопонятной латыни, катары же наставляли и проповедовали на всем доступном языке «ок». В краю, где, по определению Ж. Дюби, процветала «культура свободной и открытой дискуссии» (Дюби 2001: 47), где умели ценить слово и словесные состязания всегда собирали множество участников и зрителей, катары охотно вступали в диспуты с католиками и зачастую выходили победителями. Прелаты нередко жаловались, что их оппоненты не могут связать два слова по-латыни, а потому им, привыкшим к латинским диспутам, сложно с ними разговаривать. Катары допускали к участию в диспутах женщин, что для Средних веков являлось неслыханной дерзостью. Когда в 1207 году на диспуте в Памье, где от официальной Церкви выступали епископ Осмы Диего де Асевес и Доминго де Гусман, слово взяла «совершенная» Эсклармонда, сестра графа де Фуа, один из возмущенных монахов воскликнул: «Идите к вашей прялке, вам здесь не место!»
Обращаясь к неискушенным слушателям, катарские проповедники подчеркивали те черты своего учения, которые роднили его с традиционной христианской верой, свою близость к евангельской Церкви, от которой отреклась церковь Римская, именуемая ими «синагогой Сатаны». Себя они именовали христианами, апостолами и христовыми бедняками, а верующие называли своих пастырей «добрыми людьми» или «добрыми женщинами». Принятое историками название «катары» было дано Церковью, видевшей в последователях этого вероучения злостных еретиков. Из застенков инквизиции вышло и название «совершенный» – «совершенный еретик», как называли инквизиторы не пожелавших отречься от своей веры «добрых людей» (см.: Brenon 2007: 22). Также катаров называли «буграми» (bougre, bolgre) – искаженной формой слова «болгарин» (bulgare). (В Болгарии катаров именовали богомилами[826].) На юге Франции они получили название альбигойцев.
Согласно Ф. Ньелю, впервые слово «альбигойцы» для обозначения катаров было употреблено в 1181 году в «Хронике» Жоффруа, аббата из Вижуа; однако точные причины возникновения данного термина неизвестны, так как, по утверждению автора, в Альби адептов катаризма было не больше, чем в других городах Окситании (см.: Niel 1987: 57). Возможно, это слово напоминало о случае, произошедшем в самом начале XII века: когда епископ Альби Сикар приказал сжечь заживо нескольких еретиков, народ возмутился и освободил приговоренных. Как пишет М. Рокбер, слово «альбигойцы» в значении «катары» впервые появилось в 1163 году, в постановлениях VI Турского собора (см.: Roquebert 1999: 17). Возможно также, название это появилось после диспута, состоявшегося в 1165 году в Ломбере (неподалеку от Альби), когда сразу несколько именитых епископов потерпели в споре поражение от катаров. А ученые монахи-бенедикгинцы из конгрегации Сен-Мор связывают название «альбигойцы» с тем, что еретики, осужденные в 1179 году на III Лагеранском соборе, были родом из Гаскони и Альби (см.: Vic, Vaissette 1737/3: 553 (n. 13)). С XIII века название «альбигойцы» применительно к катарам Окситании стало употребляться большинством хронистов.
Необходимо отметить, что основная часть знаний об альбигойцах и их учении почерпнута из документов главного оппонента – Римской церкви и главного гонителя – инквизиции. Среди немногих сохранившихся текстов самих катаров наиболее полными являются «Ритуал» (XIII век), представляющий собой описание главного таинства катаров – «consolamene; трактат Джованни ди Луджио из Бергамо «Книга о двух началах» (ок. 1250), и «Катарский трактат» некоего Бартоломе, обнаруженный среди листов рукописи «Книги против манихеев» (1222—1223) Дуранда из Уэски[827]. Исходя из доктринальных предпосылок, учение катаров традиционно рассматривается не как ересь внутри христианства, а как иная религия; манихейские корни кагаризма подчеркиваются целым рядом авторитетных историков (см., напр.: Ле Гофф 2007: 134; Roche 1957: 72 ff.). Но современные исследования, посвященные «бытованию» альбигойской веры, ее восприятию простыми верующими, а также христианская аргументация в текстах катаров отодвигают дуализм и докетизм[828] на второй план и позволяют говорить об альбигойской ереси как об относительно традиционном течении в средневековом христианстве, основанном на идеале монашеского аскетизма (об этом, в частности, см.: Brenon 1996; Duvemoy 1977).
3. «...В сем краю жизнь завершится крахом...»
Когда к концу XII века в Окситании сложилась Церковь катаров, папский Рим обратил пристальный взор на юг Франции, тем более что доходов оттуда поступало все меньше: приверженцы нового учения не выплачивали десятину, а знатные сеньоры проявляли удивительное равнодушие к своим религиозным обязанностям, лишая храмы и их служителей своих щедрот. Веротерпимость окситанского общества пришла в противоречие с Римской церковью[829].
Почти за полвека до начала крестового похода на борьбу с альбигойской ересью в Окситанию отправились проповедники. В 1145 году в Тулузу прибыл Бернар Клервоский[830], однако ему пришлось проповедовать едва ли не в пустых стенах. Аббата из Клерво Анри де Марсиака, побывавшего на юге Франции в 1178 и 1181 годах, приверженцы кагаризма встречали враждебно и осыпали оскорблениями прямо на улицах. Аббат отлучил от Церкви Рожера Тренкавеля (отца Раймона Рожера, которому суждено погибнуть в застенках крестоносцев), с чьего попустительства был арестован и заключен в одну камеру с еретиком епископ Альби, а в Тулузе добился покаяния видного апостола новой веры – Пейре Мауранда. Но отдельные неудачи не поколебали позиций альбигойцев. И даже те, кто сохранил верность Церкви, на уговоры папских легатов и епископов выдать еретиков, отвечали: «Мы не можем этого сделать, ведь это наши братья, они живут рядом с нами, и мы хотим жить с ними в мире».
Не справившись с альбигойцами в одиночку, клир обратился за помощью к светской власти. В последнем каноне III Латеранского собора, созванного Папой Александром III[831] в 1179 году, говорилось, что Церковь «вынуждена обращаться к мирским законам и просить помощи у государей, дабы страх перед светской казнью побуждал людей прибегать к средствам духовного исцеления» (цит. по: Люшер 2003: 51). Но в Окситании, где знать сама находилась под влиянием катаров, призывать ее на борьбу с ересью было практически бесполезно, особенно когда в 1194 году графа Тулузского Раймона V, пытавшегося оказать поддержку Церкви, сменил его сын Раймон VI, поддерживавший альбигойцев не только из политических соображений, но и из личных симпатий. Подлинным инициатором непримиримой борьбы с альбигойцами стал Папа Иннокентий III, избранный наместником святого Петра в 1198 году, когда ему исполнилось тридцать восемь лет. После бесславного завершения 4-го крестового похода, во время которого в 1204 году крестоносное воинство разграбило Константинополь, взоры Папы обратились в сторону юга Франции, куда он ранее отправил своих легатов Ренье и Ги, а затем монахов цистерцианского аббатства Фонфруад – Пьера (Петра) де Кастельно и Рауля. В 1204 году на помощь к ним прибыл влиятельный церковный сановник Арно Амори, аббат из Сито, головного аббатства цистерцианского ордена, ставшего в начале затяжной войны с альбигойской ересью главной опорой папства. Именно Арно Амори, когда накануне осады Безье воины спросили его, как отличить еретика от католика, ответил: «Убивайте всех, Господь разберется».
Цистерцианцы не сумели ни припугнуть нечестивцев, ни убедить сеньоров-южан отказаться от «ложной веры» и предать катаров в руки Церкви. Потерпел поражение и испанский проповедник Доминго де Гусман, хотя будущий основатель ордена доминиканцев, которому впоследствии Папа доверил инквизицию, странствовал пешком и в рубище, желая примером своим и милосердием воздействовать на сердца заблудших. Не намереваясь терять богатый французский юг, Папа решил сменить пастырское слово на меч. А когда в январе 1208 года при загадочных обстоятельствах был убит папский легат Пьер де Кастельно, был найден и повод для войны. Так как убийца, по всей видимости, принадлежал к людям Раймона VI, графа Тулузского, Иннокентий III, обвинив графа в замысле и подготовке этого убийства, призвал баронов всех христианских стран отправиться в крестовый поход против альбигойских еретиков.
4. «Еще Господь не создавал с начала всех времен Того, кто смог вы описать сей ратный Вавилон...»
Помимо писем легатов и папских булл, а также протоколов IV Латеранского собора 1215 года, современники оставили не так уж много свидетельств о ходе и событиях крестового похода против альбигойцев. Подробным и заслуживающим доверия источником является «История альбигойской войны» цистерцианского монаха Пьера из аббатства Во-де-Серней (Petri Vallium Semensii monachi Hysteria Albigensis; см.: Vaux-de-Cemay 1951), исполнявшего в армии Монфора обязанности капеллана. Знатного рода, он рано вступил в аббатство Во-де-Серней, расположенное к юго-западу от Парижа, настоятелем которого с 1184 года был его дядя Ги, ставший в 1212 году епископом Каркассонна. Сопровождая дядю в поездках, Пьер, возможно, еще до начала крестового похода встречался и с Монфором, и с Иннокентием III, которому и посвятил свой труд. Точный во всем, что касается событийной стороны, он являлся пылким сторонником Монфора, и весь его пафос хрониста направлен на прославление крестового воинства и предание анафеме еретиков. Его повествование завершается 22 декабря 1218 года, вскоре после гибели вождя крестоносцев.