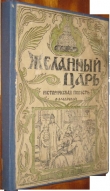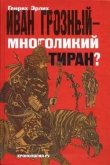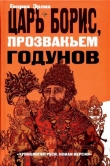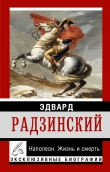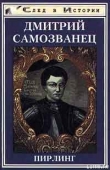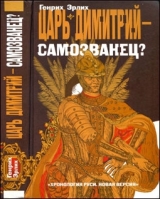
Текст книги "Царь Дмитрий - самозванец "
Автор книги: Генрих Эрлих
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 33 страниц)
– Почему незаконно? – с удивлением воззрился на меня Федор. – Большая часть епархий сейчас под властью Димитрия, что он прикажет святым отцам, то они и сделают. Соберем Собор Священный, Гермогена сместим, меня изберем – все по закону! Да и собрались уж почти все, меня вот дожидались. Ну а кто приглашением пренебрег или артачиться на Соборе вдруг вздумает, тех ведь можно и заменить властью новоизбранного патриарха, – хохотнул он по своему обыкновению и продолжил, подмигивая, -г– Не представляешь, сколько здесь толчется желающих стать игуменами, архимандритами и хотя бы протопопами. Если бы я помышлял о земном, так озолотился бы. А с Собором, полагаю, завтра все и сделаем. Чай, в один день уложимся.
Я согласно кивал головой: «Вы-то? Вы-то уложитесь, кто бы сомневался!» Но Федора уж не слушал. Меня в тот момент одна мысль посетила. Все люди, тысячи, десятки тысяч людей, что находились тогда в Тушине, прибыли туда добровольно и беспрепятственно, лишь три человека выбивались из этого ряда, три главных действующих лица этой драмы: Димитрий, Марина и Федор Романов. Не имело никакого значения, что Димитрий оказался в Тушине, можно сказать, беспрепятственно, но не по своей воле, а Марина с Федором стремились туда всей душой, вырываясь из плена. Главное было в том, что они, все трое, были помечены печатью несвободы, несмывае-

мой печатью. Свободные люди, окружавшие их, составляли бурный, мощный, бурлящий поток, они же были тремя лодками, несущимися среди пены и брызг и мнящими, что это они направляют движение вод. И опять же не имело никакого значения, что лодка Димитрия была без руля, а у Марины и Федора были и руль, и весла, на стремнине все едино, тут уж как Господь рассудит, кого бросить на камни, а кого вынести в тихую заводь. Я же мог только сидеть на берегу, следить за борением гребцов со стихией и молить Господа, чтобы помиловал он хотя бы Димитрия с Мариной.
Я подозвал Николая и тихо отдал ему необходимые распоряжения. Назавтра в Тушине меня уже не было.

Глава 9
Три таинственных исчезновения
[1608—1610 гг.]
Во второй раз я поехал в Тушино через год с лишним, следующей зимой. Нет, приглашали меня часто, и Димитрий, и Марина особенно, и даже Федор Романов, нареченный таки Патриархом Всея Руси, хотя епархии, находящиеся на подвластной Шуйскому территории, это не приняли, так что теперь в державе нашей всего было в избытке: и царей, и столиц, и патриархов.
Да, приглашали часто, но не призывали – я это очень тонко чувствую. Коли нет нужды в помощи моей, совете мудром или слове добром, то зачем и ехать. Я и не ездил.
Чем занимался? Болел понемножку, больше от безделья и сидения в четырех стенах, хандрил от одиночества, потому что, как я уже говорил, в державе нашей всякой твари было по паре, только я был один как перст. А еще пытался я разобраться, что же происходит в нашем государстве. Не разобрался.
Скажете, что тяжело мне было это сделать, потому что не имел я тогда касательства к делам государственным, не мог знать, что происходит в отдаленных землях нашей необъятной державы, не видел договоров, которые заключали Димитрий или Василий Шуйский с другими государями. Это, конечно, так, но все ваши возражения я легко отобью по пунктам, как ритор искусный.
Первое. Для того чтобы в делах государственных разбираться, мне никогда никакие должности и звания не требова-

лись, тем более сейчас, с моим-то накопленным десятилетиями опытом – скольких царей пережил и каких царей! – и связями. Меня же каждая собака в Кремле знала, никто никогда не мог мне ни в чем отказать, благо я снисходил до просьб счита-ное число раз в жизни, думаю, что даже Василий Шуйский с готовностью открыл бы мне свою душу, если бы у меня возникло вдруг странное желание заглянуть в эту клоаку.
Второе. В отдаленных землях как раз ничего и не происходило, вся смута клубилась на относительно маленьком, по сравнению с размерами державы, пятачке вокруг Москвы, на добром коне да по хорошей дороге в четыре, много пять дней ты попадал в места незамутненные. Люди и ездили туда-сюда, а я не ленился расспрашивать обо всем увиденном каждого встречного и поперечного, и боярина, и купца, и сотника стрелецкого, и даже казака простого, и все услышанное в тетрадочку особую записывал не для потомков, а для собственной памяти. Мог бы я эту тетрадочку сюда переписать, да боюсь вас утомить и еще больше запутать, так что положу-ка я ее рядышком, а вам перескажу самое главное, лучше сказать, самое верное, недаром я потратил столько времени, чтобы отделить несколько зерен правды от вороха плевел.
Наконец, третье, о договорах тайных. Договора – что? Договора – бумага, я всегда смотрю на действия, на результаты. А по ним выходило, что ни один из договоров не был исполнен даже наполовину, так что и говорить не о чем. Да и знал я все об этих договорах, по крайней мере о тех, что утверждались Думой боярской, в Москве заседавшей. У меня для этого, как вы помните, свои тайные ходы имелись.
Ладно, согласитесь вы, в пылу битвы действительно тяжело разобраться в происходящем, даже если наблюдать битву со стороны, но утихнет шторм, улягутся волны, осядет пена, вот тогда все и прояснится, все тайное станет явным: восстановится истинный ход событий и разрозненные обрывки сложатся в картину, пусть неприглядную, но целостную. Ничего не прояснится! Ничего не сложится! Точнее говоря, сложится, да не так! А еще точнее – не так сложат.
Как основные документы времен опричнины пропали в
дыму и пламени, так и нынешние исчезнут, уже почти все исчезли. Никому правда о тех годах не нужна, ибо многие были замараны предательством и душегубством, истинных же героев было немного. Но истинные суровы и молчаливы, зато те, другие, лукавы и крикливы. Вот пишу я сейчас свою историю, а неподалеку другие перья скрипят, эти сказания потомки и увидят и примут их за свидетельства истинные. Я в свое время расскажу вам немного об этом, о том, что сам видел и знаю.
А еще останется множество повестей разных иностранцев, что в те годы на Руси обретались. А иностранец разве ж правду напишет?! Они же все державу нашу ненавидят из-за страха своего многовекового. Даже лучшие из них в былые мирные времена такие благоглупости о Руси писали, что и обиды не вызывали, только смех. Но то были люди солидные, послы, миссионеры, купцы богатые, а в Смуту Русь наводнили разбойники и проходимцы. Но уверяю вас, что историки будущие именно на их свидетельства и будут ссылаться, потому что наших будет мало – не любит русский человек попусту бумагу переводить, зато иностранцы льют чернила по поводу и без повода, лишь бы ум свой суетный показать и имя увековечить на обложке книги. И еще потому на нащи документы будут мало ссылаться, что многое в них будет казаться непонятным, сколько ни вырывай листов, сколько ни подчищай и ни вписывай других имен и дат, сколько ни переписывай заново, а ростки правды все равно будут пробиваться сквозь панцирь даже самых лживых измышлений. И ростки эти будут волновать и требовать своего объяснения, ведь нельзя же просто так отмахнуться от слов православного человека. С иностранцами проще. «Тут ошибся по незнанию, здесь соврал злонамеренно, а вот это – факт истинный», – станет говорить историк будущий. А факт этот отличен от других только тем, что он именно этому историку нравится и удобно ложится в канву его повествования. А уж остальные примутся переписывать его из книги в книгу, ссылаясь на мнение авторитетное и посему не подлежащее сомнению.

Что-то я заболтался. Пора к делу переходить, но тут одна загвоздка имеется: как же мне рассказывать о событиях во всей их последовательности, если я в этих событиях так и не разобрался. Я так не умею. Посему расскажу только то, что понял, бессвязная правда лучше гладкой лжи.
Перво-наперво, кто с кем воевал. Сейчас ляхов во всем обвиняют, говорят, что они главные заводчики и участники этой смуты, они, и только они, Русь разорили, даже Димитрия особо ругательно не поминают, разве что как куклу в руках польских. Это понятно, мы сейчас с Польшей в войне, а на врага всегда всех собак вешают. Да и во все времена во всех бедах, свалившихся на его дом, человек винит злокозненного соседа, лишь бы не признавать собственных ошибок и своей вины.
Не в поляках дело! Да и нельзя их всех одной меркой мерить, очень разные люди среди них были. Наемников мы в расчет не берем, у них отечества нет. Попадались искатели приключений, более или менее благородные, типа Петра Са-пеги, и совсем неблагородные, типа упоминавшегося пана Лисовского. Было много таких, кому стало неуютно или тесно в Польше, они не хотели служить Сигизмунду, государю, низкому душой и происхождением, и отдали свои сердца и сабли Димитрию, обещавшему величие империи. Так испокон веку бывало, знатные господа свободно переходили от одного государя к другому, это право отъезда только на моей памяти и с большим трудом изжили. Новых подданных государи принимали с почетом и жаловали поместьями в соответствии с их знатностью, вспомните хотя бы князя Андрея Курбского. Или вот князья Мстиславские, появились на Руси из Литвы чуть больше века назад, а как высоко взлетели, сколько десятилетий Думу боярскую возглавляли и были первыми воеводами. И почитали их за русских князей, а то, что они Гедиминовичи, только прибавляло им мест. Я так понимаю, что и князь Роман Рожинский, тоже Гедиминович, встал под знамя Димитрия в надежде занять столь же высокое положение. Всех этих поляков, что пришли вслед за Димитрием, сколь бы разными они ни были, объединяло одно – они связали судьбу с царем Московским, с Русью, были они подданными великой Русской державы, а значит – русскими. Вот сейчас корят Димитрия за то, сколь щедро он жаловал поляков поместьями на Руси, стыдливо замалчивая, что жаловал он подданных своих, а царь Русский по закону обязан дать слуге своему поместье, чтобы было тому с чего служить. Но на это можно не обращать внимания – лжи ушат! Удивительно, что Василий Шуйский в свое время этого не понял. Помните тот договор, что он с королем Сигизмундом заключил: Шуйский отпускал всех поляков из русского плена, а Сигизмунд обязывался призвать на родину всех поляков, что у Димитрия служили. Что ж, призвал, ни один не вернулся, кто им был король польский?
Но и Сигизмунд ничего не понял, даже после столь оскорбительного ответа. На исходе третьего года Смуты, видя, как самостийные польские отряды с легкостью берут для Димитрия один русский город за другим, он вознамерился откусить кусочек чужого пирога, пока хозяева между собой дерутся. Мнил он, что перед регулярной королевской армией города русские склонятся с еще большей готовностью, и, завидуя славе великого в памяти поляков короля Батория, грезил превзойти его подвиги. Коварно нарушив мирный договор, заключенный с царем Василием Шуйским, ранней осенью король Сигизмунд во главе своей армии ступил на Русскую землю и устремился к Смоленску. Я уж рассказывал вам о Смоленске – твердыня неприступная, сверкающий алмаз в сонме городов русских! Вот только стояло там в то время всего пять тысяч стрельцов во главе с воеводой славным, Иваном Михайловичем Шеиным, который, конечно, один стоил пяти тысяч ратников, но как ни складывай, все равно маловато выходило против армии королевской. Несмотря на это, город не спешил распахнуть ворота перед королем польским, более того, шесть смельчаков среди бела дня переплыли на лодке Днепр, прокрались к шатру Сигизмунда, свернули знамя королевское и благополучно привезли его обратно в Смоленск. Да, любят русские люди хорошую шутку, а уж по части воровства... На ходу подметки срежут! Чего только ни делал Сигизмунд, рыл
подкопы и взрывал стены, бросался на штурм, морил город голодом в осаде, писал прельстительные письма и жителям, и ратникам, и отдельно воеводе Шеину – крепость стояла неколебимо. На Руси шли битвы междоусобные, в Москве менялась власть, уж не было того, кому присягу приносили, – ратники стояли насмерть. Стоял и Сигизмунд, полтора года стоял у стен Смоленска, хоть этим превзойдя короля Батория, – тот сообразил быстрее из-под Пскова убраться.
Вот вам и поляки! Нет, нас, русских, только мы сами победить можем, И землю нашу никто лучше нас самих не разорит. И не обустроит заново.
Чтобы закончить о поляках – кто, по-вашему, больше всего озаботился вторжением армии короля Сигизмунда? Ни Димитрий, ни Шуйский – поляки, состоявшие на службе у Димитрия! Едва до Тушина дошла весть о походе короля, поляки созвали собор, он у них коло называется, и нарядили послов к королю Сигизмунду с требованием (!) отступиться от стен Смоленска, вернуться обратно в Польшу и не мешаться в их, русские, дела. «Мы не признаем ни короля королем, ни отечества отечеством, ни братьев братьями. Враг Димитрия, кто бы он ни был, есть наш неприятель!» – писали они Сигизмунду, коротко и ясно.
Впрочем, воины иноземные все же появились на Руси. Это Шуйский учудил по глупости своей и недальновидности. Если что и роднило его в ту пору с Димитрием, кроме крови прапра (боюсь сбиться со счета) прадедушки, то это подозрительность и недоверие ко всем окружающим. Вспомнив, как верно служили немцы царю Борису и Димитрию, Шуйский тоже решил пригласить наемников европейских. Сам бы он, наверно, до этого не додумался, но ему поступило весьма навязчивое предложение. Шведский король Карл, дядя короля Сигизмунда, воровски похитивший у него корону шведскую, рвался оказать царю Русскому услугу и тем самым в друзья набиться. Прослышав о начавшейся на Руси смуте, он предложил Шуйскому свое войско в помощь, пять тысяч человек, естественно, за плату, в Европе все услуги платные. Вести переговоры Шуйский поручил корельскому воеводе, князю Рубцу-Мосальско-му. Недавно сосланный тем же Шуйским в этот медвежий угол как ближайший сподвижник Димитрия, князь Василий, естественно, не спешил укрепить своего врага и затягивал переговоры исконно русскими средствами, перемежая придирки к каждой букве обильными и долгими пирами, а при известии о возвращении Димитрия и вовсе бросил и послов, и переговоры, и свое воеводство – и устремился в Тушино. Вскоре положение Шуйского стало совсем худо, его обложили в Москве, как медведя в берлоге: давняя опора, Псков, добровольно склонилась перед войсками Димитрия, вслед за Псковом Димитрию присягнули Ивангород и Орешек. Шуйский поспешил заключить договор со шведами, для этого послал племянника своего двоюродного, князя Михаила Скопина-Шуйского, воеводу молодого, но весьма искусного – он был Великим Мечником при Димитрии. Князю Михаилу надлежало, заключив договор и получив в свое распоряжение рать иноземную, пробиться с ней в Москву, по возможности возвратив под власть царя Василия все города и земли, что попадутся им по дороге. Наказ дяди князь Скопин-Шуйский выполнил почти полностью, и даже с блеском, но что за воинство вел он за собой! Среди пяти тысяч ратников, трех тысяч конных и двух тысяч пеших, которые обязался предоставить лукавый король Карл, оказалось совсем немного шведов, а все больше французов, англичан, шотландцев, голландцев. Число их быстро возросло, рассказывают, тысяч до пятнадцати, за счет разных искателей приключений и легкой наживы. Так называемые рыцари европейские, потеряв первородный страх перед Великим Тартаром – Империей Русской, уже несколько лет с вожделением смотрели на восток, надеясь погреть руки у костра русской Смуты. Но прямой путь на Русь им был закрыт, король Сигиз-мунд не желал пускать всяких проходимцев на свою территорию, пусть даже временно, – своих хватало! Но вот приоткрылась северная калитка, и весь этот сброд с гиканьем и свистом устремился на русские просторы. Слава Богу, ненадолго! Не любят русские люди чужаков, особенно гостей незваных, с мечом приходящих. Так что воинство это частью в лесах наших бесследно сгинуло, оставшиеся же обратно к границе побежали, унося в памяти, что Тартар – он и в смуте Тартар,

быть может, еще более страшный. Наемники королевские при князе Скопине-Шуйском немногим дольше продержались, менее полугода, убоялись ли трудностей похода или Шуйский не заплатил им обещанных денег – с него бы сталось! – как бы то ни было, в битве при Калягине, на дальних подступах к Москве, под знаменами Шуйского сражалось лишь несколько сотен истинных шведов. В Москве же я их вообще не видел.
В главные разорители Земли Русской сейчас еще и казаков записывают, называя их силой чуждой и внешней, наравне с поляками. Конечно, грабежом казаки не гнушались, и их появление во внутренних землях державы, куда раньше им вход был заказан, походило на нашествие вражеское, но ведь это были наши люди, православные, русские, даже те, которые пришли из Польши, всегда себя таковыми считали. Да и разные были казаки во время Смуты. Были казаки истинные, которые, как я уж говорил, составляли в былые времена основу войска русского. Они малость одичали за долгие годы жизни на окраинах державы, но ухватки воинские не растеряли, знали и строй, и безусловное подчинение приказам атамана, а уж во владении саблей, меткости стрельбы из луков и мушкетов и особенно в придумывании всяких военных хитростей и ловушек далеко превосходили и стрельцов, и детей боярских, сражавшихся в ополчении. Но во время Смуты появились и другие казаки, беглые холопы, крестьяне из разоренных деревень, обнищавшие дети боярские, тати лесные сбивались в ватаги, перенимали кое-что из обличья и повадок истинных казаков, избирали атаманов и тоже начинали гордо именовать себя казаками. Народ же метко окрестил их «воровскими казаками» и никогда одних с другими не путал, заботясь о жизни своей и достоянии, – от наскока воровских казаков можно было отбиться, а перед истинными казаками, тем более идущими под флагом Димитрия, лучше было сразу распахнуть ворота, чтобы бессмысленным сопротивлением не давать повода для зверств.
В общем, с какой стороны ни посмотри, эта была наша, чисто русская Смута, сами мы эту кашу заварили, сами и расхлебываем. •
Но вопрос мой первый: кто с кем воевал, так и остался не-
проясненным. На первый взгляд все просто: схлестнулись три силы, одна под флагом Димитрия, другая под флагом Шуйского, а третья – прямые разбойники. Разбойники и в мирное время не переводились, а уж в Смуту расплодились невероятно, никому не подчиняясь, кроме своих главарей, они внесли немалый вклад в разорение Земли Русской, так что их волей-неволей приходится за отдельную силу считать.
Сложность же заключалась в том, что часто невозможно было определить, к какой силе относится тот или иной человек. Переходы из одного разряда в другой происходили столь быстро, что голова шла кругом. Сегодня он разбойник, а завтра – думный дворянин у Шуйского, послезавтра, получив положенное повышение в чине за предательство, боярин у Димитрия, на третий день, обидевшись за что-то на Димитрия, опять уходит в разбойники. Оно и раньше так бывало, что днем вельможа сановитый, а ночью разбойник, но чтобы днем разбойник, а вечером стольник царский, такого никогда не случалось. И не напоминайте мне времена опричнины! Тогда стольники царские резвились днем на коротком царском поводу, а в Смуту все были на вольном выпасе.
Из-за частоты случавшегося само понятие измены, столь четкое и ясное в былые годы, размылось и поблекло и не вызывало в душе никаких чувств: ни гнева, ни удовлетворения, ни даже удивления. Как копейка, которая от долгого употребления истирается и превращается в простой расплющенный кусочек металла, с которым непонятно, что и делать. Ничего и не делали, за все время Смуты ни одного человека не казнили за измену, только за прямой разбой, да и тех не по царскому суду, а по народному. С сожалением надо признать, что подозрительность и Димитрия, и Василия Шуйского, их недоверие ко всем, даже и родственникам ближайшим, имели весьма веские основания.
Картина происходящего затуманивалась: официальных известий и слухов было, с одной стороны, слишком мало, а с другой – в переизбытке. О многих событиях, происходивших в близлежащих землях, никто в Москве не знал, даже и я. Сейчас сказители новые пишут: было так-то и так-то, а я не могу утвердить, верно ли это или всего лишь их выдумки. Точно так же и в


землях не все знали о событиях московских. О чем тут говорить, если князь Скопин-Шуйский, спешивший на выручку Василию Шуйскому со своей ратью и остатками шведского воинства, прислал в Москву гонца с вопросом осторожным, а сидит ли еще на престоле его дядя и надо ли ему так поспешать.
Об иных же происшествиях известия приходили многократно, часто запаздывая, а иногда и опережая события, с путаницей мест, имен и дат, с обычными преувеличениями и недомолвками. Все это аккуратно заносилось не только в мою тетрадочку, но и в летописи государственные, порождая полнейшую неразбериху. В то, что какой-нибудь город попеременно переходил из рук в руки, еще можно было поверить, но то, что его трижды за два месяца сжигали дотла, вызывало сомнение. То же и к людям относится, я даже думаю, что известия о случавшихся ежедневно перелетах и изменах объяснялись отчасти, конечно, многократным и искаженным повторением. Или возьмем пана Лисовского, имя которого в донесениях упоминалось чаще всех остальных ляхов. Я слышал от знающих людей, что в своих походах пан Лисовский показывал необычайную стремительность и лихость, но даже он не мог одолеть за день триста верст, тем более находиться одновременно в нескольких местах. А количество ран, полученных им якобы при осаде одной Троицы, превосходит силы человеческие, от виска до пятки не осталось на нем ни одного живого места.
Я ведь не случайно оговорился, сказав, что одни сражались под флагом Димитрия, а другие под флагом Шуйского, а не за Димитрия или за Шуйского. Чем дольше я думал, тем больше убеждался, что идет совсем другая борьба, между совсем другими силами. То есть люди-то те же, но объединяются они тайно между собой не по приверженности тому или иному царю. Доказать я ничего не могу, у меня есть лишь смутные догадки. Я не могу Даже говорить о каком-то заговоре, который всегда, рано или поздно проявлялся во многих давно минувших и описанных мною событиях. Если, к примеру, в первом пришествии Димитрия или в его свержении я еще мог более
или менее уверенно проследить нити заговора, то в те годы Смута приобрела такой стихийный размах, что просто не могла подчиняться ничьему руководству, и заговорщикам, которые, несомненно, были, ибо они есть всегда, оставалось только следовать за событиями, примеряться к ним, пытаться наилучшим образом использовать складывающиеся обстоятельства к выгоде своей партии и себя лично.
Чтобы вы не обвиняли меня вновь в подозрительности излишней или неприязни застарелой к роду Романовых, я свои догадки о причине Смуты обрисую шире: это молодые роды жадно и нетерпеливо рвались к власти, оттесняя в сторону старую, еще ханских времен, знать. Конечно, и раньше подобное случалось, признаемся, что и наш род, точнее говоря, наша ветвь отнюдь не мирно пустила корни и расцвела на великокняжеском престоле. Но дело это было, можно сказать, внутрисемейное и послужило в результате лишь еще большему объединению и укреплению державы нашей. Первая явная атака молодых родов была предпринята во время правления племянника моего Ивана и вылилась в опричнину, но тогда старая знать пусть и с огромным трудом, но отбилась, решив дело опять же внутрисемейными средствами и утвердив на престоле царя нашего корня, хотя и другой ветви. И вот теперь шла вторая волна, намного более мощная, и била она в скалу, изрядно подточенную предыдущим ударом.
Я бы и раньше во всем разобрался, но так случилось, что во главе обоих движений стояли цари из нашего рода, и Иван, и Димитрий, вероятно, по молодости их оказались в лагере молодых родов, я же видел только моих дорогих мальчиков, страстно желал им победы и не задумывался над тем, что принесет эта победа. Другие, наверно, были дальновиднее.
Все беды и тогдашний душевный раздрай Димитрия проистекали, как мне теперь кажется, из того, что он не сделал выбора, правильного выбора. Он пытался сидеть разом на двух креслах, а в таком положении никому еще не удавалось продержаться сколько-нибудь долго, да и неудобно, отчего копится смутное раздражение в душе. Новая русская знать, что окружала Димитрия в Тушине, лишь обманывала его изъявле-


ниями преданности – даже поляки были честнее в своих устремлениях! – и использовала как оружие в достижении своих целей злокозненных. Оружием Димитрий мог быть, но куклой в чужих руках – никогда, поэтому он был обречен на гибель.
В лагере старой знати дела обстояли не лучше. Бояре быстро осознали свою ошибку, когда они позволили Шуйскому утвердиться на престоле царском. Лживый, жадный, нелюбимый в народе и в войске – такой царь не мог выиграть битвы, что шла не на жизнь, а на смерть. Поэтому и бояре лишь обманывали Шуйского изъявлениями преданности, сами же осматривались в поисках лучшего царя. Многие из них вновь приняли бы Димитрия, если бы он твердо обещал им сохранение их власти и прежних обычаев. Я это точно знаю, попытки тайных переговоров с Димитрием предпринимались во все время его стояния в Тушине и некоторые из тех, кто переходил к нему на службу от Шуйского, делали это только ради того, чтобы, находясь вблизи, склонить Димитрия к возвращению в тот лагерь, к которому он принадлежал по крови и происхождению. А Шуйский?.. Он тоже был обречен на гибель.
Мне теперь кажется, что все тогда это понимали, кроме меня, Димитрия и самого Василия Шуйского. Понимали бы – совсем иначе бы действовали. И сложилось бы все по-иному.
Я Димитрия ни в чем не виню. Я ведь и сам только на исходе восьмого десятка во всем разобрался, не только в Смуте, а вообще в жизни нашей русской. Да и разобрался-то по-своему, сердцем, чувствами, а не умом. Как сейчас я вам расписываю, как по полочкам все раскладываю – так я никогда не думал. Задумывался часто, и мысли всякие в голове проносились, но кусками, очень быстро и в разных направлениях. Я и не пытался ухватить их и как-то в порядок выстроить. Точнее говоря, в молодые годы, лет до сорока, я эти попытки постоянно предпринимал, но как-то неладно выходило, если же все складывалось, на мой взгляд, хорошо и я начинал на основа-
нии этого действия какие-то предпринимать, то результаты были удручающими, то есть меня они удручали, а окружающих пугали, иногда и ужасали. В одну из таких минут княги-нюшка мне так и сказала с присущей ей прямотой и открытостью чувств, которые сложились за долгие годы нашего брака: «Ты, дорогой мой, лучше не думай. Если придет охота действовать, ты лучше меня подожди и спроси. А коли уж совсем невтерпеж станет, так монетку подбрось, все вернее выбор будет». Так я оставил свои попытки, к княгинюшке я не всегда за советом бежал и уж монетку, конечно, не побрасывал, а сразу к сердцу своему прислушивался, как оно мне подскажет, так и поступал, сердце меня никогда не подводило.
Только сейчас, да и то поневоле, стал я приводить в порядок свои воспоминания и мысли. А то, что гладко выходит (это мне так кажется), так это из-за бумаги. Мысли, что в голове мелькают, всегда ярче, глубже, остроумнее, но на бумаге – глаже. И еще то моим трудам споспешествует, что пишу я исключительно для себя и к вам, читателям мифическим, обращаюсь только по всегдашней пристрастности моей к разговорам и спорам. А также то, что никаких выводов из рассказа своего я делать не собираюсь, тем более действия какие-либо предпринимать. Что мне делать надлежит, я загодя решил.
Опять заболтался! Сейчас посмотрю, с какого места меня в сторону повело. Вот что я сердцем понял на старости лет.
С отрочества, повторяя за братом, привык я клясть своеволие боярское, их косность, медлительность и непонятное мне упорство в противодействии переменам, которые вели – я ни мгновения не сомневался! – к дальнейшему укреплению и процветанию державы нашей. И в земщине, следуя за племянником моим Иваном, я видел лишь бунт боярский против нашего рода. Я так и не смирился в душе с тем, что венец царский перешел к другой ветви, и всегда называл Симеона, Федора и Бориса царями боярскими в противоположность нам, царям исконным и истинным. А после пришествия Димитрия – как я возмущался двуличием бояр во время его правления и молчаливым предательством в день переворота! Василия же Шуйг


ского, еще одного царя боярского, я просто на дух не переносил, этого, впрочем, за дело.
Но вот старый мир, столь долго и часто проклинаемый мною, стал рушиться на глазах под напором новой силы, и я вдруг ощутил острую боль. Когда-то я скорбел о конце моей эпохи, теперь было впору плакать о конце моего мира. Только тогда я осознал, что ведь эта старина и есть мой истинный мир, я плоть от плоти его, что люблю я только его и никакого другого не желаю. Что бояре никакая не чуждая мне сила, они братья мои, они – моя семья. И дело не в том, что мы действительно были как бы одной большой семьей, почти все пошли от одного корня, а последующими браками сшились так, что уж и не разорвать, разве что саблей по живому. Не только по крови были они мне братьями, но и по духу. Мы смотрели на многое одними глазами, ценили одно и то же, одинаково думали о величии державы нашей, нам всегда было о чем поговорить, мы друг друга понимали. Если бы я меньше упирался в споры государственные да в вопросы династические, я бы давно осознал эту простую вещь. Бояре и в этом меня обошли, они-то всегда меня за своего считали, относились ко мне по-должному, привечали и – уважали. А если и посмеивались иногда, так ведь без злобы, по-родственному. С ними, с князьями суздальскими, ярославскими, стародубскими, с Курбскими, Колычевыми, Одоевскими, Оболенскими, Мстиславскими, Воротынскими было мне всегда легко и свободно, после их пиров никогда не оставалось у меня ни похмелья, ни мутного осадка в душе.
А с теми, другими, Романовыми, Салтыковыми, Трубецкими, Шаховскими, Шереметьевыми, Волконскими, несть им числа, мне, наоборот, было тяжело и муторно, чего-то я в них не понимал, и речи их казались мне странными, и сам я не знал, что сказать, о чем разговор повести. Оттого вспоминаются, как сон кошмарный, годы, проведенные в Александровой слободе, оттого и сбежал я оттуда, несмотря на всю любовь мою к Ивану. Вот и в Тушино не ездил, не мог превозмочь себя, будто боялся задохнуться в том воздухе, насыщенном алчностью и предательством.
Как-то раз, ночью, сразу после светлого праздника Рождества Христова, меня как будто что-то кольнуло в сердце, я проснулся, сел на лавке и больше уж не ложился. С утра же приказал холопам быть наготове и сам оделся для выезда. Гонец не заставил себя долго ждать, видно, затемно снарядили. Предупрежден! 1ый дворецкий проводил его сразу ко мне.