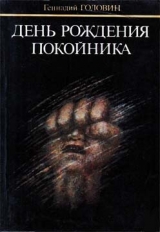
Текст книги "День рождения покойника"
Автор книги: Геннадий Головин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
– Добрый день! – вежливо и культурно сказал щеночек, когда Пепеляев поравнялся с ними. – А мы вас ждем.
– Жди дальше. Это не я.
– Нет-нет. Я – серьезно… – тот пристроился к Пепеляеву и пошел рядом. – Понимаете, какое дело… Я из молодежной газеты «Чертовецкое племя», мы готовим очерк об экипаже «Теодор Лифшиц». Мне сказали, что никто, кроме вас, лучше не расскажет.
– Документ! – строго сказал Пепеляев и вдруг остановился.
Тот торопливо добыл корочки и показал. Все было в порядке: и печать, и «действительно до…»
Столь же вахтерски Пепеляев протянул руку и к серенькому:
– Ваш документ!
Тот развел руками. Дескать, якобы забыл.
– Это – просто так, мой знакомый… – поторопился объяснить щеночек в береточке.
– Ничем не могу, – сухо сказал Пепеляев. – Документов нет, а он говорит: «Здрасьте!» Я должен верить? А может, он чем-нибудь воспользоваться хочет?
– Чем воспользоваться? – не поняла береточка.
– Не знаю чем, а хочет! Есть, дорогой товарищ, единые правила, нарушать которые никому не дозволено.
Серенький улыбался, как глухонемой. Дружелюбно, ясно, ничего будто бы не понимая. От него к тому же пахло тройным одеколоном – не изнутри, а снаружи, – что окончательно уж не понравилось Василию.
– Пусть он отвалит отседова, – сказал он, – а мы с вами побеседуем на интересующие нас темы.
Все так же продолжая улыбаться, серенький послушно отстал.
Мальчонка оказался шустрый. С ходу вывалил на Василия десятка полтора вопросов и даже карандашик навострил. Пепеляев не замедлил.
– В бытность мою матросом на прославленном «Красном партизане Теодор Лифшиц», – начал он плавно, – любил я в редкую минуту отдыха посещать планетарии… – (Щеночек торопливо шпарил в книжечку прямо на ходу.) – И вот именно там, в одной из лекций, довелось мне услышать, что даром только отдельные птички отряда воробьиных поют, понял?
Мальчонка дописал и поднял на Василия умненькие глаза:
– Понял. Гонорар меня не волнует, меня волнует публикация, поскольку я на практике.
– Поскольку я не на практике, а в теории, то меня, наоборот, волнует этот самый… который гонорар. Делаем так! (Тебя как звать-то? забыл…) Так вот, Мишка, гони бумагу, карандаш давай, и я сам тебе все в лучшем виде опишу. Может, даже в стихах. Ты там мягкие знаки, где надо, расставишь. Слава – тебе, деньги – мене. Но если государственную премию дадут, премию тоже мене! Согласный?
– Согласный. Только в стихах не надо, ладно?
Василий ухмыльнулся:
– Сомневается… Думает, что я стихами не могу. Вот послушай, чудак, что недавно вышло из-под моего автоматического пера…
Он остановился, принял позу и – вдруг пионерским звонким голосом продекламировал:
«Закончили сенокос!» —
Приветливо объяснил
Иисус Христос…
– Ну как?
– Очень! – искренно сказал пишущий мальчик.
– Тогда заметано! Через два дня. На этом самом месте. В три часа по Цельсию. Будешь плакать и рыдать – та-акое я тебе напишу!
С вечера, падая в кроватку, Василий порешил железнее железного: завтра, хоть под автоматом, хоть по велению души, но он в порт – ни ногой! Хватит! От этих экскурсий по местам трудовой славы одна только изжога нервов.
Однако и на следующее утро, часам к девяти, Пепеляев опять вдруг обнаружил себя бодро пылящим по той же дороге.
Хотел было повернуть вспять, но не тут-то было. Какая-то ласковая сила отечески взяла за шиворот и повлекла дальше. Он дернулся пару раз, но вынужден был насилию опять подчиниться.
И если бы хоть какое-то подобие дела было у него в порту! Никакого! Все там было ясно, как в психофазотроне: не желал его до слез родной коллектив!
…Как и в самый первый день, навстречу Пепеляеву выскочил, повизгивая протезом, Матфей-охранитель. За кобуру на сей раз не хватался, другим перепугал: встал в хромой фрунт, руку к воображаемому козырьку поднес, просипел почтительнейшим шепотом:
– Вас Спиридон Савельич к себе звали-с. В одиннадцать часиков ждут.
– Я сегодня не принимаю, – вельможно отмахнулся Василий. – Если что-то срочное, пусть обращается в письменной форме. Не то осерчаю.
Не иначе как музейный лилипут нажаловался, подумал Василий, и к Метастазису, конечно, решил не ходить. Однако около полудня его, загорающего в тенечке, разыскала Люська.
– Эй, – кликнула, – Васька! Или как тебя там… Иди. Спиридон Савельич зовет.
– Нужен он мне… – пренебрег Василий и перевернулся на другой бок. – У меня ответственное сновидение.
– Иди-иди, не бойся. Не обидят, совсем даже наоборот.
Василий сел.
– Покажь бородавку, тогда пойду.
– Вечером приходи, – торопила Люська, – часиков в десять. У меня маманя как раз в деревню уезжает гостить. Ну идем же, черт лысый!
– Не обманешь? Насчет вечера-то?
– Не обману, не обману. Пойдем скорей! Где живу-то, помнишь?
– Помню. А что за народ собрался? По какому случаю?
– Увидишь-узнаешь…
На улице было солнышко, а эти сидели, как разбойная шайка в пещере. Окна зашторены, на столе – лампа горит. И Метастазис тут был, и Цифирь Наумовна, и наглядный гном-лилипут, и еще то ли двое, то ли трое, не совсем известных Василию. Судя по носам, Спиридонова родня.
– Тэк-с! – со всегдашней своей улыбочкой сказал Спиридон и оживился. – Вот и наш герой. Прошу любить и жаловать. Ишь, какой… – с нескрываемым любованием оглядел его Метастазис. – Прямо Васька Пепеляев, вылитый!
– Чего звали? – грубо сказал Василий.
– Ишь ты, ишь ты… – ласково усмехнулся Метастазис. – Характерец!
– А то ведь я и уйти могу! – продолжал свою линию Василий. – У меня дел вагон! – Он только сейчас понял, как с ними надо.
– Это каких же таких дел? – засмеялась Цифирь. – В музее безобразничать? Или зверски избивать людей, ни в чем не повинных?
– Да, – грустно подтвердил Спиридон. – Цифирь Наумовна права. Докладывают мне, понимаешь, что шатаешься, понимаешь, по территории порта, что безусловно запрещено посторонним… Какие-то пьяные драки устраиваешь; намеки какие-то… Ты, брат, это прекрати. Мы с тобой ведь – по-хорошему пока. Парень ты молодой, зачем, скажи, биографию тебе портить каким-нибудь ЛТП или, того хуже, ИТК?
– Все? – нахально спросил Вася. – Тогда я пошел. На работе восстанавливать не хочете? Не хочете! Вам же хуже!
– Насчет работы – постой! – ты помнишь, мы обсуждали этот вопрос. Без документов, брат, при всем моем распрекрасном отношении, на работу мы взять тебя не можем. Как вы думаете, Анастасий Савельич?
– Непременно, – грустно согласился Спирькин брат.
– А я не согласен! – сказал другой брат. – Чего с ним возиться? Он народ колготит! Мои уже вторую неделю не работают – о загробной жизни рассуждают. Предлагаю: материалы на него – в общественную комиссию исполкома, и пусть они его – в ЛТП, а лучше бы – в ИТК, годика на два!
– Ну, вы это, кхм, очень уж чересчур, Одиссей Савельич. Парень-то молодой…
– Экспонат украл, огнетушитель уронил! – плаксивым голосом сказал гном-лилипут.
Все у них было расписано как по нотам: один добрый, а все остальные – нехорошие, черствые люди.
– Я думаю, – сказал строго и даже недовольно Спиридон Савельич, – что торопиться не будем. Наказать не долго, а вот помочь человеку…
– Вникнуть, – подсказал Вася.
– …Вникнуть… – повторил Метастазис, не расслышав, откуда идет подсказка, – в его, прямо скажем, бедственное положение, эт-то…
Метастазис в тую минуту представлял собой прямо-таки саму озабоченность судьбой ближнего, попавшего в беду, приятно было посмотреть.
Наконец решение созрело. Деловито, голосом совещательным, но исключающим возражения, он произнес:
– Как вы полагаете, Цифирь Наумовна, сможем мы временно изыскать рублей сорок в месяц, учитывая, что у товарища такие, кхм, обстоятельства?
– Пятьдесят, – быстро сказал Вася. – Как инвалиду второй группы.
Цифирь Наумовна кисло поморщилась – такая у ней была амплуа:
– О пятидесяти и речи быть не может. Хотя какую-то сумму, исключительно временно, изыскать мы, конечно, Спиридон Савельич, сможем, но…
– Сорок пять, – сказал Вася.
– Сорок пять, а? – просящим голосом повторил Метастазис. – Жалко ведь парня-то, Цифирь Наумовна!
– О-ох, Спиридон Савельич… – кокетливо поддалась бухгалтер. – Сорок пять, пропадай моя душа!
– Ну вот и ладушки! – втрое больше Пепеляева обрадовался начальник. И обратился к Василию:
– Ну, вот, видишь? Иди сейчас с нашим бухгалтером и получай свою, хе-хе, стипендию. Потом, когда все утрясется, как-нибудь задокументируем это дело.
– Премного вам благодарны! – с напугавшим всех воплем переломился вдруг в поклоне Василий. – Прям слов нету, как благодарны мы вашей милости! – тут он размазал по щекам предполагаемые слезы. – Внукам рассказывать буду.
– Да! – уже у дверей остановил его Метастазис. – Ты, конечно, можешь ходить сюда, никто не запрещает, но все же… Ты, брат, все же пореже. Лучше бы и вовсе дорогу забыл. Не то мы можем и поссориться. Раз в месяц – к Цифирь Наумовне за стипендией, и больше не надо, Вася, не советую, понял? – тут у Спиридона Савельича присущий ему железный с заусеницами тембр прорезался. Кончилось кино.
Расписавшись у Цифири на пустом бланке: «Мерси! Шапиро» и трижды пересчитав деньги, Василий вышел на улицу.
Он все еще никак не мог понять, нравится ему все это или не нравится. То, что в кармане шуршит, безусловно, нравилось. А вот то, что вокруг пальца обвели, к явно нехорошему делу подшили – это вызывало сложные чувства. Которые он, впрочем, путем алгебраических упрощений быстренько свел к одной-единственной мысли, но мудрой: «А и хрен со всем этим! Потом разберемся…»
Тут повеяло откуда-то тройным одеколоном.
Пепеляев огляделся и обнаружил неподалеку от себя серенького, который стоял, индифферентно облокотившись об заборчик, и обдавал Василия взглядом, сияющим от нежданной радости.
– Чего надо? – грубо спросил Василий.
– Да вот… Нечаянно, можно сказать, встретились, – хихикнул серенький. – А я сегодня и документик принес! Ей богу! Можете проверить! – и протянул Пепеляеву картонные какие-то корки.
Фамилия у него оказалась точная – Серомышкин, и был он, оказывается, членом областного общества «Рыболов-спортсмен».
– Почему за сентябрь не уплочено? – строго спросил Василий.
– У них марок не было, честное слово! А вы чего в бухгалтерии подписывали?
– Ишь ты… – усмехнулся Пепеляев. – Мышкин-Шаромыжкин. Интересушься?
Тот покорно пожал плечами.
– Бумагу я, брат, подписал. Совсекретную. Дескать, обязуюсь. В противном случае. Поверь, Мышкин, – вдруг заорал Пепеляев, – под пытками заставили! Сюда – электрод, сюда – плоскогубцы, внутрь – химию (безо всякой ведь закуски!). Завербовали!! Должен я им теперь расписание автобусов сообщить «Чертовец – Бугаевск». Не иначе как диверсию хочут организовать с человечьими жертвами. Кличку присвоили (какую, сказать не могу, секрет…). Ну и оклад жалованья, как полагается. Сорок пять карбованцев в греческих долларах. Теперь понял, физкультурник-рыболов?
– Понял, – сказал Серомышкин, который правильно ничего не понял, кроме слов «сорок пять».
– Ну, если понял, тогда чеши отседова! Клев начался. А мне в филармонию уже пора, заждались.
Насчет филармонии Пепеляев не соврал. Еще до посещения Бугаевска несказанно вдруг повезло Василию в жизни: выиграл он в «сику» немалую по чертовецким понятиям драгоценность – замурзанный листок из прошлогоднего календаря с волшебными клинописными каракулями на нем: «Алферов, пропусти» – контрамарку, проще сказать, на право посещения одного, не больше, филармонического концерта.
…Не было в Чертовце учреждения более любимого народом, чем филармония. Она была не только любима народом, не только артистами, успешно или безуспешно выступавшими на ее сцене, но и, в особенности, начальством самого разнообразного калибра, которое на совещаниях самого различного профиля на самых разновысоких инстанциях любило козырять чертовецкой филармонией как примером истинно рентабельного подхода чертовчан к ведению хозяйства, как образцом творческого поиска внешних и внутренних резервов производства, как торжеством морально-материального стимула, как тонкого рычага-инструмента в деле успешного претворения в жизнь цифр плановых и сверхплановых заданий.
Вот уже третий год филармония захолустного Чертовца, которой по традиции полагалось с хрипом дышать на ладан и, на коленях елозя, вымаливать дотации, с изумляющим треском перевыполняла все, даже самые бредовые планы сборов, которые спускало на нее республиканское начальство.
Аншлаг в вестибюле над окошечком кассы был уже до неприличия желт и изрядно засижен мухами, но, по специальному распоряжению директора, его не меняли. Это была уже своего рода реликвия, иначе выражаясь, регалия, характерная, можно сказать, черта облика этого очень культурного учреждения. Не случайно на первомайских демонстрациях колонна филармонических работников всегда теперь шла, неся не только свой обязательно любимый транспарант «Искусство принадлежит народу!», не только эмблему – березу в виде балалайки, но и этот знаменитый, всем чертовчанам знакомый текст «Все билеты проданы!», что неизменно вызывало на трибунах добрые улыбки и ласковый смех.
А обязана была своим расцветом-ренессансом чертовецкая филармония неказистому, скромненькому человеку по фамилии Тщетнов, своему администратору.
Он появился в Чертовце за три года до описываемых событий, в тот черный период в жизни города, когда было объявлено, что чертовецкий пивзавод ввиду своей маломощности и нерентабельности ставится на реконструкцию. И хотя средства массовой информации определенно заявляли, что через год-другой чертовецкий «Красный солод» станет одним из гигантов пивной индустрии страны, будет оснащен новейшим оборудованием на уровне мировейших стандартов, и выпускаемой им продукцией можно будет вскоре заливать, по меньшей мере раз в год, всю Прикаспийскую низменность, – несмотря на это, уныние и пессимизм овладели чертовчанами. Поползли слухи, что из-за нехватки запчастей к бульдозеру срок ввода в эксплуатацию пивного гиганта перенесен ориентировочно на конец столетия; как нетрудно понять, это было равносильно сообщению о том, что «Красный солод» по причине ремонта закрывается навсегда.
И вот в этот самый момент в филармоническом буфете, который испокон веков, если и торговал, то исключительно лишь теплыми ополосками с консервных банок «Кофе сгущенный с молоком» и бутербродами «Три сестры» (кильками, проще сказать, на ломтике черного хлеба), – так вот, в зачуханном том буфете, не поверите, появилось пиво!
Через два часа весть эта облетела весь Чертовец. Через три часа был продан весь запас билетов на ближайшую неделю. На счастливчиков, успевших рвануть абонемент на циклы лекций о Глюке или на фортепианные вечера для юношества, смотрели уважительно-враждебно, как на людей, незаслуженно выигравших в лотерею.
Какими путями и откуда умудрялся этот скромный, почти что бескорыстный хозяйственник завозить в Чертовец пиво (ближайший пивной ларек был от него на расстоянии полета ракеты «Минитмен»), это так и осталось тайной, которую в прошлом году Тщетнов благополучно унес с собой в глинозем велико-бабашкинского погоста. Но факт, как говорится, был фактом: пиво в буфете наличествовало! Больше того, оно не кончалось, и отныне каждый чертовчанин, сумевший приобрести билет в филармонию, мог планировать свою личную жизнь с учетом этого отрадного, греющего душу явления.
Разумеется, обнаружились вскорости и ретрограды. В основном, общепитовского толка. С пеной у рта попытались они повернуть пивное русло в направлении своих тихо прогорающих торговых точек. Выдавая себя за якобы ревнителей искусства, они демагогически оперировали, сталкивая на самых различных совещаниях такие, к примеру, на первый взгляд действительно малосовместимые понятия, как «очаг культуры» и «распивочное заведение», «шедевры музыкальной классики» и «зеленый змий».
Но очень скоро и они вынуждены были умолкнуть, убедившись, что – во-первых, вход в филармонию строжайшим образом разрешен только в галстуках, что, согласитесь, уже само по себе не могло резко не повлиять на культурный уровень чертовчан; что, во-вторых, неукоснительно соблюдается правило, на котором особенно настаивал Тщетнов и которое во множестве было развешано на стенах в фойе филармонии: «Вход в зал с пивными кружками и закуской воспрещен!» – и что, в-третьих, больше двадцати кружек одному лицу категорически не отпускается.
В-четвертых, и, может быть, в самых главных: комиссия, организованная по настоянию общепитовцев, не могла не засвидетельствовать и того, что – цитируем: «…в помещение буфета музыка доносится отчетливо и, напротив, в зале не ощущается никакого шума, производимого буфетом. Многие из посетителей буфета сознательно заходят в зрительный зал. Из десяти опрошенных комиссией лишь двое находились там в поисках туалета, остальные, как объяснили, пришли добровольно, посидеть на мяконьком (двое), поглядеть на артисток (шестеро)». Иначе говоря, довольно отчетливо обрисовывалась и немалая культуртрегерская миссия тщетновского заведения.
Вот почему жадный до всякой культуры Вася Пепеляев был так неподдельно счастлив, выиграв в картишки эту бумажку с тщетновским повелением какому-то всемогущему Алферову пропустить еще одного поклонника прекрасного.
«Василий Пепеляев сидел, по обыкновению, в ложе бенуара и изо всех сил предавался…» – так с удовольствием подумал о себе Василий Пепеляев, усевшись в ложе бенуара после того, как он выпил десять кружек пива, ознакомился со славным творческим путем чертовецкой филармонии, отраженной в диаграммах и фотографиях артистов, посидел на колченогих парчовых диванчиках в фойе, пострелял из духового ружья в тире, скушал зачем-то какую-то вафлю с кремом, которые продавал (должно быть, в обязательном порядке) какой-то мужик в зеленом форменном кафтане, заглянул в кабинет директора, туалет и за кулисы и купил с рук у въедливо-вежливой старушонки тощую программку за 25 копеек.
Поскольку как следует Василий не знал, чему следует предаваться в филармониях, он изо всех сил предался сладкой дремоте, полной благодарных прислушиваний к собственному чреву, в котором обреталось, как сказано, пять литров довольно божественного напитка.
Ему нравилось в филармонии.
Здесь было прохладновато, сумеречно и никто не мешал.
Те человек двадцать, которые пришли сюда, видать, не только за пивом, сидели, тесно и тихо сгрудившись возле самой сцены, шуршали, как мышки, бумажками, а если и вдаряли в ладоши, то очень прилично, – не как в каком-нибудь кабаке, а как, вот уж правильно, в филармонии.
Слова «браво» и «изумительно» они кричали шепотом, а чувства, одолевавшие их, больше выражали улыбками, печально-восхищенными, обращенными друг к дружке, и безмолвными воздеваниями рук где-то на уровне грудей. Судя по всему, это была какая-то тихая, безобидная для общества секта – вроде любителей канареечного пения.
Музыканты тоже вели себя прилично. Не шумели и не кричали на весь зал – чутко учитывали, что в зале не только их слушают, но и отдыхают после тяжкой пивной повинности.
Вообще – хорошо было.
Больше всего в новой своей жизни беспокоило Василия не то, что его не признают за живого человека или, там, наоборот, признают, но не за Пепеляева. Больше всего его огорчало, что чересчур уж какая-то мятежная жизнь для него началась. Некогда, невозможно и негде стало что-нибудь хорошее подумать, как прежде, важное. Разбрестись привольно мыслию по тупичкам и коридорчикам, по проулочкам и закоулочкам мирового здания, восхититься, даже напужаться огромностью всего сущего, смешной непостижимостью его! Пылинкой, соображающей букашкой почувствовать себя и, жалея, поуважать…
Хорошая мысль, известно, в пустую голову приходит. А уж какая хорошая могла посетить Василия, если башка его изо дня в день все бестолковее зарастала изнутри, как бурьяном, досадными какими-то мыслишками о людской глупости, копеечности, трусоватости, о несправедливости, устроенной людьми среди людей!
Очень ему обидно, и чем дальше, тем обиднее, было за человеков! Он, конечно, не позавчера родился – знал прекрасно, что трудновато им в этой жизни в ангелах удерживаться, быстро стервенеют, с каким-то аж сладостным треском вырывают присущие им крылышки, а, достигнув возраста, как по гнусавой какой-то команде, к звероподобию устремляются – то есть, алгебраически выражаясь, всесторонне и всемерно упрощают себя, иной раз вплоть до нуля.
Знал все это Василий Степанович и раньше, но как-то издали, что ли. В прошедшей жизни ему не до этого было, и не касалось это его никак. Он рос, внимательный сам к себе, мужал с бабами, отдыхал в раздумьях о мировой катаклизьме и на работе, страдал – исключительно лишь с похмелья, премного был всем и всеми доволен, поскольку всё и все никак его не касались и духовному его произрастанию ничем не вредили. Но тут случился, как назло, этот никому не нужный пожар, и все переменилось.
Вася, будто и взаправду в огне побывавший, чувствителен стал к жизни – как облупленный. Как будто взамен сгоревшей, заскорузлой, наросла на нем кожица нежненькая, до того тонюсенькая и раздражительная, что каждое идиотское слово, каждый перепуганный взгляд в его сторону, каждый даже глупый помысел о нем – отпечатывались теперь в душе Пепеляева, как розга на трепетной ягодице.
И еще потому чересчур уж прокурорски стал относиться Пепеляев к людским отдельным недостаткам, что носители этих темных родимых пятен фактически Васю-то самого за Васю высокомерно не принимали. Отказывали ему в этом высоком заслуженном праве! И недвусмысленно получалось: живой Вася, вот этот, сидящий в ложе бенуара, со всеми его потрохами, достоинствами и превосходными недостатками, был людям, оказывается, как до задницы дверца! Плевать им было и на него, и на его существование! И сегодня плевать, и вчера! Им зачем-то другой, видите ли, оказался нужен – чтоб похоронен был непременно под казенный оркестр, на народные деньги, чтоб бодро штурвалил на фоне пальм, чтобы обожал в минуту отдыха валенки надеть чертовецкой пимокатной фабрики, поставив предварительно на патефон пластинку «Сегодня мы не на параде»… (С этаким-то Васей, признаться, Пепеляев поостерегся бы не только в разведку идти, но и в пункт приема стеклопосуды.)
Однако, несмотря на все пепеляевское жалостное презрение, тот, похороненный, вовсю торжествовал сегодня, жил в почете и уважении, а Вася – самый что ни на есть неподдельный Вася, с уже прилепившейся к нему кличкой Покойник, вынужден был мыкаться среди людей, как пьяненькая сиротинушка, неизвестного и даже подозрительного происхождения, – черт-те кто, а не человек, – не имеющий права не только жить Василием Степановичем Пепеляевым, но и, если бы приспела нужда, умереть не мог бы под этими дорогими сердцу ФИО, поскольку и на кладбище, и в жизни место его капитально занял какой-то неведомый нахал-самозванец, воплощение, прости господи!
В ложе бенуара повеяло тройным одеколоном. Не оборачиваясь, Пепеляев прошипел:
– Уйди, Серомышкин, убью! – и, кто знает, мог бы убить, не исчезни тот сразу же, потому что очень уж великолепно-обидная мысль зашипела, забрызгала, как бенгальский огонь искрами, в его голове.
Он вдруг подумал: «А люди-то, может, и правы, ежели им высочайшим образом наплевать, жив ли я, помер ли?»
Кто он им? Никто. Пустое пространство, занятое телом. До четвертого десятка, считай, дожил, а если посмотреть, как дожил, то и сказать нечего. Придурялся всю жизнь да бормотуху глушил. Ни зла никому не натворил, ни добра особого.
Случись взаправду умереть, чем люди вспомянули бы?.. Тот – хоть сгорел, хоть ужасными обстоятельствами своей погибели, а поразил до самого нутра людское воображение. Большую радость людям доставил тем, что он вот сгоревший дотла, а они – ни в коем разе, даже не закоптившись…
Они, люди то есть, каждый по отдельности ничем Пепеляева не лучше, если хуже не сказать, но когда они сплюсованы в кучу, тут же какой-то другой дерьмантин начинается, удивился Василий. Тут они – мир, общественность, по-научному выражаясь, перед которыми почему-то, будь любезен, держи ответы на вопросы. А ответов-то и нет…
Очень пригож взгляду Пепеляева был вот этот Пепеляев, культурно возлежащий в филармонии в очень укладистых креслах бенуарной ложи и вновь, как в былые времена, размышляющий о высоком!
В этом свободном парении духа он был настолько пронзителен мыслию, что, как мы видели, даже покусился на самокритику себя за плоховатое якобы исполнение им своего человечьего предначертания.
Больше того, он в одном из моментов до того допарился, что вдруг завосклицал, как девушка, с непомерно-восторженной принципиальностью: «И правильно! И правильно, что паспорт выдавать решили погодить! Это еще заслужить надо. Шутка ли? Паспорт на имя Василия Степановича Пепеляева! Исключительно мудро поступили товарищи паспортисты! Ура им!!» – напрочь забыв, увлекающаяся натура, как еще позавчера чуть не до самого ли дна вычерпал всю свою сокровищницу матерных слов и неизящных выражений, расписывая паспортистов, отказавших ему в виде на существование.
Первой на допрос вызвали тогда маманю его.
Она, бедная, от непривычки к казенным учреждениям и так уж вся трепетала, как свечечка на сквозняке, а когда увидела мундирного начальника (который хоть и был похож на своего симпатичного двоюродника Спиридона Савельича, но жирен безобразно), то и вовсе сомлела. Ножки ее в пустых складках старушечьих чулок заметно заподгибались, она что-то, предсмертное видно, пришептывать стала. И, если бы табуретку не подставили, тут же и померла бы, как пить дать! Тут не то что любой протокол – царский манифест об отмене крепостного права подпишешь…
На все вопросы, сын ли ейный сидит напротив, она взглядывала на начальство жалобно, снизу вверх, с боязнью не иначе как побоев, и ответствовала внятно, но одно и то же:
– Так уж как вам благовиднее, мил человек. Он-то, что ж… пришел, живет, пусть. Вы уж не трогайте его, а? – и все разглаживала негнущимися своими пальцами какую-то складочку на коленях.
Потом соседей вызывали. Здесь-то уж вредительством разило, как в колбасном цехе: самых идиотных подобрали.
Входили одинаковые, как лапти. Шапки в руках теребили. Прямо как в кино про времена царского прижима.
Взгляд у всех был одинаковый – косвенный, будто курей воровали. И бормотали они одно и то же, невнятно и уклончиво: «Да, вроде Васька. А там кто его знает?… Да нет, Васька это, как вылитый. То есть сказать, очень вообще-то похожий. Тот, правда, будто бы повыше был…»
Пока их в протокол записывали, они переминались рядом с пепеляевским стулом, впрямую глядеть на него словно бы даже опасаясь.
Василий назло не давал им покоя.
– Чего ж ты, Игнат? Иль взаправду не признаешь?
Тот мучительно потел, зря в сторону. Потом все ж таки не выдержал:
– А-а, иди ты! Может, ты – шпион какой заброшенный…
Другой на ехидный вопрос Пепеляева: «Да ты что, сдурел? Не видишь, что это я?» – ответил и вовсе неведомо:
– Да вижу! Только толку-то.
Особенно вывел Пепеляева из себя один, самый среди них дурной дурак, даром что школьный учитель в младших классах.
– …Но, вообще-то говоря, и двойники бывают! – начал он вещать и даже заходил, как перед первоклашками. – Такие случаи в истории имеются. Взять, к примеру, Гитлера…
Тут Пепеляев окончательно не выдержал.
– Ко-ого? Я тебе «возьму»! Я тебя щас за одну ногу возьму, а на другую наступлю, да и дерну! Чистописатель, трах-тарарах-тах!
После оскорбительного-то слова «чистописатель» Василия и вывели на крылечко. Велели, ежели он такой нервный, здесь дожидаться. Здесь, в течение получаса поливая окрестности высокохудожественным матом, он и дождался высокомудрого решения, которым сейчас восхищался: паспорт выдавать решено погодить, до выяснения.
В зале деликатно захлопали ладошками, и Вася отвлекся. Кто-то раскланивался, ручку к животу прикладывая. Как официант. Разве что «Премного благодарен» не говорил. А за кулисой, за занавесочкой, уже стоял с разнесчастным лицом наготове Ленька Христарадис в обнимку со своей бандурой. Во житуха, пожалел кореша Пепеляев, хочешь не хочешь, нравится не нравится, а, будь любезен, выходи пилить. Может, мне к его балалайке колесики приделать? Чтоб ему удобнее таскать ее было?
Наконец и дружка объявили. Громыхая виолончелью, Христарадис вышел. «Ох, не хочется бедолаге вкалывать!» – с пониманием подумал Пепеляев и, чтоб поддержать, заорал:
– Ленька! Бис! – чуть не вывалился из своего бенуара.
– Шарль Заразян. Прелюдия си-бемоль-мажор, – строгим жестяным голосом объявила какая-то бабка, должно, начальница. Потом помолчала и с отвращением добавила: – Произведение посвящается краснопартизанцу Василию Степановичу Пепеляеву.
Все хорошо, но зря она сказала «посвящается». Они сразу догадались, кто их посетил. Одна девица подкралась среди рядов и, как покойнику, положила букет. Пришлось понюхать, встать, поклониться.
Тем временем Христарадис наладил свою музыку и вдарил по струнам!
Василий с ходу догадался, что лучше на него не глядеть. Чересчур уж сердечное сострадание возникало при виде того, как уродуется на работе человек, как выматывает из него все до единой жилы это пресловутое искусство, как мучается он, кряхтит и щерится в непосильном борении со струнами.
Зато в самомучительстве этом музыку он добывал качественную! Закрывай глаза и, будьте любезны, добро пожаловать в красавец райцентр Бугаевск! Слева – помойка, справа – магазин. Прямо по курсу – «Свежий воздух» для чахоточных, сзади – опять же, снова магазин… Ступай, куда хочешь, Василий Степанович, хоть направо, хоть налево! Обмакни многомозольные стопы свои в пуховую пыль бугаевских улиц! Вновь стань тем безмятежно-ленивым Васей, полусонным счастливым красавцем, который и ведать не ведает, что буйно отполыхал уже «Красный партизан Теодор Лифшиц», и кропотливые люди уже копают для него могилку, норовя схоронить от людей навеки!
Вот что слышал Василий Пепеляев в вопиющих звуках виолончели на этот раз.
Но больше всего там было про Алину. И чего там, господи боже, только не было про Алину! Василий даже начал не на шутку серчать: чересчур уж нежные подробности знал про нее этот Ш. Заразян-зараза и Христарадис, тоже друг называется…
А когда на мохнатых басах представили они ему Алину спросонья, еще не напустившую на себя вид – мягкую, квелую, сдобную, с руками, лениво норовящими снова обнять, – окончательно не выдержал Пепеляев! До того ему – хоть ногами топай! – захотелось в Бугаевск, к Алине, что он тут же твердо решил: сейчас – в буфет, еще пивка, сколько залезет, выпить, а к вечеру – к Люське! Обещал ведь девушке, а девушек обманывать – нехороший грех.
И Василий Степанович, не дождавшись даже обещанного старухой си-бемоль-мажора, покинул ложу бенуара.







