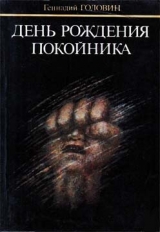
Текст книги "День рождения покойника"
Автор книги: Геннадий Головин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Наконец она закончила с волосами, встала и – испытав легкое рыжее помрачение в глазах оттого, что встала слишком уж быстро, и оттого, что слишком уж яро ударило ей в зрачки солнце, белесой громадой обрушенное на все вокруг, – принялась неторопливо, словно бы в рассеянности, расстегивать пуговицы на груди, при каждом расстегивании преодолевая мгновенный, мгновенно же смиряющийся протест оттого, что это, конечно же, стыдно, что она снимает платье на виду у всех… Но, все более ощущая в себе простецкого, почти бесшабашного веселья, она все-таки сняла халатик, – вернее, позволила ему упасть на землю пестренькой, ничего, в сущности, не значащей тряпкой – и выпрямилась, глубоко, но и слегка настороженно вздохнув.
Ее охватило прохладой, солнцем, мужскими взглядами.
Она привычно встряхнула узлом волос, откинула голову и пошла к воде той особенной походочкой, которую она называла про себя «королевская цапля», но уже через несколько шагов напрочь забыла об этой чепухе – потому что так уж проникновенно, со смешной пытливостью, почти нестерпимо жег ее изнеженные ступни песок пляжа, —
потому что так уж отдохновенно, всласть, вздыхалось всему ее телу, почти совсем обнаженному, —
потому что с каждым шагом все ближе и выше вставало перед ней хмуроватое, сине-серое от высоко стоящего солнца море, которое очень по-домашнему толклось возле пляжа, коротенько гоняя по песку всякий пустяковый, совсем не противный взгляду мелочный мусор.
Она легонько перешагнула через кайму накипи и ступила в море, восхищенно подивившись тому, какая почти горячая здесь, на отмели, вода, и пошла вглубь, настороженно ощупывая ступнями неприятно заиленное дно.
Через несколько шагов, не желая ждать, когда поднявшаяся до верха бедер вода обожжет ее неприятным от неожиданности ознобом, она решилась и быстро, по-бабьи, присела и окунулась до плеч, быстренько поднялась и, уже приобщенная морю, побрела дальше в его глубину, сомнамбулически улыбаясь в ожидании того единственного, восхитительно-обморочного мига, из-за которого, собственно, ее и тянуло всегда к морю, – мига, когда море на вздохе возьмет ее, наконец, всю в себя, подымет и, лишенную веса, будет держать в себе, осторожно и нежно покачивая… И в мгновение это душа ее грешная забудет вдруг свое тело и взмоет! – с восторгом освобождения, с ликующим облегчением взмоет – ввысь! и словно бы вширь!
* * *
Анна Петровна никогда не могла заметить, когда видения эти переходили в сон. Да и не снами ли они были – снами о молодости, снами о жизни, которая безвозвратно и равнодушно протекла сквозь нее, как песок протекает сквозь песочные часы?
А может быть, напротив, сном было то, что начиналось, когда поутру она открывала глаза, – это ее терпеливое прозябание возле скучного окошка? А жизнь-то, настоящая ее жизнь, только там и оставалась еще, в тех ночных воспоминаниях о себе?
* * *
У нее уже давно ничего не болело. Просто жизнь – словно бы уже выдыхалась из нее.
Она догадывалась, что это, видимо, последние ее дни, потому что все больше и больше усилий требовалось ей, чтобы жить.
Странно, но не было страха. Лишь все больше горючей нежности было в том, как она глядела на горестную людскую череду под окном во дворе. И впервые за многие годы ей хотелось поплакать: о них, о себе, о них.
Однажды она забылась, положив голову на подоконник, – так сладко, так благодарно, устало забылась! – и впервые без всякого протеста думала сквозь забытье о том, что она ведь уже уходит – потихоньку, но уже уходит, – и как славно, что это происходит вот так, без мучений, словно это всего лишь дрема на пригретом солнцем подоконнике.
С того дня она часто позволяла себе подремать среди дня возле окошка, когда слабость особенно уж одолевала ее.
Минуты забытья становились раз от разу все дольше и мрачнее. Она это чувствовала. Слышала, как безвольно распускаются лицевые мышцы, едва она закрывает глаза, лицо становится незнакомым, чуждым, челюсть слабеет, и, словно бы со стороны, она с неприязнью видела тот пугающий, скорее звериный, нежели человеческий, оскал, в котором обнажаются ее мертвые пластмассовые зубы.
Но не было сил привести в порядок лицо.
Однажды Марина, ворвавшись в комнату Анны Петровны, увидела ее именно такой.
От неожиданности перепугалась, однако, заметив, что бабка еще дышит, с кряхтением, волоком стала перетаскивать на кровать.
Анна Петровна, конечно, пробудилась. Но у нее действительно не было сил – даже для того, чтобы самой лечь в постель.
Безропотно позволила себя уложить, накрыть одеялом.
При этом безотрывно и внимательно-тихо смотрела на Марину: такой она внучку не знала.
И почему-то Марину тоже – ужасно было жаль. Не красива, не добра, не умна, а казаться ведь хочется и красивой, и доброй, и умной…
Анна Петровна вздохнула горестно и вдруг – очень неожиданно для себя, с неожиданной легкостью расставаясь с пустяковой своей тайной, – почти без выражения выговорила:
– Нет у меня ничего, милая Марина. Ты уж не обижайся на меня – нет ничего.
Марину – будто внезапно уличили. Задвигалась суетливо. Что-то принялась передвигать на столе. Жалко отворачивала лицо.
– …вы, я знаю, кажется, надеялись. Но – вы уж не обижайтесь, если можете, – ничего нет.
– На что надеялись?! – грубо и фальшиво заорала Марина. – Зачем нам на что-то надеяться?! Ты что, бабуля, совсем?!
Анна Петровна, однако, почти не слушала.
Преисполнившись вдруг неизъяснимого удовольствия от этой сцены, ощущая с досадливой иронией всю ходульность происходящего (и одновременно же радуясь этому: «Стало быть, еще не всерьез… Это, стало быть, еще не скоро, коли мне так смешно…»), Анна Петровна вот что проделала:
протянула Марине руку, чрезвычайно театрально сломив ее в запястье, и произнесла, с немалым удивлением слушая, как жеманно и актерски истомленно звучит ее голос:
– Возьми хоть это, внучка… Пусть хоть эта останется тебе память.
(Что за бес балаганный вселился вдруг в Анну Петровну? Что за озорная нужда ей приспела лицедействовать на самом смертном своем пороге?)
Марина непонимающе взирала на бабку.
Даже некое подобие тревоги написалось на ее лице.
А когда поняла, о чем говорит Анна Петровна – о перстне с деревенской стекляшкой, – очень облегченно брякнула, ни пренебрежения не скрывая, ни обиды:
– А! Да на кой он мне? Сама уж форси.
– Возьми, – настойчиво попросила Анна Петровна.
И Марина – взяла. То ли не желая перечить умирающей, то ли (скорее всего) оттого, что не в ее силах было отказываться, когда что-то дают, – проворно вдруг наклонилась, как бросилась, к протянутой руке и стала сдергивать.
– Больно же так… – раздосадованно поморщилась Анна Петровна, переложила голову по подушке и вдруг – опять заснула.
Заснула – камнем в черную густую воду – и жаль, что не видела, как внучка ее, сидя у стола, сначала просто так задумчиво сидела, потом – разобиженно завсхлипывала, а затем – грубо, хоть и потихоньку, заревела, совсем по-детски отклячив губу.
И все рисовала, рисовала по скатерти забытым в руке перстнем какие-то спешные квадратики, а другой ладонью время от времени словно бы опрятно сметала их в сторонку…
И казалось, что вовсе не о пустых своих надеждах на бабкино богатство плачется ей, а о чем-то совсем другом, постороннем – о своей жизни быть может.
* * *
…А через день, задыхаясь в проклятиях: – «Зараза! У-у, старая зараза!!» – Марина опять с грохотом вломилась в тихое обиталище Анны Петровны.
Старушка, не зажигая огня, сидела, по обыкновению, возле моего окошка, глядела, пригорюнившись, во двор… —
вдруг! с ужасным треском распахнулась дверь, влетела Марина, и – началось!
Началось нечто, разуму не постижимое, отвратительное, стыдное и страшное настолько, что сердце Анны Петровны как скомкалось при виде внучки в сухонький слабенький кулачок, так и не разжималось больше.
Поспешно, как в панике, залепетало сердчишко вполстука, и тошнотворные веселые качели принялись то возносить Анну Петровну в звонкую высь, от которой она в ужасе расширяла глаза (а тут – исковерканное злобой лицо Марины: «Зараза! У-у, старая зараза!»), то швырять без жалости, надругательски, кратко в предсмертные, тоскливые какие-то потемки.
Марину аж колотило от ненависти. Она даже как бы подпрыгивала слегка, страдальчески скалясь от невозможности и заорать в полный голос, и сделать хоть сколько-нибудь крупное движение в этой злобной тесноте.
– Ты что мне подсунула, гадюка беззубая?! – кричала Марина придушенным шепотом, и руки ее с кошачьи скрюченными пальцами так и рвались в угол, где, обомлев, беззащитно трепетала, вжимаясь в стенку, Анна Петровна. – Ты что же, ведьма, не могла по-человечески сказать, что даришь?! Всю жизнь паскудила – и нам решила напоследок напаскудить?! Я вот что пришла тебе сказать (и не говори потом, что я тебе не говорила): если нам что-нибудь будет из-за твоего колечка, клянусь!! – я тебя, заразу, гадюку подколодную, вот этими вот руками удавлю!!
Ничегошеньки не понимая, смотрела Анна Петровна на Марину и совершенно не узнавала ее. Иной раз будто и мелькало что-то знакомое, но тотчас же – словно грязной растрепанной кистью, наотмашь, смазывалось! И вновь какое-то неведомое разнузданное опасное животное бесновалось перед ней.
– Ты всегда меня ненавидела! Думаешь, я не знаю? Я мешала тебе! С самого детства! Теперь – отомстила?!
Запухшие, больные от бешенства глаза. Мокрым наружу вывороченные губы. Руки с жадно растопыренными, жаждущими схватить крючьями пальцев…
«Господи! – трясло старую женщину. – Кто это? За что это?»
Она ни слова не понимала из того, о чем кричит Марина. Ничего не понимала – кроме этой бешеной, против нее направленной ненависти. И ни обиды не чувствовала, ни возмущения – куда там! – один только ужас смертный.
– Пожалела… – Марина, прикрыв глаза, с медленной мукой раскачивала головой из стороны в сторону. – Единственному родному (!) человеку пожалела… Трудно было сказать, что за перстень даришь? – и вдруг дико взвизгнула, словно озаренная:
– Под монастырь хотела подвести?!
Тут что-то жалобно звякнуло, упав на столе. Марина недоуменно поглядела и – вдруг – со злорадостным наслаждением смахнула на пол все, что там стояло!
Звон разбившегося стекла – словно плеснули бензином в огонь – распалил ее по-новому.
Со сладким ехидством вскрикивая: «Так вот тебе! Вот тебе, зараза!» – стала проворно обрушивать со стен полочки с какими-то вазочками, цветочками, статуэточками. (Ни одной не пропустила, а там, где не доставала, не ленилась вскакивать то на стул, то на кровать.)
Вдруг метнулась и, цапнув с гвоздя, с жадным удовольствием разодрала старенький халат Анны Петровны.
Тотчас, выдернув ящик шкафа, принялась выхватывать оттуда вещи и – явно уже обезумев – поспешно рвать их, каждый раз поднимая в руках и словно бы демонстрируя Анне Петровне:
– Вот тебе! Это не семьдесят тысяч! Но я тебя голой оставлю, старая шлюха!
Рвать было, по-видимому, легко: все было старенькое, стираное-перестираное.
Но вот попало ей в руки какое-то покрывальце, грубо простроченный край которого она не смогла, даже со стоном тужась, надорвать. И – словно бы надорвалась сама.
Отшвырнула в сторону.
Руки ее крупно тряслись.
Вдохновенно огляделась еще раз (вдохновение, однако, меркло: ничего такого не попадалось на глаза, что можно было бы разодрать, расколотить, уничтожить…) – и вдруг, как в страхе, будто опомнившись, бросилась вон, так хряснув напоследок дверью, что из скважины вылетел и с жалобным дребезгом покатился по полу ключ[2]2
…Выскочила, хряснув напоследок дверью, бегом слетела по лестнице, прыгнула в машину.
Ключ зажигания никак не желал попадать в скважину. Она долго билась, яростно дыша, вставила наконец, но заводить не стала. Села, как маленькая девочка, на собственные руки: «В таком виде ехать нельзя. Надо успокоиться…»
Надо было успокоиться. Но как тут, господи боже, можно было успокоиться, если такие деньги – семьдесят тысяч! – прямо из кармана выхватили!
– И все из-за мымры этой! Из-за гадюки этой беззубой! Даришь? Ну так и дари, как люди! Хоть намекни, что ценную вещь даришь! А она… сунула! «На память!» – как побрякушку из табачного киоска! – и Марину опять заколотило в бесплодной яростной дрожи.
И опять – хоть и не хотела – принялась она вспоминать, как пошли они вчера с мужем от нечего делать к соседу по автостоянке Кузнецову Лев Яковлевичу, ювелиру, – показать бабкин подарок.
С паршивой овцы хоть шерсти клок (так между собой рассуждали, идиоты!). Может, сотняжечку-то стоит? Серебро нынче в цене.
Взял Лев Яковлевич перстень – пренебрежительно, словно бы даже с усмешечкой взял. Но потом, в мгновение ока, преисполнился! Будто бы даже – перепугался.
Вот тогда, вот тогда-то еще не поздно было сообразить, выхватить из рук, запрятать, а Лев Яковлевичу потом в глаза рассмеяться: «Что вы, господин хороший? С сучка, что ли, сорвались? Какой перстень?..»
Все ведь у Кузнецова в глазках сразу же написалось – блудливые, подсчитывающие сделались глазки. От восхищения (не удержался однажды) даже слюной засвистел.
Долго подсчитывал Лев Яковлевич. Наконец подсчитал и вывел: нет ему резона этот гешефт делать. Чересчур риск велик. Зато гораздо больше будет ему пользы по-другому поступить: стукнуть, аккуратненько, куда полагается стукнуть! И никому завидовать не надо будет, и на душе будет спокойно, и в ОВИРе, даст бог, в заслугу зачтут подвиг сей.
«Вещь, – сказал Лев Яковлевич, – стоящая. Но сколько именно стоящая – сейчас сказать трудно. Зайдите, Марина, ко мне в скупку, завтра, в половине двенадцатого. Вот тогда я вам все в точности скажу».
Они с мужем – за дверь. А он, зараза, – за телефон.
Стук-постук. Так и так. Я – такой-то такой-то, довожу до вашего сведения: «Двуликий Янус» – алмаз-премьер, со времен гражданской войны в розыске, национальное достояние, а нашел я – Кузнецов Лев Яковлевич, беззаветно преданный, при оформлении визы на выезд прошу учесть и иметь в виду.
Утром Марина – к дверям, чтобы ехать в скупку. А в дверь – звонок. Двое. Молодые-спортивные, красные книжечки. Душевный разговор. Недолгая поездка в казенной «Волге».
А там – три старикашки эксперта, развеселый Лев Яковлевич, пара полковников, трое штатских.
«Распишитесь, Марина Николаевна. Здесь, здесь и здесь».
Отчуждается! Это слово у них такое специальное, когда они в сумочку к тебе залезают и, это, отчуждают.
«Спасибо, – говорят, – спасибо, Марина Николаевна! Вы помогли вернуть нашей Родине (правда, сами того не ведая) национальное достояние наше, всемирно известный „Двуликий Янус“… – а в каждом их слове, а в каждом их взгляде словно бы усмешечка таится: „Дура вы, Марина Николаевна! Дура вы немытая!“»
А Лев Яковлевич – гнида!! шины проколю!! – ласковенько улыбаясь и все время на полковника оглядываясь, будто он тут свой среди своих, говорит: «Вы, Марина Николаевна, вчера ценой интересовались… Сейчас-то, конечно, вам все равно, но, если очень интересно, – семьдесят тысяч камушку вашему цена! Грубо, примерно…»
Вспоминая все это, сидела Марина – как несколько часов назад в том кабинете, – зажмурив глаза, губы закусив, – словно из нее внутренности медленно тянут – и тонко, мстительно улыбалась.
Наконец тронула сапожком стартер. «Жигуленочек» тотчас заворковал – преданно, нежно. Она что-то невнятное – горькое и ласковое – подумала о нем: «Один только ты у меня…»
Потихонечку тронулась.
«…Мне не важно (хотя, конечно, и жутко интересно) под каким таким миллионщиком ты лежала и какие такие фокусы ему показывала, что он так щедро с тобой расплатился», – она уже выехала со двора и теперь опять, мысленно опять распаляясь, орала в лицо Анне Петровне:
«Не важно! Но почему же ты, ехидна облезлая, решила именно мне эту пакость подстроить? Хоть бы намекнула, что за камень такой в перстне! Да разве бы я его в скупку потащила? Да разве бы я не нашла покупателя, тихого и благородного? Да я бы на части его распилила, премьера этого, не посмотрела бы, что он, видите ли, достояние! „Досто-ояние… Ему место в Алмазном фонде…“ Еще не известно, в чьем именно „алмазном фонде“ он теперь появится. А я-то! Как самая распоследняя дура! Своими собственными руками!!» —
и, разумеется, на первом же перекрестке, с запозданием заметив красный свет, сменившийся в светофоре, она так чересчур уж в сердцах, ударила по тормозам, что следом идущий самосвал безо всякой жалости и снисхождения въехал ей, понятное дело, в багажник.
Посыпались стекла.
От удара зажглась ужасная боль в затылке.
Она завизжала. Но, впрочем, не только от боли. Завизжала она, прежде всего, от того неимоверного страдания, которое должен был испытывать ее ненаглядный «жигуленок», в лакированную задницу которого, сминая ее в уродливую гармошку, вторгался на скорости тяжелый, тупорылый, заплеванный цементом грузовик.
Домой притащилась уже под вечер. (Приволок на тросе тот же самый самосвальщик, что изувечил ее. Еще и десятку содрал, хам.)
По лестнице поднялась, еле ноги волоча.
Под глазами синяки вызрели. Вид – хоть куда, хуже побитой суки.
Муж дверь отворил. Плащик с плеч вежливо принял. В комнату вперед себя пропустил. А в комнате – хрясь по уху!
Ты, говорит, выдра заморская, из-за твоей вонючей родни…
Короче: к нему сегодня тоже оттуда приходили, вопросы задавали. Что за камень, откуда камень, по какому праву камень.
А после допросов-вопросов и собственный начальник вызвал. Я, говорит, знать не знаю и знать не хочу, в чем именно вас обвиняют – со своей белогвардейской родней как-нибудь сами разбирайтесь, – но должен только заметить, что в таком учреждении, как наше, после всего того, что случилось… и – уж это-то во всяком случае! – ни о каких загранкомандировках теперь даже речи быть не может!
– Ты хоть понимаешь, зараза, – орал Маринин муж, как в трубу, – что твоя бабка своим подарочком наделала?! Я десять лет по этой лестнице вползал. Каждую ступенечку вылизывал, прежде чем встать на нее! На тебе, кретинке, женился, чтобы вопросов не возникало! А теперь?.. —
и пуще всего на свете хотелось ему в эту минуту – аж в душе зудело! – еще разочек супруге своей по уху заехать.
Ни она, к сожалению, как с первого раза села на пол, так там и сидела полвечера, пригорюнившись.
[Закрыть].
И наступила тишина.
Анна Петровна, прикрыв глаза, сидела, откинувшись затылком к стене, и дикие качели все носили ее, бедную: вверх – со взвизгом, вниз – со стоном, и слабенькая жизнь трепетала в ней в эти минуты, едва ли не прерываясь – как пламечко тоненькой свечки на черном злом сквознячке.
* * *
Какую-то странную рыбину видела Анна Петровна. В глухой тяжкой воде – в ее мрачно текущей глубине, возле самого дна – какую-то тусклую рыбину, которая, привалившись к угольно-черной окаменелой коряге, оловянно думала о чем-то, —
оловянно думала о том, как это странно, что нужно все плыть, плыть, плыть (всю жизнь!) – одолевать эту беспросветно-тупую силу течения (всю жизнь!), вечно стараться быть на плаву, вечно противиться встречному плотному току воды, как искушению, —
как искушению: отчаянно кувырнуться бы на бок! отчаянно отдаться бы течению! пусть! испытать бы (наконец-то!) то сказочное ощущение острейшего, сладчайшего покоя, Покоя, которое всю жизнь чудилось ей, этой рыбине, как награда, там, по окончании этого монотонного и не совсем ей понятного подвига: все плыть, плыть, плыть – всю жизнь! – вверх по течению, вопреки, к верховьям.
…И едва ей подумалось этой рыбине, об искусительном том покое – она, действительно, легко и проворно вдруг пала на бок! —
и ее тотчас злорадостно, бешено закрутило, понесло, закувыркало, смертельно и стыдно забелевшую брюхом! И только в эту секунду вдруг стало ясным: какое жестокое и властное было течение. И только в эту секунду вдруг стало ясным: какая сильная, какая отважная и красивая была эта рыбина, всю жизнь противостоявшая такой реке.
«Это, наверное, я́ сейчас чуть не умерла», – подумала Анна Петровна.
Был поздний вечер. Может быть, даже ночь.
Она поднялась и, осторожно пощупывая ногами пол, прежде чем сделать шаг, держась за стену, за мебель, начала пробираться к постели.
Ее колотила дрожь, но какая-то странная дрожь. Совсем не болезненно, но безостановочно и неостановимо, в диком разнобое дергались, стучали, пульсировали, подплясывали все без исключения, казалось, органы внутри нее – каждая даже клеточка, каждое сухожильце, волоконце.
Будто это и в самом деле ее только что безжалостно несло, кувыркало, швыряло и било в убийственной той реке…
Наконец она добралась до кровати. Легла – голову прикрывши рукой, как от побоев. Ей очень хотелось уснуть, ей было плохо, но сон только на рассвете пустил ее.
* * *
«По существу предъявленных ей вопросов гр-ка Захарова-Кочубей Анна Петровна, русская, 1901 года рождения, уроженка г. Мурома, показала следующее.
Перстень до недавнего времени принадлежал ей, а точнее, до 29 сентября сего года, когда она подарила перстень внучке, Новоселовой М. Н. Передача перстня Новоселовой М. Н. не имела целью сбыт перстня. Перстень был передан Новоселовой М. Н. на память по причинам слабого здоровья и возможной кончины в ближайшее время. О происхождении перстня ничего определенного показать не может. Его подарил гр-ке Захаровой-Кочубей весной (февраль – март) 1919 года человек по фамилии или кличке Кочет, которого она называет своим первым мужем, хотя брак не зарегистрирован, но свадьба была.
О личности Кочета ничего определенного показать не может. Он был военный, один из командиров отряда. Главным в отряде был по фамилии Перебийнос. На чьей стороне воевал отряд, ничего определенного показать не может, объясняя это молодостью лет и непониманием того, что происходит в мире, кто с кем воюет и из-за чего.
Перстень был передан гр-ке Захарова-Кочубей, как она думает, в тот момент, когда ее, больную, в бессознательном состоянии оставляли в деревне Васильевка Екатеринославской области (зачеркнуто) губернии. Когда она очнулась, перстень был надет на пальце правой руки камнем внутрь ладони. Больше отряд Перебийноса и человека по имени Кочет, который, наверное, и надел ей на прощание перстень, гр-ка Захарова-Кочубей никогда не встречала. Обстоятельства появления в отряде: силой ссадили с поезда. О ценности перстня гр-ка Захарова-Кочубей определенно показывает, что ничего не знала. Всю жизнь носила как талисман. Название „Двуликий Янус“ слышит впервые. Никаких ни к кому претензий не имеет.
Протокол с моих слов составлен верно. А. Захарова-Кочубей.»
Когда губастенький, очень юный, напыженный лейтенантик, окончив свои страдания над листом протокола, протянул его Анне Петровне («Подпишите, пожалуйста.») – Анна Петровна оживилась. Как-то, почти радостно, обеспокоилась.
С интересом взяла протянутый лист, но ее мгновенно, едва она взглянула, отчетливо замутило при виде этой зеленоватой, ужасно плохонькой бумаги, по которой грязно-лилово и расхлябанно влачились – то спотыкаясь и городясь друг на друга, то расползаясь вкривь и вкось – дрянные ленивые каракули, весь вид которых тотчас вызвал у нее мысли о каком-то вырождении. И таким уж безнадежным унынием бездарности пахнуло от этих строчек, что Анна Петровна невольно с новым любопытством вернулась взглядом к лейтенантику, – чтобы тотчас, быстро пожалев, еще больше утвердиться в своем ощущении: «Никудышник, конечно… Всю жизнь, на любом месте – никудышник».
Лейтенант протянул ей для подписи ручку – шариковую, из тех, что продаются в газетных киосках.
Анна Петровна с усмешкой пренебрежения, сделав пальцами нечто на удивление вельможное, отвергла ее:
– Нет уж, молодой человек. Этим сами пишите. А мне (будьте столь любезны) посмотрите на шкафу ящичек.
В ящичке том – в узком плоском футлярчике из очень когда-то дорогой матово-черной пухленькой кожи она хранила… Нет, надо бы так сказать: там жил – на покое, барственно возлежа в пушисто-серебристом бархатном своем гнезде – ее любимый, еще довоенный «паркер».
Черно-золотой, чуть тяжеловатый для ее руки, со старомодным, но изумительно чутким пером – он выглядел довольно-таки непритязательным, мужиковатым, но был он зато необычайно укладист в руке, безотказен и удивительнейшим образом всегда внушал Анне Петровне ощущение добротной силы, спокойной уверенности в своей силе, даже если она и брала его только затем, чтобы расписаться в получении пенсии.
Она, не торопясь, с наслаждением свинтила массивный колпачок его с зажимом в виде золотой стрелы, открыла свой «паркер» и даже посветлела лицом, ощутив в руке его наполненность и весомость.
Велела лейтенанту дать что-нибудь твердое – подложить под бумагу. Тот с послушно-бестолковым видом поискал, неуверенно спросил: «Может, моя папка подойдет?» Она милостиво позволила: «Пусть».
Попробовала чернила в пере.
Раз-другой повела локтем, делая некое освобождающее движение. Затем твердо подвела к бумаге перо и, не спеша, но и без задержки, точно расписалась:
А. ЗАХАРОВА-КОЧУБЕЙ.
…Чернила стекленели, подсыхая. Анна Петровна тихо смотрела.
Мысль о том, что, быть может, это – последняя в ее жизни подпись, пришла и ушла, ни особой грусти не вызвав, ни волнения.
Она просто смотрела на полтора десятка начертанных ею букв и, пожалуй, была довольна.
Тысячи людей живут, испытывая смутное недовольство и неудовлетворенность от того, как выглядит на бумаге их подпись. С юных лет до самой смерти откладывают на потом окончательную ее выделку. Так и не успевают чаще всего…
Анне Петровне не о чем было жалеть. Образ, в который складывались буквы, составляющие ее подпись, был приятен и лестен взгляду, даже такому придирчивому, как ее.
«А», начертанная узко и стремительно, вознесена была подобно шпилю готического собора. Она могла бы показаться и чересчур высокой, эта «А», и даже долговязой, но энергичная клинописная поперечинка, удивительно точно поставленная, мгновенно делала все сооружение очень соразмерным (и кроме того, чуть выступая с левой стороны, она еще и равновесила довольно рискованный наклон всей буквы вправо).
«З» была тоже и высока и узка в начертании. Пожалуй, что она была и несколько заносчива и суха, но, несомненно, мастерски исполнена. Высокомерно вознесенная ввысь головка буквы состояла при внимательном рассмотрении из множества мелких штрихов, словно бы граней, и от этого, несмотря на малость свою, отнюдь не выглядела легковесной и совсем не будила сравнение со змеиной головкой, как это часто бывает при созерцании «З» в самых различных написаниях… Нижняя же часть буквы была начертана решительно и хлестко и завершалась петлей – угловатой и резкой, – тотчас переходившей в крохотную «а», которая жила, тесно прижавшись к заглавной букве своей фамилии, словно почка к ветке.
«X» была артистична и легка. Однако – только в той своей части, которая шла справа вниз и налево. С вольготным выкрутасом она была исполнена, с размахом и даже бесшабашием, которые, впрочем, кратко и категорично пресекались еще одной клинописной черточкой (явно рифмовавшейся с поперечинкой первой заглавной буквы «А»).
Этот вольный штрих в букве «х» естественно порождал и соседнюю с ней (через крохотную, отдельно и скромно стоящую, почти чертежно исполненную «а»), согласную с ней «р», роскошную, слегка богемную, с барочными прикрасами, полнокровную букву, после которой немыслимым казалось ни мелко, ни строго написать следующие за ней «…ов». И они, действительно, будто на одном веселом и широком дыхании были вычерчены, эти «…ов»… (Хотя нельзя тут было не заметить, что «в» страдает каким-то трудноуловимым изъятием вкуса в написании. То ли неуверенность какая-то была в штрихе, то ли принужденность в переходах… Анна Петровна, впрочем, и сама всегда это ощущала, но – мирилась. Как мирится человек с некоторыми, явно не самыми лучшими, чертами своего характера.)
И завершалась фамилия неожиданной после роскошных, щедрых, жизнелюбивых «…ров…» – небольшой, аккуратно замкнутой, чуть поодаль ото всех стоящей чертежной монашенкой «а».
А дальше шла веселая вторая ее фамилия – Кочубей.
Ей всегда чудились какая-то жаркая степь, чубы, бунчуки, веющие по ветру, широта, веселие и размах, когда она произносила эту фамилию.
Будто скачком, на мгновение прибывало кислорода в крови.
И ее, эту фамилию, писать, конечно же, надо было только так: с этим ударным, двумя клиньями, широким и резким «у», с этим веселым «б», который обязательно должен был трепыхать по ветру своим завитком, с этим заглавным «К», сработанным словно бы тремя сабельными ударами, с этим апострофом, завершающим «…ей» – который, будто птица, взлетал вверх и, как птица же, но уже мертвая птица, падал оземь.
Эти семь знаков живо напоминали ей человека, который носил когда-то и дал ей эту фамилию.
И даже сейчас ей доставляло радость писать: КОЧУБЕЙ.
* * *
Чернила подсохли. Анна Петровна медлила выпускать бумагу из рук.
Как впервые, как в последний раз, вглядывалась она в свою подпись.
Это была целая страна, да.
Это был живо живущий, красивый и гордый город – на берегу уныло-лилового моря, которое, как до горизонта, простиралось до верхнего края листа. Бестолково-толкливые волны-слова, лезущие, мнущие друг друга, более всего напоминающие нашествие грязных, волосатых гусениц, – подступали к самым стенам этого града и, казалось, вот-вот затопят его.
Лейтенант, взявший в руки лист, тоже будто бы что-то увидел.
Рассматривал подпись долго. И был он в этот момент похож на мальчишку – на несчастного мальчишку, который, увы, упустил время умнеть.
И Анна Петровна опять пожалела его.
Бережно – как лист, например, офорта – лейтенант уложил бумагу в папку. Попереминался с ноги на ногу.
Нужно было идти, а ему, кажется, хотелось что-то еще, не казенное, сказать этой старой женщине, чем-то явно его поразившей. Дураковато, словно бы в ожидании чего-то, зрил он на Анну Петровну; вдруг загадочно покраснел – аж залился румянцем по щекам и даже шее – рассердился, буркнул «до свиданья!» и, стукаясь обо все, какие возможно, углы, стал выбираться из комнаты, смущенно бормоча под нос себе чертыхания…
Но он – нечаянно – так взвизгнул на пороге сапогами по битому стеклу, так ужасно, что Анну Петровну, уже добродушно и чуть насмешливо глядевшую ему вслед, будто ударило – будто в какое-то нервное, донельзя нежное сплетение ударило! И тотчас ее скорчило в тесный куколь от отвращения, и страдания, и злобной ненависти!
Зрачки ее мгновенно и остренько сузились.
Предсмертное отчаяние с хрустом запрокинуло голову.
И обморок – в который уже раз за эти дни! – настиг ее.
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Шаркал по полу веник.
Осторожно звякали по половицам сметаемые осколки – с кратким скандальным дребезгом заезжали на железо совка.
Кто-то в ее комнате убирался.
Анна Петровна слушала с закрытыми глазами и не торопилась отворять глаза.
Ей было почему-то на удивление покойно и хорошо от этих звуков.
…Подметавший вышел в коридор выкинуть мусор и там (видимо, сдерживался в комнате, чтобы не разбудить…) свободно откашлялся.
С изумлением Анна Петровна услышала, что это – мужчина.
«Кто бы это мог быть?»
Она попробовала ответить на этот вопрос, но у нее даже и предположений никаких не возникло – настолько и настолько давно она была одинока.
Единственным человеком, кто приходил к ней изредка – убраться, принести молочного из магазина, одолжить трешку «своему идолу», – была Фаина-соседка. Но – мужчина?!
Его долго не было.
Его не было так долго, что могло показаться, он ушел вовсе.
Однако Анна Петровна почему-то совсем не беспокоилась его отсутствием. Он снова сейчас придет – она знала это. Просто знала, и все.
А главное, пространство комнаты, хоть он и вышел, все еще было заполнено им: царило добродушное какое-то спокойствие, царила слегка усмешливая вера во что-то славное, доброе, что непременно случится – не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра.
Этого Анна Петровна так бесконечно давно не ощущала – не только в себе, но и в других людях – и так, ей, видимо, жгуче, голодно не хватало именно такого ощущения жизни (ибо оно с неоспоримой отрадой свидетельствовало о Гармонии, которая все же, вопреки очевидному, но присутствовала в мире, а она на смертном своем пороге неосознанно и жадно именно ведь Гармонии искала во всем, что происходит на смертном ее пороге, ибо отсутствие этой Гармонии с жестокой печалью означало напрасность, прежде всего, никчемность и случайность ее, Анны Петровны, пребывания на этой земле…) – и так ей, видимо, насущно нужен был именно этот покой во взгляде на все происходящее, что она, уловив это в загадочном своем госте, неведомо как уловив, по-детски возликовала вдруг, как ликует, быть может, погибающий от удушья, блаженно поймав саднящими бронхами прохладу и нежность кислорода, и задышала – так покойно, всласть! и так благодарно отдалась вся переживанию этого дивного ощущения! – и будто прохладная сильная ладонь легла на разгоряченный лоб – поплыла-потихонечку-поплыла, так и не открыв глаза, в новом забытье – теперь-то несказанно приятном, словно бы золотистом, как солнце сквозь ресницы…
…И светленькая девочка-худышка исподтишка глянула ей в лицо – лет девяти девочка, в платьишке, застиранном и линялом, которое по-нищенски ветхо обвисало с ее тощеньких плечиков, высоко открывая еще вполне цыплячьи, сухожильные ножки с загорелыми до грязноватой синевы коленками торчком…
Она стояла чуть сзади и сбоку от матери, и Анна Петровна слышала ее тихий внимательный взор все то время, пока она, не в силах оторваться, пила из мутноватой литровой банки холодное густое молоко, едва сдерживаясь, чтобы в голос не застонать от упоения и услады, льющихся в нее с каждым неторопливым полновесным глотком.
Наконец – «А-ах!» – с веселым восхищением опростала она банку и смогла теперь посмотреть на девочку —
и тотчас у нее нежно и жалостно дрогнуло сердце, когда она увидела это исступленное обожание, несмелый восторг, с какими взирала на нее эта худышка снизу вверх своими широко, словно бы в изумлении распахнутыми серо-голубенькими глазами.
Девочка, застигнутая врасплох, тотчас сморгнула, потупилась, чуть не заплакав, затем снова глянула исподлобья, будто бы даже и с обидой, и снова – преданность и восторг неудержимо разгорелись в ее глазах при виде этой сказочно красивой, ужасно счастливой, ужасно свободной в каждом своем движении, плавной женщины. У девочки даже жалко задрожало что-то в лице от непосильности поражающих ее чувств.
А Анна Петровна, так вдруг – до донышка! – услышав душу девочки, быстро присела перед ней, как бросилась, и в смешном торопливом желании тотчас научить и ее, эту худышку, счастью, которым она вполне владела все последние дни, быстро обняла девочку, огладив по голове и худенькой, как у котенка, спинке, и заговорила, сразу же поразившись несоответствию слов с тем, что она чувствовала и хотела сказать:
– Ты будешь большая… ты будешь красивая! Ты обязательно будешь очень красивая – со светлыми волосиками, синеглазая. Обязательно будь добрая, ладно? Как тебя зовут? («Лиля», – ответила та тоненько и печально) —
и уже окончательно чувствуя бессилие слов, но все так же изнывая от жгучего желания сообщить этой белобрысой бедняжке тайну быть счастливой, Анна Петровна обняла ее глубоко и тесно, надеясь и веря, что тайна эта, быть может, сообщится ей как-то по-иному, без слов, войдет в ее память с запахом ее духов, ее нежного, благодарного, любимого любимым тела, с ощущением той победительной и плодотворной силы, которую спокойно излучало все ее существо эти последние дни.
Она услышала, что девочка украдкой покосилась на мать. Анна Петровна слегка отстранила Лилю, еще раз внимательно отладила ее по светлым, тяжеловатым, давненько не мытым полосам и еще раз сказала:
– Будешь красивая и большая и глазами будешь делать вот так… – и показала, как царственно и немного театрально будет делать глазами прекрасная дама, какой станет эта золушка, и Лиля засмеялась, откровенно счастливая, и рассмеялась Анна Петровна, и мать тоже улыбнулась, с усилием перекроив на лице складки, привычно и тяжело слежавшиеся в выражении хмурости и озабоченной усталости.
– Она – помощница… – словно бы нехотя проговорила мать высшую, должно быть, свою похвалу. – Дай-то ей бог…
И вся эта сцена была освещена – как неярким осенним солнцем – спокойным присутствием человека, который, никуда не торопясь и не торопя, поджидал ее, Анну Петровну, вольно сидя на серых от старости и дождей бревнах, рассеянно пощелкивал прутиком по брезентовому сапогу и время от времени с любопытством наслаждения быстро окидывал взглядом все вокруг, словно бы с намерением твердо и навсегда все запомнить.
* * *
Он опять был где-то рядом, в комнате.
Анна Петровна открыла, наконец, глаза, торопясь увидеть загадочного своего гостя.
Первым ее чувством было острое разочарование скуки: она увидела затрапезно-серую полосатенькую ткань пиджака, сутулую спину и не очень опрятные, запущенные, так что они уже завивались на воротнике крупными полукольцами, волосы.
Он сидел вполоборота, почти спиной к Анне Петровне, и что-то делал – кажется, резал – на столе.
С неудовольствием, почти враждебностью смотрела Анна Петровна в спину своего незваного гостя. Но вот – он чуть-чуть повернулся в профиль, и Анна Петровна с облегчением и удовольствием как бы хмыкнула про себя: у него был та-акой нос!







