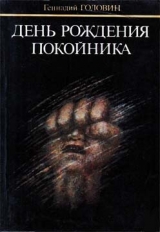
Текст книги "День рождения покойника"
Автор книги: Геннадий Головин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
…В ту ночь, вернувшись со станции, – будучи приятно разволнован этой необычной ночной прогулкой, будучи к тому же изрядно охмелен письмом, пришедшим поутру, и, главное, похвалами в свой адрес, содержащимися в этом письме, будучи радостно-приподнято взбудоражен откровенно самомнительными мыслишками, зашевелившимися вдруг в нем, и суть которых сводилась к тому, что он может… —
так вот, вернувшись, Жужиков вознамерился не больше не меньше как освежить в памяти что-нибудь из своих сочинений.
Разыскал в чулане пару книжек своих, с чувством приятного предвкушения расположился на кроватке, раскрыл… и —
безобразнейшая истерика приключилась тут с Антоном Павловичем!
Пробежал глазами несколько абзацев – в начале, в середке, в конце – и, не сдержавшись вдруг, в бешенстве несусветном запустил книгой той в угол комнаты!
Самые натуральные рвотные судороги волной заходили в горле!
Тоска, и бессилие, и ненависть завыли в лобных долях – злобным дребезгом задетонировали в хрупких отзывчивых хрящиках у переносья.
Ощерился. Углы рта опустились болезненно, брезгливо.
И только одно он оказался в состоянии повторять, как заведенный, с силой и с сильным изумлением: «Пакость! Какая пакость! Пакость!!»
Сунулся во вторую книжку. И даже уже не с тем, чтобы получить опровержение, напротив – с непонятно-мстительной жаждой добить себя!
Прочитал там-здесь по полстранички, снова вполголоса возопил:
– А-а! Пакость!! —
и принялся драть страницы из книги. Страницы не поддавались, он чуть не возрыдал от этой обиды, но все же выдрал кое-как страниц двадцать – швырнул об пол!
И вторую, полуразодранную книжицу запустил следом за первой!
Вскочил, забегал в бедственной суматохе, натыкаясь на углы.
Теснота дома взбеленила его еще пуще, и его тотчас выгнало из стен – прямо-таки вышвырнуло! – сначала на террасу, а затем и на улицу.
Там и стал коротенько бегать туда-сюда, клокоча от несказанного отвращения и руками выделывая что-то такое, что, наверное, и называется «заламывать руки».
В беготне этой оскользнулся на дорожке и пал набок, глубоко утонув рукой в ледяной густой грязи. Попытавшись подняться, и второй ладонью погряз – до запястья.
Потом встал, театрально взирая на ладони свои, полные грязи – и вдруг! – в новом припадке истерики стал пачкать с размаху лицо свое, хватаясь за него трагически растопыренными перстами и в перерывах повторяя с потрясением ясновидения:
– Пакость! Какая пакость!
И все не мог никак остановиться. Была какая-то последняя сладость – прощальная – в этом самобичевании посреди ночи, в пустом голом саду, в глухом одиночестве.
Вот такое вот удивительное происшествие приключилось с Антоном Павловичем.
Какая уж такая особенная пакость привиделась ему в собственных книжицах? Чего уж такого, особо уж оскорбительного, нашел Жужиков в этих непритязательных повестушках?..
В любое другое время прочитал бы (если прочитал бы) и спокойнешенек остался. Ну, отметил бы, что вот и тут, и там, и здесь – «не фонтан». Надо было бы другие какие-то словечки употребить (неведомо, какие, но – другие). А в общем-то, даже в довольстве бы остался, как оставался всегда, ощущая в ладонях это тяжеленькое, неведомо откуда берущееся, типографски воняющее чудо с золотисто сияющей фамилией на переплете: А. ЖУЖИКОВ. (И даже вкоренившаяся опаска – опаска нашкодившего мальчишки: вот сейчас возьмут за шкирку и спросят: «Это ты, сукин сын, наделал?» – даже она не помешала бы авторскому самодовольству…)
Так наверняка было бы – в любое другое время – но вот в ту удивительную ночь… Что же стряслось с ним?
А то и стряслось, что воспарил чересчур уж в небеса! Чересчур уж одурел от густой лести, шибанувшей в голову со страничек письма! Разомлел, раскиселился! И хотя знал распрекрасно, что – неправда – написанное в письме, а ведь и поверил, слабый человек!
Главное, тому поверил, что достоин он, Жужиков, похвальных слов и захлебов, что может писать вровень с такими восторгами! И, поверив, что «может», тотчас уверил себя, что уже может!
И как уж тут было не вострепетать крылышками? И как уж тут было не возомнить себя черт-те кем?!
И чего уж особенно уж дивиться, что когда в самомнительном том одурении сунулся сгоряча в старые книжки (за тем ведь и сунулся, чтобы найти подтверждение заносчивым мыслишкам о себе!..), когда сунулся и одну лишь заунывную нищету обнаружил, одно лишь пустынное убожество, – тут же и брякнулся, чему дивиться? – с хрястом, без пощады! – о жестокую твердь с поднебесных тех эмпиреев.
И – забился в ужасающих корчах и завскрикивал в отчаянии:
– Пакость! Какая пакость!!
Сидел потом на ступеньке крыльца. Мысли шли ровные, без жалости, спокойные.
Сидел в ночи и разбирался в своей жизни – как в унылом сером тряпье. Грустно и просто становилось ясно: ничего из жизни не получилось. Казалось, не только ни единого светлого момента, но даже и сколько-нибудь по-настоящему мрачного – не было за прошедшую жизнь.
Серенькая унывная пыльная дорога тянулась под бессолнечными небесами. И шел по этой дорожке смирненький малоприметный странничек с тощей котомкой за спиной. Это и был Жужиков… И шел он по этой дороге не потому, что было куда идти. А потому – что под ногами была дорога и по дороге этой надо было куда-то идти.
Не свою, а для кого-то другого приготовленную жизнь жил. Потому-то никогда и не чувствовал себя – на месте. На своем месте. Потому-то всю жизнь вяло всем подчинялся.
За всю жизнь ни единого раза не ощутил себя в жизни как на солнечной, полной воздуха и простора улице. Вся жизнь прошла как бы в желтеньких потемках узенького, заставленного скрипучими шкапчиками редакционного коридорчика, в котором с клеенчатой папчонкой под мышкой, утесненный и хранящий на лице готовность к заискивающей улыбке, торкался он от одной дверки к другой дверке.
Всю жизнь прожил, словно ссутулившись. И не сказать, что от тягости какой-то ссутулившись. Просто – в такой-то позе безболезненнее и безбоязненнее было быть.
А ведь был, был талантишко кое-какой! Остались ведь в памяти горделивые обмирания, восхищенные повизгивания в груди, ощущения краткого лёта, застигавшие иной раз над листом бумаги. Было ведь что-то!
«Но они меня убивали! – с ужасом открытия вскрикнул он. – Они меня убили!» – с несказанной жалостью к себе и с радостью ухватился за эту мысль Жужиков, вспомнив бесконечные как бы обмороки мелких потерь и копеечных катастроф, которые он переживал за свою писательскую жизнь, то и дело обнаруживая в рукописях бесцеремонные изъятия, хамски-насмешливые вопрошания на полях, наглую, бездарную редакторскую отсебятину. «Да, да! Они убивали! Чуть-чуть высовывался, чуть-чуть пытался о чужом сказать хоть капельку по-своему, они тут же и взъярялись, право слово! Всяк сверчок знай свой шесток!»
(– А это, позвольте, что такое? «Дым от далеких пожарищ…» – Сравнение, так сказать… – Ну к чему тут здесь, Антон Павлович, «дым»? Да еще «от далеких пожарищ»? Не спорю, это, может быть, и свежо, но – не к месту! Вы согласны? – Да, да. Пожалуй…)
Ах, как прямо-таки заскулило в нем все при воспоминании об этом несчастном «дыме от далеких пожарищ»! Какую горчайшую вдруг испытал вину перед словечками этими! – словно перед детишками, которых бросил на произвол беды, сам спасаясь!..
«Надо было стоять! Надо было не соглашаться!» – с тоской восклицал он, прекрасно зная, что никогда не умел он этого – ни «стоять», ни перечить.
Много ли кнута надобно смирному рабу? Уже вскоре и сам вовсю старался, чтобы не обеспокоить редакторский карандаш. Вскоре уже и сам навострился писать в той удивительной сероватой монотонной манере, которая редакторов не обеспокоивала, а читателя, сумевшего одолеть рассказ или повесть до конца, приводила в недоуменное даже восхищение: «Читал-читал. Ну, прочитал… А о чем там было?»
Потом-то, поднапрягшись, читатель вспоминал: «Ах, ну да! Он, она, трали-вали…» – и в мгновение ока забывал прочитанное навсегда. Если и оставалось у него какое-то впечатление от жужиковского творчества, то было это впечатление скучноватого, жалковатого жульничества, не вызывающего даже желания разыскать и дать по морде убогому тому обманщику.
…О многом брезгливо думалось Антону Павловичу в ночь того безжалостного судилища.
Спокойно и устало было решено: туши лампаду, никаких тебе надежд. Одна теперь забота: обочинкой добрести как-нибудь до отставочки, кое-как-нибудь оплаченной.
И когда поднялся со ступенек Антон Павлович Жужиков, поднялся со ступенек, можно сказать, совершенно новехонький Антон Павлович Жужиков – словно бы выгоревший изнутри, сухой, легкий. И было этому новенькому Антону Павловичу ясно-понятно как божий день: невозможно писать ему больше, невозможно!
С этого вечера будто бы два персонажа поселились в Жужикове. Один – виноватый. Другой – виноватящий. Один – то ли после дурной болезни, то ли после отбытия наказания. А другой – как бы над ним надзирающий, бдительно следящий, чтобы не свихнулся, придурок, не свернул с магистральной дорожки жизни.
И жить стало ясно – уныло и ясно.
Но тут – как назло – опять припорхнуло письмецо из Чуркина.
«Дорогой Антон Павлович!
Нужно ли описывать мой щенячий восторг, когда вдруг! пришло от Вас! мне! Ваше!! Как бесконечно Вы добры! Как деликатны и скромны в своем письме! (Неужели многочисленные похвалы, которые, уверена, низвергались на Вас за Ваши замечательные произведения, никак не отразились на Вас?) Вы – именно такой: добрый, мягкий, ласковый, каким я и воображала Вас, читая (ежедневно! как „Отче наш!“) Ваши повести и рассказы. Огромное Вам спасибо. Вы даже представить себе не можете (впрочем, как это я? – Вы – и вдруг „представить не можете“?), что – значит для меня, для нас Ваше письмо в этой заповедной глуши! Это – как луч света в темном царстве.
Вот уже несколько дней хожу, как именинница, улыбаюсь невпопад, и все надо мной подсмеиваются: „Уж не влюбилась, ли ты, Эльвирка?“ А что я им могу ответить? Если не врать? Да! Влюбилась! В прекрасные книги прекрасного писателя влюбилась – как девчонка! по уши! И уже жизни себе не представляю без этих книг, и, ей-богу! готова глаза выцарапать тому, кто скажет худое слово об моем возлюбленном писателе! Таких, правда, нет. Некому глаза выцарапывать. Я тут набрасываюсь на всех, как полоумная: „Еще не читали? Жужиков! „Пути-дороги“! Неужели нет? А „Трава повилика“?“ – и всем сую Ваши дивные произведения, все читают, и все сходят с ума. А если кто-то и пытается слово против сказать, я – как Ваша Анфиса становлюсь. Готова всякому встречному за правду глаза выцарапать! Но я это шучу, конечно. Насчет выцарапать. Люди – не слепые, и они видят, где хорошо, а где плохо. И все в нашем Чуркине во всем относительно Вас согласны: прекрасные книги! Лучшее, что было написано со времен „Поднятой целины“ М. Шолохова, „Кривуль-реки“ Д. Фарафонтова, „Цемента“ Ф. Гладкова. Я не согласна с Вами: что это значит „есть более достойные восхищения“? Да плевать мне, извините за грубость, на них! Разве это они, „более достойные“, заставляют меня каждый день проливать светлые слезы над образом старухи Веденеевны? Или это они, „более достойные“, нарисовали мне такую Анфису, которой я хочу подражать и подражаю? Не надо излишне скромничать. „Скромность – мать всех пороков“. А Ваши дивные описания природы! А ваш язык – родниковый, жемчужный! Право, это даже порой чересчур – так ласкать слова! „Впереди зеленели молоденькие березки, как девчушки, гурьбой выбежавшие на опушку. Большое облако, похожее на корабль, плыло в небе. Анфиса, раскинув руки, лежала на копне…“ – вот видите, я даже готова наизусть читать Ваши строчки – даже, Вам, создавшему их, чтобы Вы очень уж не скромничали!
Спасибо Вам, милый Антон Павлович! С той поры, как я наткнулась на Ваши книги, мне значительно легче и веселее жить в этой глуши. Так прекрасно обнаружить на земле человека, который звучит в унисон! Пишите! Если не секрет, над чем Вы работаете сейчас? Или это „тайна“? Так хочется прочитать чего-нибудь новенького, вышедшего из-под Вашего пера! Я знаю, конечно, что писем Вы получаете грудами и Вам, конечно, не до провинциальной девушки из какого-то там Чуркина, и все же… Сумели же Вы написать мне раз! Может быть, письмо, которое я храню отныне как самое дорогое, – не последнее? А? Это было бы такое счастье!
Здоровья Вам! Успехов в творчестве и в личной жизни! Любящая Вас и Ваше творчество Караваева Эльвира, 25 лет, техник».
VI
И вновь – как после первого письма – он воскликнул:
– Дура! Вот дура!! – тотчас, впрочем, слегка укорив себя: «Зачем этак-то, грубо? Она ведь искренне, от души…»
Что-то вроде и благодарности почувствовал он мельком: в минуту творческого, как говорится, кризиса… почувствовала… поспешила на помощь…
А потом, через время, и вовсе вдруг пыхнул восхищенной, горькой нежностью: «Родная душа! Вот именно: „родная душа“! Одна-единственная на всем белом свете родная душа, которая понимает, готова помочь!»
Однако, опасливо памятуя о конфузе, разразившемся после первого письма, постарался удержать себя в узде: «Восторженная девчонка. Не очень умная. Может, даже больная. От нечего делать. В глуши. Навоображала черт-те что. А ты уж и рад-радехонек!»
Но, заметим, значительно приподнялось самочувствие у Антона Павловича.
Через некоторое время, продолжая размышлять о письме, он вот что еще подумал: «Но ведь на пустом-то месте многого не навоображаешь! Что за фокус? Может, я не так уж и прав, когда вовсе отказываю своим произведениям в художественности? Все-таки в мире много еще непознанного… Может быть, вот что произошло: то, что я видел, чувствовал, когда писал (плохо написал, конечно, скучно…), – оно какими-то загадочными путями, флюидами там какими-то, все же сообщилось ей? Ведь и Анфиса, наверное, и березки эти, тьфу, „как молоденькие девчушки“ – я ведь наверняка видел их, когда писал! И вот виденье мое, чувствование мое каким-то волшебным путем, телепатией какой-то в точности передалось Эльвире?»
Тут же, понятно, былая мыслишка приподняла головенку: «…с беспощадной требовательностью, присущей ему…» Может, чересчур уж слишком я – себя? А? Обычное святое недовольство, завышенные мерки?.. —
но он тотчас со злобой окоротил себя:
– Будя! Будя! Все это было уже! Вспомни лучше, как грязью умывался, творец!
В очередной раз перечитывая письмо, он вдруг вздрогнул с приятностью: «…Любящая Вас и Ваше творчество…»
Разнеженно и сладко ворохнулось в низу живота. Замшелая струнка сконфуженно взгудела. «А что-с? Чем черт не шутит?» – вздернул по-петушиному головенку – в полушутку, в полунасмешку, но – наполовину и всерьез.
…Вовремя, ничего не скажешь, прибежало письмецо.
Подобие перемирия наметилось между двумя Жужиковыми. «Ладно, – сказал один другому, совсем уже впавшему в ничтожество. – Как ни странно, кто-то еще верит в тебя. Попробуй. Может, что-то путное и получится. Хотя – вряд ли».
О чем писать, как писать – Жужиков теперь и вовсе не представлял. Но, странное дело, писать его влекло неудержимо. У него аж зудело внутри от сочинительского вожделения.
Более того – уверенность появилась! – что сможет он, что дождется в себе какого-то нужного напряжения, совокупного какого-то усилия всех внутренних сил, которое наконец-то позволит ему смочь.
У него теперь было явственное ощущение, что в голове его безостановочно вращаются тяжкие какие-то жернова; ссыпаются-пересыпаются груды пуговично бренчащих слов; взбалмошно, как в настраиваемом оркестре, провозглашаются обрывки музыкальных словно бы фраз; кто-то с кем-то беспрестанно разговаривает, спорит…
Глаза саднило. Весь он был постоянно взвинчен, раздражен, но и – настроен на раздражение, искал раздражения (дабы еще больше мучиться им?..).
Засыпал теперь мгновенно, камнем проваливаясь в дегтярно-черную тьму, и спал без сновидений.
Характером сделался заметно хмур и сварлив.
Жену, Татьяну Ильиничну, когда она вознамерилась поселиться на лето в Кукуеве, он выжил. Ну, не сказать, что буквально выжил, а дал ей ясно понять, что жаждет сейчас одиночества для серьезной (такой серьезной, какой еще не бывало) работы.
Татьяна Ильинична перебиралась в Кукуево, он – уезжал в Москву. Она приезжала в Москву опекать его, Жужиков тотчас начинал собираться в Кукуево… В конце концов даже до Татьяны Ильиничны дошло, что лучше не надоедать сейчас Антону Павловичу своим присутствием: затеяла ремонт в городской квартире, под этим предлогом появляться стала на даче не чаще раза в неделю.
Работе, которой не было, жена, конечно, мешать не могла. Дело в другом. Татьяна Ильинична невольно вмешивала свое присутствие в ту постоянно и напряженно живущую связь, которую Жужиков тщательно и суеверно поддерживал в себе, постоянно как бы настраивая себя на Чуркино – на источник ровно льющейся оттуда веры в него, симпатии и тепла…
Ему как-то вообразилось, что Эльвира – благо время-то летних отпусков! – возьмет вдруг и нагрянет к нему, в кукуевское его уединение. «А почему бы и нет?» – сказал он, хотя и был уверен, что это чушь собачья.
Был уверен, что чушь это вполне собачья, но тем не менее в доме прибрался. Именно в этот период он начал бриться каждодневно. Все чаще ловил себя на ощущении, что он не один на даче. Вернее, он – один, но вот-вот откроется дверь и войдет Эльвира.
Не один раз и не два обмирало и начинало колотиться сердце, когда по дороге в поселок замечал вдруг женскую фигуру впереди: «Эльвира!» – с волнением ждал, когда она свернет, поспешно придумывал первые фразы для разговора…
Понятно, что каждый раз болезненное постигало разочарование. Но – тяжкая дрожь этих волнений, надо заметить, была не без приятности: что-то молодое вспоминалось, сладко-медленное, мучительное, желанное.
«Чушь собачья! – злился он сам на себя. – Окажется твоя Эльвира крокодилицей хромоногой! Что тогда делать будешь?»
Будто угадав эти мысли, Эльвира прислала третье письмо.
Кроме обычных и уже привычных, и уже наркотически-желанных похвальных слов, после трогательно подробного сравнительного разбора жужиковской «Повилики» и совершенно Антону Павловичу неизвестной «Едрень-травы» Д. Левинсона (сравнение, натурально, было полностью в пользу Жужикова) Эльвира написала:
«…Я боюсь, что я представляюсь Вам какой-нибудь полунормальной без меры восторженной старой девой, которая от нечего делать выбрала себе предмет для обожания и – знай себе! – обожает издали, без всякого риска показать свое истинное лицо. Ей-богу, Антон Павлович, я не такая! Вот вам, в доказательство, моя фотка, чтоб Вы не подумали, что я какая-нибудь уродина. А интересно, какой Вы себе представляли меня? Только честно…»
Господи! Какое дивное лицо глянуло на него со снимка!
Его даже холодком продрало: вот именно эта прекрасная молодая женщина пишет ему восторженные письма?!
На него глядело одно из тех нежных, слабо и грустно как бы светящихся изнутри женских лиц, которые мгновенно и жадно рождают доверие к себе, восхищенную растроганность и быстрое желание что-то предпринять – в себе ли, в мире ли, чтобы никогда не исказилось этакое чудо-лицо гримасой невзгоды какой-то, беды, боли!
Воровское и суетливое проглядывало в жестах Жужикова, когда, наглядевшись, он поставил фотографию сначала перед собой на письменном столе, потом, передумав, стал запрятывать в книжку, лежавшую тут же, а затем – упокоил в полувыдвинутом ящике стола, таким образом полузакидав фотографию листами бумаги, чтобы, глянув, не составляло труда тотчас увидеть большую часть этого дивного лица.
Детская опаска, что вот сейчас спохватятся и отымут, догадавшись, что не по чину ему, не по его ничтожеству владеть столь драгоценной вещью, – овладела им!
В письме она просила – если не сочтет он ее просьбу наглостью, если есть хоть одна, пусть завалященькая, фотка – прислать и ей свое изображение лица.
С большой озабоченностью Антон Павлович перебрал пяток-другой обнаружившихся у него фотографий, но все они были вот именно «завалященькие»: везде Жужиков вид имел пришибленный, как в сумрачную воду опущенный.
Он специально съездил в Москву, разыскал полузнакомого фотографа – красноликого, с виновато трясущимися руками еще довольно молодого человека. Испросив авансу, тот сразу же сбегал в магазин и затем часа три, не меньше, фотографировал Жужикова, приговаривая сначала: «Усё будет в лучшем виде!», а потом (после третьего стакана): «Не фокус навести на фокус, фокус – деньги получить!»
Дня два после этой поездки Антон Павлович прожил в беспокойстве: получится или не получится?
Получилось – «в лучшем виде». Не зря тот красноликий фотомастер был когда-то лауреатом каких-то там бьеннале. Жужиков на снимках выглядел страстотерпцем, изнуренным, но еще и полным сил искателем истины – человечным, многодумным, что-то этакое носящим в себе, что-то этакое в области духа обещающим.
Он всматривался в свое лицо с удивлением, даже с опасливым ожиданием: неимоверность некую, глубь, мудрую горечь прозревал он в этом человеке…
Иногда – но не чересчур часто! – он ставил фотографии рядом – Антона Павловича и Эльвиры – без особенной какой-нибудь мысли, просто так будто бы… с единственным будто бы желанием еще разок испытать довольство от того, что два эти лица не опровергают друг друга.
Только, ради бога, не надо сразу думать, что ему что-нибудь этакое, как бы сказать, амурное вообразилось! Может быть, конечно, и вообразилось, но – как смутное вероятие, очень смутное, как фигура сочинительства.
Впрочем, не скроем и того обстоятельства, что ощущение приторно-мутного угара, который время от времени заволакивал голову, заставлял вдруг скромно бесноваться, раздражаться, места себе не находя, разражаться ни с того ни с сего бессловесными тирадами в ее адрес… – вот это угарное ощущение, честно отметим, очень напоминало ему те две-три главки из биографии, когда он бывал влюблен, что называется, без ума.
Не скоро ответил он на это письмо.
Не терпелось конечно же поскорее переправить в Чуркино и свой портрет, но письмо, увы, все никак не складывалось.
Те бессловесные тирады, которыми он, как сказано, разражался в адрес Эльвиры, как по камере вышагивая по саду от калитки до сарая, – те тирады были столь чрезмерно возвышенны, столь смешно-старомодны и пылки, столь беззастенчивы по отношению к себе, что он, даже он в помраченном своем состоянии понимал: нельзя, невпопад писать ей сейчас такие письма.
…Однажды сорвался с хождения своего между сараем и калиткой, вбежал сломя голову в дом, бросился к бумаге!
«Горе! – написал он. – Какое горе, милая Эльвира! Какая мука: читать Ваши трогательные письма, смотреть на Ваше дивное лицо и знать, что все это – не мне! Да, да! Не мне, а кому-то другому, который неведомо как и зачем вообразился Вам! А главное – со всей жестокостью той правды, которую я знаю само себе, признавать, что я уже ничего не в силах сделать, чтобы стать вровень с тем – воображенным! – которому Вы пишете свои письма, которому прислали свой прекрасный портрет, к которому обращены Ваши такие наивные и пылкие похвалы!
Я не знаю, один ли я виноват в этом, но я – нынче – это серое убогое ничтожество. Как называет дочь: Акакий Акакиевич по ведомству русской литературы. Может быть, единственное мое достоинство (настоящее), что я вполне осознаю это… Мне иной раз чудится насмешка в Ваших, таких трогательных, восторгах по поводу моих сочинений. Нет, конечно, я знаю, что это не так (да и зачем Вам это?). Но от этого еще горше осознавать мне свою Вину, читая Ваши похвалы моим беспомощным опусам. Свою ужасную вину я вижу в невольном… (но почему же в „невольном“? – вольном! – нет-нет, скорее: безвольном) участии в том негодяйском разрушении и унижении Великой русской литературы, которые длятся не один уже десяток лет. Ведь, если Вы вполне искренне восхищаетесь написанным мной, то (простите, ради бога!) это говорит о том, насколько занижен – катастрофически!!! – уровень восприятия Вами литературы, насколько искажено понимание того, что в литературе хорошо, что средне, а что – ниже среднего! А Вы восхищаетесь Жужиковым… Я-то ведь знаю (и с полной откровенностью говорю Вам об этом): мой уровень далеко ниже среднего.
Какое горе для меня, что Вы появились в моей судьбе так поздно! Какое трагическое, ничем не восполнимое пространство лет между нами! Ах, если бы Вы явились мне 20, 30 лет назад! Может быть (да наверняка!), я был бы другим теперь, стал другим. Я не истратил бы эти тридцать лет так бездарно, так гнусно, так безответственно. Передо мной всегда стояло бы Ваше такое прекрасное лицо, на меня глядели бы Ваши такие строгие и нежные глаза… и я ни за что не позволил бы себе (уверен!) растрачивать свою жизнь, свою единственную, последнюю жизнь на жалкое и унизительное блуждание по редакционным коридорчикам, на выхлопатывание грошовых, унизительных похвал ничтожных (и в сущности, таких же жалких, как я) людей… на пристраивание – абы только напечатали! – позорных своих сочинений, – в общем, на все то, что и составляет нынешнюю подлую жизнь российского литератора. Я был бы другим! О! Я был бы горд, горек, независим! Я вкалывал бы над письменным столом – как шахтер в забое – ожесточенно, упорно, яростно! Я – добился бы! Нет, не известности, не благополучия… Я добился бы главного: чтобы имя мое произносили с уважительностью! Не с той мнимой уважительностью, с какой произносят ныне имена тех, кто всеми правдами и… (нет, не правдами, а всегда одними лишь неправдами – о себе и о других!) всполз наверх, попирая других. О нет! Не так произносилось бы мое имя… Обо мне говорили бы – и друзья, и враги – так, как говорят о Мастере, который жил и живет без укоризны, который честен как русский писатель, который ни единого раза даже возможности для себя не допустил прельститься синицей сиюминутного успеха в ущерб высокому журавлю…» —
тут случилось с Жужиковым ужасное!
Быстрая карающая боль вломилась в кисть его торопливо пишущей руки. Слабенькое сплетеньице субтильных косточек, тоненьких сухожилий, сухощавеньких волоконец – вдруг мгновенно скрючилось (Жужиков с досадливой болью вскрикнул), затем пружинно растопорщилось, и карандаш вылетел из руки – как выстрелил! – в сторону, с тощим стуком покатился затем по полу…
Должно быть, Антон Павлович чересчур уж заспешил в письме. Должно быть, не стерпела писательская длань, привыкшая к медленным, ленивым каракулям, столь оголтелой скорописи.
Назавтра врач объяснил ему, что явление это называется «писчая судорога», волноваться в общем-то нечего, у пишущей братии такое нередко бывает, у Льва Николаевича, к примеру, частенько случалось…
Жужиков, натурально, возгордился. Руку теперь, как Керенский, носить стал за отворотом пиджака.
«Не вовремя как… с рукой-то!» – жаловался он время от времени сам себе, подразумевая, видимо, что, не будь этой клятой судороги, творческий процесс уже давным-давно несся на всех парах и парусах.
Письмо к Эльвире, незаконченное на рассуждениях о высоком журавле, он запрятал в самые низы письменного стола, перечитать побоявшись. Если и вспоминал, то вспоминал с некоей опаской и неловкостью – как вспоминают поутру о пьяных нараспашку вечерних откровениях перед случайными людьми.
Но и некоторое ободрение изыскивал он в воспоминании этом: «Ах, как писалось-то лихо! Как душа-то навыворот выворачивалась! Может, и вправду не опустела эта чернильница… как говорится?»
Письмишко он ей все же нацарапал.
Извинился за почерк. Скупо упомянул о писчей судороге. (Кто хотел, тот без труда должен был понять, сколь изнурительна писательская жизнь.) «Фотографию посылаю без автографа, – написал он. – Даст бог, с рукой уладится, тогда пришлю настоящий свой портрет, где я и умный, и красивый и надпись сочиню к тому времени афористическую. А сейчас, простите, расстроен: столько было планов! столько задумок, довольно забавных! А тут – такая оказия! А Вы, Эльвира, пишите! Я уже привык к Вашим милым письмам!»
Грустная и злая правда, которую он посмел сказать о себе в наполовину написанном письме, уже не могла, единожды изреченная, не жить в нем.
Все чаще, хоть и на краткие миги, черно вспыхивало в душе горделивое горькое чувство человека, который сжег за собой все мосты, который перечеркнул – наотмашь, жирным крестом – прошлое свое.
Но – именно здесь – начиналась Надежда.
Именно в эти черные миги начиналось странное, некое трепетание в сердце, порывание куда-то, восторг нелепый.
Разливанной тяжкой дурнотой, слабеньким дрожанием в членах заканчивались эти черные восторги, но…
но успевала иной раз вспыхнуть стереоскопическая предгрозовая ясность во всем, на кратенький миг успевало сделаться все – до изумления простым, понятным, связным! и главное, успевало почудиться, чудилось, что нет уже никакого секрета, как, какими словами, каким тоном рассказать миру о том, каков он на самом-то деле, этот мир!
Иной раз он даже отчетливо видел как бы вспыхивающие перед взором, уже написанные строки. Они были совершенны, он понимал это вполне, но, отчетливо начертанные, начертаны они были на чужом еще языке. Доступны были созерцанию, но внутрь сущности своей не допускали. Еще не допускали.
Чувство голодного раздражения, чувство бессилия оставляли по себе эти мучительные порывания. Но в этом не было окончательной безнадежности. Казалось, что это и не бессилие вовсе, а просто-напросто еще непреодоленное неумение.
И что-то чрезвычайно ободряющее было в том, что золотые те письмена являются его взору с неторопливо нарастающей частотой и постоянством.
Стоит ли особо удивляться, что день ото дня ощущал себя Антон Павлович личностью, как бы сказать, все более значительной, строго устремленной куда-то, приобщенной.
И все чаще ему казалось: стоит чуть-чуть лишь усилиться мыслью, надсадиться еще на самую малость воображением, и – сумеет продраться он сквозь тупую препону словесной своей слепонемоты! – постигнет наконец!
А ведь не забывайте, что тихим своим чередом шло и обыкновенное житье-житьишко Жужикова: складывание-перекладывание с места на место неважнецких сюжетиков, многодумное обмусоливание копеечных мыслишек, рассматривание словечек обтерханных – унылое, так сказать, копание в бедняцком сундучишке своем, в ветхой рухляди, тяжко скопленной за многие годы… И вот это разительное, разящее противосуществование в нем одновременно и Мастера, как бы почти уже осязающего, как до́лжно писать, и все того же мелкокалиберного автора «путей-дорог», «трав повилик» и березок, выбегающих на опушки, как стаи девчушек, – вот это одновременное, враздрай их существование прямо-таки изжигало теперь Антона Павловича, бесило, лихорадило.







