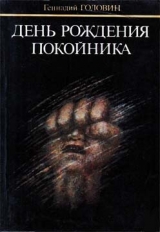
Текст книги "День рождения покойника"
Автор книги: Геннадий Головин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Нам нравилось, как горит в печи огонь. Нравилось незнакомое, ужасно приятное и, должно быть, очень древнее чувство защищенности, спасенности, которое рождалось в нас при виде живого огня.
В комнатах у нас всю зиму было двадцать шесть – двадцать восемь градусов. До какой температуры раскалялась печь, не знаю, но однажды у нас даже запалился, как под утюгом, пододеяльник на постели, близко придвинутой к печной стене.
Киса нас поражала. Она всегда норовила улечься поближе к теплу, как бы жарко ни было. Однако случалось, что и она не выдерживала: в полуобмороке сползала на пол охолонуться и – становилась на это время любимейшей Федькиной игрушкой.
Он таскал ее в эти минуты по полу, как тряпку (очень бережно, правда, держа зубами за тощую Кисину шкирку), заволакивал под диван и будто бы забывал там ее на время. Снова вытаскивал, клал в самые неподобающие места: в груду дров, например, или на журнальный столик, или в блюдце, из которого в обычное время Киса пила свое молоко… Он, кажется, воображал ее какой-то своей добычей, что ли? А ей – ей, несомненно, доставляло удовольствие воображать себя именно добычей какого-то жуткого зверя, не Федечки, конечно…
Вскоре на ночь мы стали отправлять их на террасу.
Во-первых, Федьке было безусловно вредно спать в такой жаре. Во-вторых, как сказано, он упорно забывал проситься на двор. Ну а в-третьих, Киса поимела обыкновение затевать свои шумные игры с бумажками и щепками непременно среди ночи, а на рассвете спать укладывалась нигде, кроме как на драгоценном животе моей супруги – оглушительно к тому же треща-мурлыкая при этом.
Но им прекрасно было и на террасе, вдвоем.
Когда среди ночи я выходил к ним, Федька, спавший на кушетке, тотчас поднимал голову и принимался преданно, хоть и лениво, постукивать хвостом. Мгновением позже где-то под брюхом его зажигались два зелененьких кошачьих огонечка, и тоже приветственное, безмерно довольное, начинало звучать мурчание Кисы.
Вот так они жили, Федька с Кисой. Как кошка с собакой.
А Нефертя, Кисина мамаша, между прочим, еще раз навестила нас, уже среди зимы.
У меня создалось впечатление, что это было нечто вроде инспекторской проверки. Все ли, дескать, необходимые условия созданы для жизни и произрастания ее ненаглядных деточек?.. И мы, вспоминаю, с интонациями прямо-таки извинительными объясняли ей, что серенький котенок пропал, а куда пропал, не ведаем, и нашей вины в том, честное благородное слово! – нет.
Вряд ли, однако, Нефертей руководили материнские чувства. Кису, изрядно подросшую к тому времени, она явно воспринимала как незнакомую кошку-подростка. Они даже коротенько и свирепо сцепились возле миски, когда Киса, забыв о субординации, сунулась туда первой.
Нефертю мы заманили в дом и не выпускали до утра. У нас тогда завелась мышь, которую Киса то ли по малолетству, то ли по лености ловить отказывалась. Нефертя нам мышку среди ночи изловила, утром ушла, и больше я ее никогда не видел и что с ней – не знаю.
* * *
В начале декабря лег, наконец, настоящий снег.
Он и до этого выпадал несколько раз и несколько раз довольно изрядно – приходилось даже расчищать дорожки в саду. Но тому снегу у нас почему-то не было веры. И в самом деле, полежав с полдня, он уходил в землю. Бесследно. Назавтра даже странно было вспоминать о нем.
Но этому снегу, декабрьскому, мы поверили сразу.
И со странно одинаковой улыбкой – полурадостной, полутревожной – сказали друг другу: «Все! Зима!»
Мы, признаться, побаивались ее. Не уверены были, как выдержит наш дощатый домик, как выдержим мы все эти трескучие морозы, завывающие метели и прочее.
Зима, однако, повела себя спервоначалу удивительно мирно и скромно. Словно успокоить норовила: «Зря вас пугали мною, горожане калориферные!»
Дня два-три с серенького, совсем низко опустившегося неба шустро, словно бы даже торопясь, сыпал снежок – невзрачный, деловитый, мелкий. Он быстренько и умело преобразил все окружающее на потребу новым зимним веяниям: понастроил башенок, карнизиков, бордюрчиков. Все, что можно, оконтурил белым. Цвета, кое-где еще жившие, придушил, а сверху припудрил…
И вот – черно-серый, мрачноватый графический мир воцарился вокруг нас.
Мы приуныли.
Странное, тягостное было чувство – будто глазам душно.
Зима, впрочем, и вправду не имела, кажется, намерения отравлять нам жизнь. Сжалилась. Ободрила через денек-другой. Устроила праздничек.
Однажды утром вдруг ударила легким морозцем, от которого тотчас: заскрипел под ногами снег – весело! запели ступени на крыльце – звонко! завизжали половицы на террасе – по-воскресному бодро!
Разогнала с небес хмарь. А потом так ударила по картине – косо ударила, мастерски! – солнечным светом, что снег в единую секунду вдохновенно воссиял, засинели глубокие тени, небо сделалось – акварельно-голубым… Мы глянули – и дружно ахнули: «Ах, красота-то какая!»
…Ну и, конечно же, принялись на разные лады повторять: «Мороз и солнце. День чудесный…»
Какое ободряющее наслаждение было повторить Пушкиным расставленные слова!
Для нас-то главное чудо в этих стихах было вот где:
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит натопленная печь… —
и, ей-богу, нам уже не так страшна была предстоящая зима!
– А знаешь? – сказал я жене. – Не велеть ли в санки кобылку бурую запречь?
– Велеть, – согласилась она. – И посетим поля пустые, леса, недавно столь густые… – и вздохнула грустно.
Нам все-таки было жаль ушедшей осени.
Как было жаль осенью ушедшего лета.
Как будет, наверное, весною грустно – оттого, что зима прошла.
Итак, выпал снег. Тысячи следов запестрели в поселке.
Беспомощно и растерянно взирали мы на эти письмена. Кроме собачьих, все следы были незнакомые.
До чего же, господи боже, безграмотны мы были, горожане несчастные! Даже стыдно иной раз становилось, честное слово!
Спасибо, что нашлись в сарае старенькие номера детского журнальчика «Юный натуралист» с картинками. По этому букварю мы стали учиться. Довольно скоро уже уверенно отличали кошачьи, например, следы от лосиных.
Вообще, ужасно мучительна была эта наша городская слепоглухота! Слышим летом в лесу чей-нибудь потешный, затейливо выводящий сложнейшую фиоритуру голосок. «Кто это?» – с улыбкой спрашиваем друг друга. «Птичка…» – с грустным стыдом отвечаем друг другу.
Один из писателей удивительно сказал, что человека от всего другого сущего на земле отличает, может быть, единственно это в первую очередь: стремление, необходимость, жажда давать имена окружающим его вещам. Он же совершенно гениально заметил, что человека втрое больше мучает вещь, названия которой он не знает.
В самом деле… Ну какой мне, казалось бы, прок от того, что я буду знать имя вот этой изящной птички, хлопочущей под окном над кистью рябины? Не знаю.
Но я знаю, что, когда, почти нечаянно, я вспомню: «Свиристель!» – и словно это перестанет вдруг быть просто слогосочетанием, гениально кем-то придуманным (тут вам и «свист», тут и «свирель», тут вам и «трель»), а станет именем вот именно этой птички, чье одеяние, выдержанное в благороднейших серо-ореховых тонах, столь живописно точно украшено двумя очень сдержанными цветными ударами кисти – синим и красным, – на чьей головке так неожиданно и экстравагантно, дерзко и весело торчит хохолок, словно бы рифмующийся с тонко оттянутым клювиком ее, – когда «свиристель» станет именем вот этой и никакой другой птички, я знаю, мне станет почему-то легче жить на свете. Почему-то – радостнее жить и веселее.
Видимо, в такие вот мгновения я становлюсь менее чужд окружающему меня миру. А я, видимо, – сам того не сознавая, – от этого отчуждения очень и очень страдаю.
Первыми мы научились отличать заячьи следы.
То ли в тот год было какое-то невиданное заячье нашествие, то ли теперь для Подмосковья это обычное дело (тогда честь и хвала охотохозяйствам!), но только зайцев в ту зиму мы навидались вдоволь. Не меньше, осмелюсь сравнить, чем современный ребенок, регулярно глядящий мультфильмы. По поселку они прыгали даже среди бела дня.
Вот уж раздолье стало для Джека!
Когда мы выходили погулять по поселку, его страдальческий словно из-под пытки, визг-стон доносился до нас беспрестанно – то слева, то справа, то со всех, казалось, сторон одновременно.
Он вылетал к нам из-под какого-нибудь забора – едва живой, мучительно взбудораженный безрезультатным гоном, но, судя по морде, всегда донельзя счастливый. Да, это было его дело!
Убедившись, что с нами все в порядке, что мы по-прежнему продолжаем наше довольно величавое, церемониальное, я бы сказал, шествие по аллее, Джек торопливо исчезал снова. И снова раздавался его индейский вопль.
Братишка с ним редко бегал. Я с лета заметил, что он с некоторой даже иронией относится к охотничьим талантам своего братца. Но однажды Джек не только нас озадачил, но, похоже, и Братишку немало поразил, а случилось это так…
Джек, как обычно, гонял по окрестным садам зайца, а мы, как обычно, потихонечку себе гуляли. На визги Джека не обращали уже никакого внимания, но вдруг – будто по команде – враз остановились!
Какая-то новая, ликующая нота зазвучала в голосе Джека: он явно догонял! Он, слышали мы, вот-вот должен был схватить за хвост свою сладостно ненавидимую добычу!
Все произошло у нас на глазах.
Заяц выскочил из-под забора и вовсе даже не испуганно, скорее, просто деловито, помчал через пустырь.
Джек отставал от него на два скачка.
Заяц мчал прямиком к лесу. Лес был за пустырем, за крайними дачами. Дачи были поставлены недавно и, естественно, что дорогу зайцу преграждали заборы – совершенно новехонькие, лишь этой осенью построенные. Никаких лазеек в них быть не могло – ни для зайцев, ни для собак. Разве что – для кошек, да и то для не шибко кормленных… Заяц, таким образом, был обречен.
Он, видимо, и сам почуял неладное. Еще издали, в беге, сделал пару-другую поисковых движений вправо-влево, выискивая подходящую щель между штакетинами.
Удивительно, как во всем полотне забора он-таки сумел заметить две доски, прибитые (я потом ради интереса измерил) на расстоянии одиннадцати сантиметров друг от друга, а не десяти, как везде.
С треском вломился он именно между ними. Со стороны показалось, что в отчаянии он шарахнулся прямиком в забор.
Как ни странно, он головой и грудью не застрял. Застрял задом. Но все же успел – отчаянным виляющим движением – высвободиться, прежде чем схватит собака! Молодцом оказался заяц.
Однако самое невероятное, самое непостижимое и фантастическое произошло дальше.
Джек – не замешкавшись даже на миллионную долю мгновения ока – с треском, от которого качнулся весь забор целиком, – тоже проскочил!!
Мы ахнули. Сначала – от ужаса. Он непременно должен был расшибиться. Потом ахнули – от изумления.
Ну не мог он этого совершить, товарищи дорогие! Ну никак не мог!
Щель была в одиннадцать сантиметров, как сказано. Когда Братишка сунулся следом за Джеком, он едва только морду – до глаз – сумел в эту щель просунуть. А Джек – проскочил!
Ни тогда, ни сейчас я не могу объяснить себе, даже предположить не могу, как он умудрился это совершить.
Между прочим, зайца он и в тот раз не поймал.
Через пару-другую минут уже оживленно крутился возле нас, остолбенело взирающих на щель в заборе.
Я взял его со спины под лапы, подтащил.
– Ну, покажи, балбес! Как ты это сделал?
Он вырвался. Понюхал забор. Отошел с таким видом, словно хотел сказать: «Нашли дурака! Сами лезьте, если охота есть…»
Когда первый снег лег, Закидуха вот уже недели три как маялся в ожоговой больнице. К этому времени собаки хозяевами уже окончательно признали нас.
После исчезновения Роберта Ивановича они дней десять исправно забегали в его сад. Не сказать, что очень уж тревожились, – скорее, удивлялись… Ночевать, замечу, непременно уходили в закидухинские опилки.
Было похоже, что собаки дали себе какой-то определенный срок, в течение которого будут преданно ждать хозяина. Наконец срок минул – дней, как сказано, через десять, – и они мгновенно, напрочь вычеркнули из своей памяти светлый образ Закидухи.
Теперь, пробегая мимо закидухинского сада, они показывали удивительное и даже, кажется, подчеркнутое равнодушие к месту, где прошло их мохноногое детство, где совсем недавно еще функционировал их обожаемый владыка, где там и сям еще можно было сыскать, если покопаться, не вовсе догрызенные кости времен их счастливого отрочества.
Ночевать в тот вечер они дружно явились к нам на крыльцо.
Спалось им неважно. Да и нам – тоже. Всю ночь они гремели дверью, привалившись к которой спали. Гавкали почем зря. Гоняли по заледенелой земле пустые миски. А на рассвете затеяли по всему саду веселенькую игру с моими штанами, которые кто-то из них (Джек, конечно, кому же еще?) сдернул с веревки.
Было ясно, что оставлять их на крыльце нельзя. Да и холодно там было, ветрено.
Я стал устраивать им жилище под крыльцом.
Заколотил дыры, чтобы не гулял ветер. Убрал битое стекло, банки из-под краски, прочий хлам. Получилась изрядная по величине каморка с выходом под лестницу. Принес несколько охапок сена – сделалось и вовсе уютно, тепло, хорошо.
Чтобы самолично проверить новые условия их жизни, я тоже забрался к собакам.
Они пустили меня и, словно бы понимая юмор ситуации, заулыбались во весь рот. Я лег, и они легли. Один с одной стороны, другой – с другой.
Жена еле дозвалась меня из-под крыльца.
Я лежал там, упиваясь запахом сена, совершенно восхитительным среди зимы, и вспоминал, как в детстве, обиженный родителями, ушел из дома и ночь провел с незабвенным псом моим – Челкашом, в его будке.
Челкаш, помню, совсем не удивился моему появлению. Лизнул в щеку, дал место. И всю ночь грел меня, обнимая лапой и тяжело приваливаясь ко мне всем телом. И ни разу даже не залаял во всю ночь.
А я… – а мне так славно, так легко спалось под его доброй защитой, как не спалось, мне кажется, никогда больше в жизни.
– Если мы, не дай бог, когда-нибудь поругаемся и я хлопну дверью, ты теперь знаешь, где меня искать… – сказал я жене, вылезая из-под лестницы.
– Я заведу на всякий случай еще одну миску, не возражаешь? – ответила мне жена.
Собакам их новый дом тоже понравился. Спать они теперь заваливались, едва стемнеет, а утром, лодыри, даже не сразу и вылезали, когда кто-то из нас выходил на крыльцо.
…Вылезали заспанные, выспавшиеся, благоухающие дивным парфюмерным запахом сеновала, довольные.
Долго и лениво потягивались: то вытягиваясь и ложась всем телом на передние лапы, то проседая сладко дрожащим задом – на далеко отставленные задние.
Они жмурили морды на белый свет и улыбались в предвкушении жизни.
А на террасе уже дымились, остывая, до краев налитые миски – собаки знали об этом, еще и поэтому жизнь была светла, проста и прекрасна.
Они – возьму на себя смелость сказать – были счастливы в те дни. Были счастливы и мы. Оттого, что сумели сделать их такими.
К тому времени дворняги наши сделались неописуемо писаными красавцами.
Однажды к нам в сад забежала собака одного из дальних наших соседей – сорвалась с привязи.
Это была рыжеватая молодая сучка – не слишком-то чистопородная, но все же овчарка. Из тех слегка нескладных, слишком долгих в корпусе, узкомордых желтоглазых овчарок, которых почему-то непременно называют Дианами.
Она, конечно, была крупнее, нежели наши псы, несомненно благороднее происхождением, но – боже мой! – до чего же жалкое впечатление она производила в соседстве с Джеком и Братишкой!
Вся какая-то чересчур легкая, жидкокостная, с жалобно проступающими сквозь тусклую шерсть ребрами – она была ужасно суетлива, лихорадочно, я бы сказал, рассеянна.
Все рыскала-рыскала по саду в поисках неизвестно чего, и чувствовалось, что она прямо-таки клянет себя за дерзость, в порыве которой порвала цепь и выскочила на волю.
А на миску с похлебкой она набросилась так уж неприлично жадно, что наши псы из деликатности даже отвернулись.
Когда явился хозяин, она хоть и поджала виновато хвост, но сунулась к его ногам с явной радостью и облегчением.
Не знаю, может, это была и хорошая собака. Но это была цепная собака.
Наши ребятки в сравнении с ней выглядели этакими молодцами-физкультурниками: сытые на много дней вперед, крепко сбитые, а главное – веселые и уверенные в себе.
Зимой они перестали наконец линять, и шерсть их теперь прямо-таки сияла – вернейший у собак признак здоровья и беспечальной жизни.
Особенно хорош стал Братишка – жемчужно-белый. На солнце шкура его так и брызгала искрами! Недурен был и Джек. Серо-бурая плебейская шуба его, конечно, уступала по красоте Братишкиной, но была зато и гуще, и мощнее.
– Ах, хороши собачки! – то и дело слышали мы, когда все вместе выходили в свет. – Посмотри, какие красавцы!
Нам было приятно, чего уж скрывать. Но и мы, и собаки делали вид, что это не нас касается.
Так безмятежно упивались мы общественным восхищением довольно долго. Пока не встретился на нашем жизненном пути – а если точнее, у магазина – человек, который в единое мгновение внес в наши ряды панику, смятение и ужас.
…Это был обыкновеннейший бич. Из тех самых, что обретаются с утра до вечера возле винных магазинов и уже не вызывают своим привычным видом ни раздражения у окружающих, ни брезгливости даже – одну только кислую жалость и досаду на человека.
Вы таких видывали, конечно. Паршивенькое какое-нибудь пальтецо румынское на нем, тощенькое, негреющее. Брючата дудочками, на коленях вспученные, до смешного коротковатенькие. На ногах – «колеса» – развратно стоптанные, расхлябанные, непременно какого-нибудь ярко-халтурного цвета – красного ли, поносно ли желтого, – завязанные, вместо шнурков, бечевкой какой-нибудь, а то и проволокой. Жгутом скрученный ворот почернелой рубахи, шарфа нет, а из воротника – тощая, кадыкастая, лиловая, как у ощипанного петуха, шея в меленьких белых зернышках…
У них, как правило, плохо запоминающиеся лица: истраченные пьянством, грязно-небритые, и сизый портвейный отсвет словно бы лежит на них.
Он сидел на покосившемся фруктовом ящике и играл с нашими собаками.
Надо бы нам было умилиться, как в старину умилялись: вот, дескать, человек, до последних пределов опустившийся, уже и не человек почти, а вот поди ж ты, играет с собачками. Стало быть, есть еще в нем светлая струна, тронув которую, и т. д…
А жена моя – вдруг обомлела от внезапного вещего страха.
– Ты посмотри! – шепнула она в ужасе. – Что он делает!
Он их гладил.
Он их жадно оглаживал, и было что-то непристойное, растленное в том, как он оглаживает их – торопливо, сладко, – как щупает бока, загривки, как, постоянно ликуя, заглядывает в свои ладони, не обнаруживая в них линяющего подшерста.
– Ах, хороши собачки!
Он повернул к нам лицо, в котором все было нечисто – и кожа, и глаза, и губы, – и улыбнулся, как соучастникам, беззубой улыбкой ласкового гаденыша.
– Какие шапочки получатся! Ваши собачки?
Он видел, что это наши собачки. И наш испуг видел. Потому-то и продолжал цапать, и гладить, и скубать за шкуру то Джека, то Братишку. А они, веселые дурачки, так и вертели вокруг него хвостами!
Особенную гадливость вызывали его озябшие руки. По-бабьи лиловые, они далеко и жалостно высовывались из коротеньких рукавчиков пальтеца, и было противно, что он греет их в шкуре наших собак – эти пухленькие от пьянства, покрытые золотисто-гнойным налетом цыпок руки уже давно не рабочего человека, руки прихлебала, руки лодыря.
– Вы за ними в оба глядите! – посоветовал он и снова улыбнулся, показав корешки желто-черных выбитых передних зубов. – Народ-то нынче знаете какой? И на шапочку обдерут за милую душу… и на шашлычок переделают – такие уж они у вас жирненькие!.. Ну, иди, иди сюда, шашлычок ты этакий!.. – и он схватил вдруг Джека по-новому, нагло и цепко.
– Тебя – самого – гада – на шашлык!
Жена в испуге схватилась за мой рукав.
– Джек! Братишка!
Собаки без всякого сожаления оставили бича и побежали с нами.
Им, конечно же, невдомек было, о чем шла речь. Но, если бы мы даже и сумели растолковать им смысл нависшей над ними угрозы, они все равно, мне кажется, не поверили бы нам! Они людей – любили.
Мы возвращались в молчании и тревоге. То, что нами было услышано, ощущалось как тошнота, как тягостное в чем-то разочарование, как унылый стыд за весь род человеческий.
Бич не преувеличивал. Угроза собакам была.
Я вспомнил рассказ Роберта Ивановича о том, как погиб Зуев.
Он приполз к порогу дома весь в крови, с простреленным животом. Закидуха вместе с собутыльником, оказавшимся в тот момент в доме, бросились по кровавому следу собаки, потом по следам человека, который стрелял. Схватили. Они даже не отколотили его – решили благородно сдать в милицию. А милиция его отпустила. Свидетелей преступления не было. Да и самого преступления, как оказалось, не было. Убить бродячую собаку не грех. Единственное, за что можно было покарать шкуродера, – за незаконное пользование ружьем. Но и ружья не было (тот успел выкинуть обрез в снег).
Еще мне вспомнился мужичонка в электричке, который молодцевато рассказывал своей спутнице о том, как в прошлом феврале на день Советской Армии он был приглашен соседями по лестничной площадке – молодыми парнями, братьями – на шашлычок. Как они посидели, выпили-закусили, а потом как братаны с гоготом повели его смотреть на «барашка» – на останки собаки в окровавленной ванне.
«Они думали, конечно, что меня тут же… того… – похвалялся мужичонка женщине. – А я им спокойненько так говорю: – Ну и что?»
И конечно же, опять – с тоской и досадой – вспомнил я четырехлетнюю девчушку, с которой нечаянно познакомился этим летом. Она играла со щенком. Рассказала, что ее зовут Лена, а щенка – Гена, в честь знаменитого крокодила. И еще она сказала, что, когда Гена вырастет, папа (он обещал ей) сделает из Гены красивую шапку.
«Ну как же так можно?! – говорил я девочке. – Смотри, как он тебя любит! Ведь ты ему как мама! Он тебе верит, а ты его – раз, и на шапку!»
А она мне спокойненько так ответила: «Ну и что?..»
Я потом часто и подолгу думал об отце этой девочки.
– …Руки опускаются! Не могу! – сказала в отчаянии жена, села к столу и заплакала, глядя в окно.
За окном – в сереньких скверненьких сумерках уныло зяб наш поселок. Придавленные слежалым снегом крыши. Заколоченные окна. Серые заборы.
Была середина зимы, самая ее глухая сердцевина: серые дни, серый снег, серое оцепенение.
Дни сменяли дни, а время, казалось, остановилось.
Усилие требовалось, чтобы жить.
Тогда, в январе, мы впервые пожалели себя, живущих так.
Конечно, что-то должно было случиться. Чересчур уж счастливо и тихо нам тут жилось. А мир не любит счастливых (это всякому известно, поскольку всякий, хоть однажды, пытался быть счастливым). И люди вмешались. И кончилась неправдоподобная наша идиллия. И вот жена моя бедная сидела на руинах и горько плакала.
…Продержаться нам нужно было месяца полтора – до весенней линьки. Уже в начале марта, как нам объяснили, собачья шкура становится негодной для выделки, и шкуродеры свой охотничий сезон закрывают. Но – как продержаться?
Мы надели на собак ошейники. Какой-никакой, а все же знак: собака не бродячая, живет при хозяевах, не трожь…
Наивно было полагать, что кусок ремня на шее собаки остановит убийцу. Все же мы во что-то верили.
«Он же видит, что у собаки – хозяева! – горячо рассуждала жена. – Неужели он сможет?! Человек он или кто?!»
Вот именно: «…или кто…»
В магазин я стал теперь ходить один. Жена начинала кормить псов, а я в это время, воровски озираясь, спешил на станцию. Быстренько покупал хлеба, молока, еще что-нибудь и с чувством облегчения, с чувством человека, которого миновала погоня, бежал домой.
Я попытался заделать дыры в заборе. Провозился целый день – заколачивал досками, заматывал проволокой. Собаки вертелись вокруг меня и откровенно веселились. Когда им приспела необходимость побегать на улице, они мгновенно на улице оказались. Правда, замечу, что из уважения к моим плотницким прилежаниям они ни в одном месте не разрушили возведенные мной препоны – новые лазейки проделали в метре, в полуметре от старых.
Одно, хоть и немного, приглушало нашу тревогу. Собаки вели себя безмятежно. Будто были абсолютно уверены, что им-то лично ничегошеньки не грозит.
«Слушай, может, мы просто вообразили все эти шкуродерские страсти-мордасти? – говорили мы иногда друг другу. – Если бы опасность реально существовала, они бы ее почувствовали. А если бы сами не почувствовали, то другие собаки непременно сообщили бы им о ней. Собачий-то телеграф должен работать. Вон, в Москве возле метро „Водный стадион“ живет себе поживает собачья компания – голов в шесть, кормится бутербродами, которые приносят рабочие близлежащего завода, днюют и ночуют на люках теплоцентрали, здесь же воспитывают щенков, здесь же играют свадьбы… И только два-три раза в году куда-то на неделю-другую пропадают. Именно на ту самую неделю-другую, когда появляется в этом районе „чумовоз“ с синим крестом и начинается облава на беспризорных собак и кошек…»
Разумеется, мы могли это просто вообразить – что нашим собакам что-то угрожает… Но разве воображаемой была та шеренга торговцев шапками, которая каждую субботу – воскресенье выстраивалась у ворот рынка в соседнем райцентре?
Да, наши собаки вели себя безмятежно. Да и среди остального дворняжьего населения никакого беспокойства не было видно.
Может, все они были фаталистами? Как мы, люди? Фаталистами поневоле?
Мы ведь тоже уже не беснуемся в ужасе, не бежим куда глаза глядят – от той опасности, которая вседневно висит над нашими головами не одно уже десятилетие? Живем ведь… Дышим, влюбляемся, зарабатываем деньги, заводим детей… И конечно же, это – единственное и самое мудрое, что мы в силах реально противопоставить грозящей нам смерти – свою жизнь.
И вот настал день, когда жена вернулась из магазина в страшном волнении. Из разговора двух тетушек в очереди она поняла, что в поселке уже исчезают собаки. Своего пса одна из тетушек посадила на цепь, что настоятельно советовала сделать и своей подруге. Тем более что на днях, как она сказала, приедут из райцентра охотники и будет отстрел. Конец месяца, санэпидстанция (или кто там этим занимается) выполняет план, стрелять, стало быть, будут направо и налево.
Паника воцарилась в наших рядах.
Особенно зловеще и убедительно звучали слова «конец месяца… план…»
В конце месяца за ради плана в нашем сельпо даже цейлонский чай выбрасывали! Можно ли было сомневаться, что в таких же обстоятельствах санэпидстанция не перестреляет, если надо, все живое, бегающее на четырех ногах по улицам поселка?
Я разыскал в сарае цепи. Они были противны даже на ощупь – в рыжей мокрой ржавчине, прилипающей к рукам.
…Я приколачивал цепи к крыльцу – огромными двенадцатидюймовыми гвоздями – и вдруг заметил: никак не могу совладать с гримасой брезгливости на лице.
– Вы уж простите меня, ребятишки! – сказал я псам, пристегивая цепи. – Это ненадолго. Для вашей же пользы. Сами будете потом кланяться и благодарить.
Собаки никак не протестовали. С грустным любопытством обнюхали оковы. Джек, конечно, пару раз дернулся – к вороне, которая быстро сообразив, что происходит, слетела с яблони и начала расхаживать под носом у собак, явно издеваясь и злорадствуя.
Убедившись, что цепи крепки, Джек маленько поскулил, но, поскольку дело было к вечеру, полез под крыльцо.
Братишка забрался туда сразу. Может, для того, чтобы обдумать новую жизненную ситуацию. А может, – просто решил с присущим ему философизмом, что утро вечера мудренее.
А наутро жена разбудила меня чуть не плача.
– Скорее! Посмотри, что с ними! По-моему, они мертвые!
…Они действительно лежали, как два трупа. Мордой обратившись к морде друг друга. И уже – едва дышали. Как они умудрились так перепутаться цепями, ума не приложу. Они чуть не задушили друг друга.
Лежали, мертвецки измученные, и были такие незнакомо-грустно-покорные, что я чуть не пустил слезу, ей-богу, когда освобождал их от оков.
Федька крутился рядом. Обнюхивал то одного, то другого собрата. Был растерян, взволнован и преисполнен самого искреннего, хоть и бестолкового, участия. Вдруг сорвался и сломя голову помчался на соседский участок, где он недавно обнаружил под снегом залежи восхитительного коровяка, и вскоре примчался назад, неся огромную мерзлую лепеху. С ложной скромностью положил он ее перед собаками. И очень, кажется, был поражен равнодушием, с каким отнеслись они к этому царскому, без сомнения, подарку.
Что там Федькина лепеха! Они и похлебку-то в то утро ели еле-еле. Нет, конечно, вычистили миски до обычного блеска, но – скучно хлебали, без энтузиазма, без азарта.
Они поели, и я снова посадил их на цепь.
«Пусть считают меня каким угодно негодяем, вивисектором и садистом! Пусть после этого даже лапы мне не подадут (все равно не умеют)! Пусть обегают наш дом стороной! Но я свершу этот подвиг жестокости! Они отсидят у меня, как миленькие, ровно столько, сколько нужно для их же безопасности!» – так твердил я сам себе. Твердил тем более горячо и убежденно, что, когда они понуро хлебали свой завтрак, я отчетливо услышал: на дальнем конце поселка ударил выстрел.
Я пошел искать стрелявших. (Жене сказал, что – за сигаретами.) Не знаю, что я хотел. Я взял с собой, помню, деньги.
Хотел напоить, что ли, до поросячьего визга этих охотников за скальпами? А потом – показать им Джека с Братишкой и попросить не трогать?.. Не знаю. Может быть.
Сейчас мне кажется, что больше всего мне хотелось единственного – увидеть их в лицо наконец!
Невыносима, тягостна была опасность – именно безликая! Она была, она бродила где-то вокруг нас, эта опасность, мы чувствовали – а увидеть воочию не могли!
Но я никого не нашел. И выстрелов больше не было. А когда я вернулся, Джек с Братишкой снова валялись у крыльца, полузадушенные и смирные, Джек, вокруг шеи которого цепь захлестнулась петлей, уже хрипел…
Я снова терпеливо разобрался в их кандалах. Устало разобъяснил Джеку, что сидение на цепи – дело ответственное и серьезное, несовместимое с прыжками и ужимками вольной жизни, к которой он, обалдуй, привык.
Затем снова пристегнул цепи.
Интересно они вели себя. Они не держали на меня обиды!
Братишка даже, успокоительно этак, лизнул мне руку. Дескать, не журись, хозяин, понимаем… Хотя, конечно же, ничегошеньки они не понимали. В одном, пожалуй, были уверены: то, что делается, делается не во зло им. И потому терпели.
Ужасно трогательны были и вера эта, и терпение это.
Но, конечно, они не могли не впасть в уныние. К вечеру производили впечатление больных: вялые, замусоренные сеном, с грустными глазами…
У них даже носы стали горячими.







