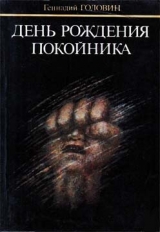
Текст книги "День рождения покойника"
Автор книги: Геннадий Головин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Но, странно, не было уже того провального ужаса, что раньше, при этих мыслях. Перед лицом огня поуменьшилось язвительной едкости в том чувстве позора, который он претерпел сегодня и который не покидал его сегодня ни на секунду.
Было: разливанное море безнадежности, растерянного, совсем детского, обиженного бессилия, беспросветная темень впереди.
Но пытаясь хоть что-то прозреть там, в безрадостных потемках будущего своего, он, знаете что угадывал? —
угадывал все новые и новые, беспомощные и безнадежные, робкие и упрямые торкания свои – туда!
Да, да. Именно туда, откуда с таким ошеломляющим позором он только что был вышвырнут.
Удивительно, как ему удавалось без всякого усилия обходить размышлениями своими Эльвиру.
Он ни разу за сегодня пристально не помыслил об Эльвире.
Словно бы стыдливой, пугливой стеной огородился он от этого предмета в размышлениях.
Словно бы не хотел, чтобы она была свидетельницей его краха.
Словно бы он её старался защитить…
Всю ночь с покорной досадой вертелся на бугристой постели. В жалобный голос вздыхал, задыхался от плотного жара печки. Изнывал от жгучего желания заснуть и от горестного как бы неумения погрузиться в сон.
Сон – как густая черная вода – держал его, подобно поплавку, на своей поверхности, внутрь не пускал.
Он был беспомощен. Он был распростерт. И – казнящие мысли о собственной никчемности, одна отчаяннее другой, все разили и разили его – без передышки, без жалости – с радостным оживлением слетали-взлетали, хлопотали над расклеванной его совестью.
«Вот когда петли-то вяжут! – подумал он вдруг с изумлением открытия. – Вот когда…»
Писал, писатель! Всю жизнь, считай, писал.
Огромная, замытаренная негодяями страна корчилась вокруг – в грязи, в пьянстве, в бестолочи, в унижении – изнывала от нескончаемой лжи, от тараканьего засилья бодрых подонков, наперегонки карабкающихся туда, в высь высокую – к вельможным лоханям, вокруг которых, и без того изобильное, урчало, толкалось дружное стадо хрюкающих тварей, темно и загадочно владеющих правом править жизнь миллионов людей.
Царем царила, глумливо торжествовала Ложь.
Люди, как беспомощные мухи, дергались в паутине нужды, долгов, нехваток – твари называли это ростом благосостояния. Процветало воровство: разворовывали ларьки, склады, магазины, заводы, города, целые республики – твари, сытно отрыгивая, называли это формированием новой морали.
Все самое бездарное, самое подлое, бесчестное, по законам всплывающих нечистот, устремлялось вверх. Все талантливое, честное и чистое, подобно самородкам, тяжко упадало на дно жизни.
Страна жила, как человек, у которого вывихнуты все до единого суставы, – чудо, что она еще жила! Безгласный вопль несся по великой когда-то державе из конца в конец. Обманутый, обманываемый, тупеющий от нескончаемого и разнообразного уподобления его скоту народ, махнув на себя и на все на свете рукой, сладостно пил горькую, дабы хоть во хмелю, хоть на час вспомнить себя человеком…
…а он, писатель Жужиков А. П., в это время тихо и трепетно вынашивал творческую задумку острой психологической повести о том, как передовая свекловодка Настюша Бурдакова, не в силах избыть из сердца диковатого сельского кузнеца Тришку Кафтанова, не раздвинула ноги перед первым ей попавшимся секретарем райкома Устином Ульяновым (вскорости, впрочем, освобожденным от этой высокой должности единогласно разгневанным пленумом)!..
…Один только раз – уже вконец будучи замучен бессонницей, духотой, мстительными мыслями – он не стерпел и, мысленно оборотившись лицом к Эльвире, проникновенно возопил:
– Помоги!! Пожалей!! —
с надеждой подождал отклика с той стороны, не дождался. Но – некоторое умиротворение все же испытал в самом процессе ожидания отклика. И вновь оживленные предпринял попытки уснуть.
На час или на полтора сумел пропасть. И вновь – как от бесцеремонного толчка – пробудился с панически бьющимся сердцем.
За окном уже совсем рассвело.
У Жужикова было странное, неприятное ощущение, что за ночь лицо его усохло до размеров кулачка: так ожесточенно стягивало кожу на скулах, так зло были обрезаны веки бессонницей.
Из зеркала глянул на Антона Павловича жалко всклокоченный, несчастный, обеспокоенный человек с лицом, грязно заплесневелым от серой щетины. Он снова вспомнил об Эльвире: глянула бы на такое лицо…
Вскипятить воду, развести мыльную пену… – все требовало многосложных, надсадных усилий, и Жужиков то и дело замирал в раздумьях, что следует делать за чем.
Тощее петушиное горло, беззащитно открывшееся под вздернутым подбородком, и тоненькое жало опасной бритвы в руке навели его на какую-то смутную и уже знакомую мысль, от которой он с содроганием отвращения отпрянул всей душой, прежде чем даже внятно сообразил, о чем она, эта мысль.
Пережидая, покорно опустил руку с бритвой.
…Он сумел принудить себя вскипятить чай, что-то съесть.
Потом вышел на улицу – под солнце – и стал стоять там, под солнцем, как стоят под долгожданным дождем.
Он стоял так, наслаждаясь дремотным пригревом солнца, и вдруг – услышал приближение угрозы.
Угроза – как тень от тучи – ползла к нему неостановимо.
В недоумении он пытался сообразить, в чем дело. Потом догадался: жена! Сегодня она наверняка приедет. Ее не было целую неделю, и вот сегодня она непременно заявится!
Все внутри у него скорчилось в досаде и скуке, когда он представил, что опять придется выговаривать какие-то слова, слушать вопросы, отвечать на расспросы, придумывать что-то по поводу озабоченности своего вида. «Она ведь, не дай бог, еще и утешать примется!» – с ужасом подумал Жужиков.
Он ничего не имел против этой женщины, поймите! Он искренно жалел ее – за бездарно прожитую с ним жизнь. Но уже давным-давно ничегошеньки не было у него к ней.
В жизни, которая все чаще представлялась ему случайно случившейся, и Татьяна Ильинична, и житье их совместное, и даже дочь – тоже были скучно случившейся необязательностью какой-то. Могла быть Татьяна. Мог быть и кто-то другой, неизвестно кто…
Он, повторяем, ничего не имел против нее. Иногда в кукуевском своем уединении даже с оживлением поджидал ее приезда. Но – только не сегодня!
«Ради бога, только не сегодня!» – как бы даже вскричал он навстречу ей, уныло зная, что она все равно заявится и, сама того не предполагая, будет мучить его своим видом, голосом, жестами, а у него, видит бог, уже нет сил скреплять себя терпением, он весь уже разрушен, ему уже не вынести еще и этого свидетельства едкой пошлости своего существования, невольным олицетворением которой была бедная жена его!
«Бежать! – подумал он. – Избежать!»
И тотчас пренебрежительно-насмешливый голос спросил: «Куды? Бежать-то куды?»
И вот тут – новый голос сказал, обмирая от смелости:
– Эльвира…
…И, как бы сказать, распахнулись в ту же минуту волшебные пред ним врата! Ну, врата – не врата, а подобие какого-то светло засиявшего пролома вообразилось вдруг впереди, в пространстве хмуро теснящей его жизни.
И таким, господи боже, приязненным током добра, покоя, уважительной нежности, милосердия, ласки пахнуло оттуда! – что у него, бедняги, аж застонало внутри от нестерпимого желания тотчас, сию же минуту оказаться там! Хоть бы дух перевести… Хотя бы одно доброе слово услышать…
Потом, в сумрачной комнатенке, сидя на краю дико разоренной постели, считал деньги.
Бумажки сложил в сторонке, а теперь пересчитывал мелочь, собранную по карманам.
В комнате, как всегда по утрам, было хмуро, безуютно, почти темно. Жужиков каждую монетку, прежде чем учесть, в далеко отнесенной руке поворачивал к свету, чтобы не обмишуриться.
И вдруг – увидел все со стороны. И так сладко, так больно сделалось.
В том, что происходило с ним сейчас, была нежная ужасная Правда. И была безжалостная Красота в том, что происходило с ним сейчас.
IX
– Мужчина!
Жужиков в недоумении открыл глаза.
Женщина, спустив на плечи платок, кончала заплетать тощенькую косичку, смотрела на него:
– В Чуркине это вам сходить? – проворно закрутила узел сзади, на ощупь воткнула несколько крупных шпилек, покрылась. – А то, может, не того разбудила?
– Того… – стесненно улыбнулся Жужиков и стал смотреть в окно. – Не скоро еще выходить?
– Сиди еще! – с непонятной резкостью сказала старушка, притулившаяся в темном уголке напротив.
И старушка, и женщина глядели на него странно – как на больного.
Насмотревшись и вдруг спохватившись, что так уж неприлично открыто разглядывают незнакомого человека, без охоты вернулись к тихому своему разговору, а Жужиков смотрел за окно.
Нескончаемо бежал вдоль полотна чахлый заболоченный лес. В глубине его зябко и сиро стоял туман.
«Ехать бы и ехать…» – подумал Жужиков и опять откинулся в угол купе, в ту позу, в которой так сладко проспал всю эту ночь.
На скамейке, через проход, весь уже изготовившись к выходу, навьюченный рюкзаком, сидел старик. Никуда, казалось, не смотрел, хотя и открыты были светлые его глаза.
Над его головой, на голой полке, подложив под голову кроссовки, возлежал, как труп полководца, с торжественно сложенными на животе руками молодой парень – в сером новом костюме, при галстуке. Старушка напротив рассказывала соседке что-то горестное и негромкое.
«Ехать бы и ехать…» – подумал он снова.
Ему было хорошо, горько и просто. Несчастный, он ехал куда-то среди несчастливого своего народа и был на месте.
…В тамбуре истошно воняющего туалета парень брился немощно жужжащей электробритвой.
Жужиков непроизвольно потрогал свои опять уже шершавые щеки. Парень протянул ему бритву, предложил: «Повози».
Жужиков стал бриться, а парень смотрел на него, удовлетворенно улыбаясь.
– Скоро уже? – спросил Антон Павлович у женщин, вернувшись на свое место у окна.
– Посиди маленько, – сказала старушка. – Мимо не провезут… – и вдруг спросила: – Что ж ты, голубок, так плакал во сне-то? Так уж плакал!
Жужиков удивился:
– Плакал?!
– Ой, плакал! – жалеючи воскликнула старушка.
Вторая женщина, сильно смутившись, добавила:
– Мы уж вас и толкали, и будили…
Смутился и Жужиков:
– Странно… Я так сладко спал… – и с новой нежной приязнью глянул на этих женщин. Каково им было всю ночь глядеть, бессильно сострадая, на неведомого человека, который обливается слезами во сне?
В Чуркине сошло человек пять, мгновенно куда-то исчезли, как улетели.
Поезд, постояв полминуты, скрипуче задвигал сцеплениями вагонов, неохотно раскатился, угромыхал. Оставил по себе изумляющую высочайшую тишину. И – болезненное, остренько саднящее чувство забытости этих мест.
На путях не было ни души. Только далеко впереди деловито перескакивала по шпалам, поджав заднюю лапу, грязно-молочная собака.
С одной стороны к железной дороге вплотную подступал лес. С другой – размахнулись чуть ли не во весь горизонт поля и высокое небо над полями, сероватое, опрятное и спокойное.
Ветхая станционная домушка с казенной черно-белой надписью под крышей «Чуркино», с огородом, с покосившимися службами, с кривенькими яблоньками в саду выглядела на этом фоне притаенно и скромненько: как на огромной картине маловажная деталь у самого нижнего обреза.
И совсем уж исчезающе малой запятой чувствовал себя Жужиков среди этих громоздких пространств.
В нем было недоуменное изумление только что очнувшегося человека: где я? Было досадно, но было и с трудом вспоминающееся, юное, чуть боязливое восхищение странностью жизни: еще вчера был в Кукуеве, в привычных стенах… а сейчас вот – стою налегке, на захолустном разъезде… и неизвестно, куда идти.
Он подумал об Эльвире, попробовал вызвать в памяти ее лицо, но ничего из этого не получилось. «Слишком просторно уж…» – странно объяснил он себе.
«Все будет совсем не так, как воображалось! – Жужиков поморщился с неудовольствием. – Будет много неловкости, неискренности, натуги!»
Светленькая девочка лет двенадцати домашним веником подметала землю под навесом, который служил здесь, похоже, залом ожидания.
– Чуркин, – объяснила она, с жгучим стеснением, испугом и интересом взглядывая на Жужикова. – Чуркин вон там, за горушкой, километра четыре, не боле…
Жужиков послушно пошел по мягкой многоезженной дороге и долго еще слышал, как девочка смотрит ему вслед. Наверное, он и вправду выглядел диковинно: в габардиновом плаще, в шляпе, без вещей и спрашивает, как пройти к известному всем поселку.
– Ф-фу! Глупость какая! – сказал он через некоторое время. – Ну как я приду к ней?! Как объясню, зачем приехал?
Он и в самом деле уже не знал, зачем он сюда приехал.
Но, как ни странно, это не очень-то и заботило его сейчас. Он другим был занят: сняв ботинки, засучив штаны, подхихикивающей припрыжечкой одолевал дорогу, обильно припорошенную крупной дробной пылью, но под пылью все же заметно бугристую и чувствительную для ступней.
«Горушки», о которой говорила девочка, он, сколь ни старался, так и не обнаружил. Дорога, правда, не очень заметно тянула вверх. Где-то там, километрах в двух, должна была быть точка, с которой откроется вид на поселок Чуркино.
Он оглянулся. Станционный домик выглядел совсем крошечным.
И далеко впереди, и далеко влево, и далеко вправо – все было занято невеселым спокойным пространством.
Солнцу пора было бы светить. Жужиков еще раз оглянулся: оно давно уже поднималось, привычно заволоченное пасмурной дымкой, глядело на землю обыденно, равнодушно.
Жужиков ощутил странный, горестный и сладкий миг пропадания: какой-то человек шел босиком по равнинной дороге, но его, Жужикова, не было!
Дом семь по улице Амилкара Кабрала оказался одноэтажным беленым бараком.
Он правильно предположил когда-то, что это – общежитие.
Женщина во дворе развешивала на веревках простыни. Весь двор был уже увешан полотнищами с черными расплывшимися штемпелями на уголках. Некоторые из простыней уже просыхали и с ленивым оживлением пошевеливались на ветру.
– Эльвира?! – женщина глянула на Жужикова с недоумением и цепким подозрением.
– Караваева… Эльвира… – повторил Жужиков.
– А-а! – облегченно заулыбалась женщина и радостно рассмеялась. – Так то – Ира! Караваева?.. Так бы и сказали. Кака така, думаю, Эльвира? Сроду у нас тут не живало… эльвир! Из Александровки, что ль?
– Что? – не понял Жужиков.
– Из Александровки, говорю, в гости?
– В гости, в гости. Она сейчас дома?
– Были вроде дома, если не ушли никуда. Ну, Ирка! – опять вдруг рассмеялась женщина и с восхищением повторила: – Эльвира! А вы сходите, гляньте! Вроде бы они не уходили никуда. В четвертой комнате они! – крикнула вслед.
…У него было (он потом вспомнил) отчетливое нежелание идти туда. Какая-то тягостная неуверенность отягощала каждое его движение – и когда он поднимался на крыльцо, и когда шел по длинному коридору с хорошо вымытыми, лаково крашенными половицами, и когда (вовсе уж с усилием преодоления) поднимал руку, чтобы постучать в дверь четвертой комнаты.
Ему послышалось, что из комнаты ответили. Он вошел.
Потрясение отвратительнейшего свойства ожидало его!
…С маленького столика у стены, из коробчатой узорчатой рамки, смастеренной из серебряной фольги и напоминающей иконный оклад, глядела на Жужикова его собственная физиономия. Это была фотография, которую он недавно посылал Эльвире, но раза в три увеличенная и заметно отретушированная.
Вид у Жужикова на этом портрете был глуповато-веселый, фатоватый, даже, можно сказать, – донжуанский, чему, конечно же, много способствовали маленькие усишки, скрученные то ли из пеньки, то ли из рыжеватого меха и аккуратно приклеенные под носом писателя.
Фоном для портрета служил щит из линялого кумача, – наверное, доска почета, изрядно уже послужившая, если судить по клеевым правильным следам, там и тут запачкавшим полотно…
Развеселая, красовалась поверху надпись золотом: «Мама! Я Жужика люблю!!!»
Ниже, во множестве, располагались фотографии.
Репродукция роденовского мыслителя сопровождалась подписью: «Эх! Не перемыслить мне Жужикова А. П.!»
Вождь пролетариата на известном снимке читал за столом не «Правду», а газетный листок с заголовком: «Пути-дороги».
В кулуарах писательского съезда Жужиков А. П. стоял в компании с Черчиллем и Хрущевым. Называлось это: «…и дал им Жужиков ряд ценных советов».
Розовомордый комсомолец на плакате, дебильно улыбаясь, показывал всем алую книжицу – «На росстанях», а текст, кропотливо склеенный из плакатных буковок, гласил: «Эта штучка посильнее „Фауста“ И. Гете!»
Пришпилена была тут и старинная, начала века, открытка: кавалер, стоя на коленях, склонял красавицу. Красавица отворачивала лицо и говорила: «Нет! Только – Жужикову!»
На другой фотографии у пахаря, идущего за плугом, была голова Жужикова (все тот же снимок Антона Павловича, но здесь уменьшенный до размеров паспортной карточки). Пахарь как бы оглядывался на зрителей. Подпись сообщала, что это «Жужиков А. П. на ниве российской словесности».
Много тут было всего…
Под надписью: «Однажды Антон Павлович заметил…» свисало что-то вроде бумажного свитка, на котором писали от руки. Жужиков разглядел лишь несколько строк: «…что ярко-красное солнце всходило на востоке…», «…что Анфиса с досадой села на стул…», «…что дороги бывают разные…»
Пред ликом Жужикова стояла в лафитничке полусгоревшая церковная свечечка. Должно быть, возжигали время от времени, и, должно быть, немало веселья творили при этом.
Восковые рыночные цветочки были возложены к портрету, букетики крашеного ковыля, надкусанный пряник, соленый огурец с воткнутой вилкой, конфета в фантике.
Под стеклянным, лабораторного вида колпаком лежал окурок. Рядом – чудовищного размера рваная галоша. Стоял надгрызенный граненый стакан. Все – с аккуратненько напечатанными и наклеенными «музейными» подписями, которые Антон Павлович даже и читать не стал, почувствовав, что его вдруг затошнило от… он даже не знал, как определить это злобно-насмешливое, безжалостное, бесстыдное, что творили тут над ним…
Он повернулся уходить. Скользнул взглядом по двум аккуратненьким девичьим коечкам, по телевизору с лежащей на нем гитарой, по книжным плотно набитым полкам, по нежно-голубенькому платьицу, висящему на плечиках на дверке шкафа. Повернулся и поспешно ушел, как сбежал.
Что он чувствовал?
Он чувствовал, что он – очень устал, и что ему – очень стыдно и тошно жить.
Стыд был унылый. Но странно, ему не только за себя было стыдно. С Жужиковым все было ясно. Ему и за Эльвиру было стыдно! Больше того – за весь как бы и род человеческий!
…В буфете автостанции он купил бутерброд с котлетой, вышел на хорошо пригретое деревянное крыльцо, сел на ступеньку и стал ждать. До автобуса в областной центр был час с лишним.
Грязно-молочная собака подковыляла на трех ногах, остановилась напротив и стала проницательно смотреть на Жужикова.
Он отломил кусок котлеты и бережно бросил собаке. Она рассеянно понюхала и снова стала смотреть.
Котлета на изломе была удивительного голубого цвета. Жужиков слегка посомневался и все же принялся жевать, подумав при этом что-то равнодушное, с интонаций «э-э… все равно…»
«Не переживай… – сказал себе Жужиков. – Все ведь правильно…»
«А я и не переживаю, – ответил Жужиков. – Чего переживать?»
Нежно-голубенькое легонькое платьице взволнованно затрепетало за низким некрашеным штакетником, на той стороне автобусного круга, в пыльном зеленом сквере.
Молодая женщина, торопясь, шла вдоль забора и озабоченно не спускала глаз с Жужикова. (Наверное, да, с Жужикова – оглянувшись, он никого больше не увидел рядом с собой.)
Штакетник закончился. Женщина на мгновение остановилась, все так же всматриваясь в Антона Павловича, и, заметно поколебавшись, пошла вдруг к нему через асфальтовый пустырь площади тревожными шагами человека, опаздывающего на помощь.
1988
АННА ПЕТРОВНА
Поздней осенью, почти уже зимой, вам, наверное, встречались в садах ли, в парке – эти мелкие розовато-молочные цветочки.
Грязноватенькие, с ветхо растрепанной розеточкой лепестков, аккуратненько обожженной по краям ржавчинкой первых заморозков, они в эту пору, конечно же, не цветут – одну только видимость сохраняют. Дремлют под грязной волглой листвой, под рыжей, цепкой, мертвой травой – сразу и не поймешь: то ли они живут еще, безымянные маргаритки эти, то ли давным-давно уже умерли, притаившись. Возьмешь их в руки – расползаются нежным жалостным прахом…
Ни умиления, ни отрады, даже и в осеннюю пору, не вызывают бедные эти цветы. Напротив – грубая печаль и даже досада постигает вас, когда их видишь: слишком уж злым забвением, едким сиротством, кладбищем убогим веют они.
Заметишь их, проходя мимо, и вдруг замечаешь: торопишься пройти мимо.
С такой вот божьей маргариточкой сравнил бы я и Анну Петровну, героиню этого рассказа. В сумеречной комнатенке огромного кирпичного угрюмого дома на Красной Пресне тихонько, терпеливо, потаенно и никчемно доживала она дни свои.
Анне Петровне шел девятый десяток лет, и изо всей родни, когда-то многочисленной, оставалась у нее одна только внучка – Марина, которую Анна Петровна недолюбливала, потому что выросла внучка человеком странным (хотя Анна Петровна и сама ее воспитывала, с четырех лет до первого замужества) – кустарно-ярко-рыжей, мужеподобной, спортивного вида бодрой стервой, озабоченной на всем белом свете лишь одной лишь своей персоной.
Именно Марине была обязана Анна Петровна тем обстоятельством, что на исходе лет оказалась она не в светлых своих двух комнатах на Большой Полянке, где прожила до этого лет сорок, а в этой девятиметровой, скверненькой, я бы сказал, достоевской комнатенке, которая более всего напоминала узкий, непомерно высокий ящик или, еще точнее, щель – двух метров в ширину и трех с половиной в высоту, – которая глядела долговязым, словно бы церковным, давно уже не мытым окном в заунывный асфальтовый тесный дворик, где в квадратиках окаменелой земли, забранной решетками, хирели обновляемые каждый год саженцы; где бродили возле пустой песочницы горемычные городские детишки, с вялой надеждой царапая асфальт разноцветными лопатками; где стояла на чурбанах забытая всеми бесколесная машина, разрушаясь день ото дня и покрываясь с каждым днем все более, казалось, яркими и торжествующими язвами ржавчины, и где с утра до вечера сидела на древних шатких ящичках возле шелудивой стены, исписанной слабоумными гадостями, кроткая, угнетенная многими печалями очередь в пункт приема стеклопосуды.
Невеселый, что уж и говорить, был вид из окошка.
Анна Петровна, впрочем, не много этим огорчалась. И не только потому, что на Большой Полянке тоже не ахти как смешно было во дворе. Просто, она уже была в том тихом, как бы полуобморочном возрасте жизни, когда вообще ничем – кроме, быть может, самочувствия – всерьез не огорчаются, а все слабенькие силы своего воображения тратят единственно на смиренное (и все же странное, зябкое!) занятие ожидания своего последнего дня на этой земле.
Года два-три назад она, наконец, поверила, что быть ей осталось уже совсем недолго, и с той поры каждую осень Анна Петровна искренне считала своей последней осенью (она почему-то уверена была, что непременно осенью, в самом начале зимы умрет), а в тот год, о котором наш рассказ, она уже почти наверняка чуяла близкую свою кончину, и потому высокое важное равнодушие надменной стеной уже почти совсем огораживало ее от окружающего мира.
…Здесь, за этой стеной, внутри, было очень тихо, очень покойно, в общем-то хорошо, хоть и печально, а жизнь, быстро и странно живо колготившаяся вокруг, колготилась где-то пообочь, – может быть, даже поверх ее и почти уже совсем никак не задевала воображения Анны Петровны. Ну, примерно так же, как совсем не задевали ее воображения мутно-серебристые, аквариумные шевеления теней в экране давным-давно оглохшего старенького телевизора, который она по рассеянности включала иногда: глядела на экран внимательно, виновато и неспокойно, силилась понять, но уже не могла понять, о чем они, эти люди, зачем…
Больше всего любила она теперь смотреть на очередь под окном.
Нежное, хоть и глухое, сочувствие вызывали в ней эти бедные люди: как они терпеливо и устало сидят целыми днями на ветхих шатких ящичках, как пересаживаются время от времени, будто по чьей-то команде, с одного ящичка на другой, как бережно, словно великую драгоценность, переставляют, пересаживаясь, и авоськи свои с пустосветящимися, ясноотмытыми бутылками, как глубоко опечалены они чем-то, эти люди, как покорны, казалось, как кротки.
Не сказать, что какой-то символ чудился ей в этой бесконечной каждодневной череде людей. Просто все, что она видела здесь, почему-то трогало ее. Она ведь тоже, в сущности, сидела в терпеливой черной очереди, а загадочное окошко, к которому покорно и заискивающе склонялись все эти люди, было и от нее уже совсем недалеко.
По вторникам, когда пункт не работал, и очереди, стало быть, не было, и одни только жалкие ящички косились возле опустелой стены, прикрытые кое-где газетным рваньем, – по вторникам Анна Петровна испытывала какой-то раздражающий недохват в жизни, досаду, скверный неуют, и она даже опасалась всерьез, что если умрет, то умрет непременно во вторник, потому что досуг ее ничем в этот день не занят, а душа, пребывая в праздности, особенно беззащитна и всему покорна.
Она была гордая женщина, никогда и ни о чем старалась не просить свою внучку, но однажды она все же не вытерпела: очень страдая и пряча при этом глаза, попросила, не может ли Марина, коли она все равно ее навещает, навещать, если можно, по вторникам. Та, разумеется, быстро и легко согласилась:
– По вторникам? Ладно. Буду – по вторникам! – и тотчас, конечно, спросила:
– А почему, бабуля, именно по вторникам?
Анна Петровна не посчитала нужным отвечать на этот вопрос, и все осталось, как было: Марина прикатывала на кофейно-черных своих «жигулях» и в понедельники, и в четверги, и в пятницы, – когда, в общем, взбредет в голову. Взбредало ей это, заметим, никак не чаще одного раза в месяц.
Визитов этих Анна Петровна и ждала, и ужасно как тяготилась ими.
После приездов внучки у нее непременно дня два гудело в голове, странно рябило в глазах и тонко, болезненно ныло в барабанных перепонках – от унтер-офицерского (Марина была воспитателем в детском саду) перекрикивающего голоса ее.
Когда Марина уходила и за ней закрывалась дверь, Анна Петровна испытывала ощущения человека, мимо которого только что долго мчался чугунно-громыхающий, тяжкий, бесконечно-мучительно-длинный поезд.
Анна Петровна давно уже не судила людей, но у нее все внутри жалобно и враждебно сжималось, когда шумно и всегда нежданно вдруг врывалась в ее дом эта грубо молодящаяся баба, насквозь фальшивая и в своей бодрости, и в каждом своем жесте, и в каждой интонации прокуренного, всегда словно бы готового к хамству голоса.
С дедморозовским воплем: «Ну, бабуля! Смотри, что я тебе принесла!» – она бухала на стол сумку и начинала извлекать «гостинчики», как она это называла, – всякую непотребность, при одном взгляде на которую Анну Петровну отчетливо мутило: зловеще-серые, вялые сосиски какие-нибудь, творожные сырки, полузасохшие и мятые и издающие винно-кислый запах, копченую колбасу, уже слезящуюся от старости на почернелых срезах и покрытую по оболочке вкрадчивым налетом голубоватой плесени… – все то, в общем, что с удивлением и досадой обнаруживала Марина в недрах своего холодильника, раз в месяц размораживая его, и что есть самой – не позволяла осторожность, а выкинуть на помойку – мешала скупость.
Пожалуй, что Анна Петровна догадывалась о происхождении этих «гостинчиков». Однако мудрено было хоть что-то прочитать по ее лицу.
С годами, в особенности с последними годами – годами уже и не старости даже, а ветхости, – лицо Анны Петровны стало совсем уж малоподвижным и не означающим почти ничего, кроме того, что это лицо очень старого и очень усталого человека, и даже маска надменного спокойствия, в которую невольно сложились морщины и складки кожи, тоже уже ничего не означала.
Неудовольствие, к примеру, от необходимости терпеть общество Марины выражалось у Анны Петровны вообще едва-едва приметно: в некоторой, разве что, растерянности взгляда да в том еще, как она без нужды то и дело перекладывала по столу руки свои, —
о! все еще очень красивые, хотя, конечно же, и очень старые руки – с весьма чистой, сухо шуршащей, голубовато-мраморной кожей, с благородно-тонкими, очень женственными, избежавшими старческого ревматизма пальцами, на одном из которых таким странным и даже уродливым глядел тяжелый, грубо сработанный перстень из почернелого серебра с голубоватым прозрачным камнем, слишком крупным и слишком уж прозрачным, чтобы быть не подделкой.
Ничто не менялось в лице Анны Петровны даже и тогда, когда внучка принималась за «уборку» – вытирать с телевизора никогда там и не водившуюся пыль, мести веником по абсолютно чистому полу, греметь переставляемыми с места на место стульями… Иногда только Анна Петровна, забывшись, с недоумением оглядывалась по сторонам: ей всегда казалось, что рядом есть кто-то третий, перед которым, собственно, Марина и ломает свою комедию: глядите, какая она, хоть и грубоватая, но заботливая, хоть и занятая ужасно, но бабулю не забывающая… Балаганом все это отдавало, ужасно дешевым балаганом. И одна только Марина могла не чувствовать это.
Анна Петровна уже давно не имела никаких иллюзий относительно своей единственной родственницы.
Не было для нее никакой загадки и в этих визитах, и в показном этом внимании.
Анна Петровна спокойно знала, что внучка, даже заполучив для своих жилищных комбинаций две ее комнаты, даже забрав «в долг», как они с мужем выражались, все сбережения ее (а сбережения были немалые, почти восемь тысяч рублей, благодаря которым, собственно, и появился на свет кофейно-черный кургузый автомобильчик Марины), – так вот, Анна Петровна спокойно знала, что молодые вовсе не собираются оставлять ее в покое, поскольку уверены, что она все еще богата.
Бог знает, откуда взялась в них эта жалкая жадная уверенность! Причиной тому было, скорее всего, то, что их, конечно же, болезненно потрясли (Анна Петровна заметила это) та легкость, та пренебрежительность даже, с какими рассталась она в свое время с теми несчастными тысячами. Марина, помнится, едва лишь начала свое нытье (явно не на один день рассчитанное) относительно стесненности своих финансовых обстоятельств – а Анна Петровна уже поднялась снимать с гвоздочка пальто, чтобы идти в сберкассу!
«Не-ет, с последними деньгами так легко не расстаются! – рассудили, должно быть, молодые. – Не может человек разумный (а Анна Петровна даже на их взгляд была человек разумный…) так беспечально и равнодушно отдавать в руки чужим людям (а что они ей чужие, это они тоже хорошо сознавали…) – без расписки отдавать, без свидетелей – этакую сумму!..»







