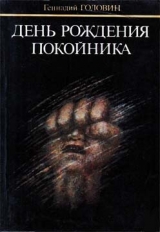
Текст книги "День рождения покойника"
Автор книги: Геннадий Головин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
В один из таких походов он и показал мне место гибели Джека.
Джека, должно быть, заманили в густой кустарник, на бугре возле железной дороги, и тут убили. А может, убили где-то в другом месте, а сюда – спрятались, чтобы обделать свое торопливое жалкое дело.
С тех пор много прошло снегопадов, но вороны не давали снегу погрести под собой Джека. (Через месяц, когда стаяло, я пришел с лопатой и сделал могилу.)
– Скажи мне, – заговорил я с Братишкой. – Мне не дает покоя одна мысль. Почему в тот вечер Джек вел себя так тревожно? Помнишь? – было впечатление, что он куда-то торопится. Ну ладно, согласен, ему всегда было куда торопиться. Но почему, скажи, он так обреченно скулил в тот вечер? Он знал, что с ним должно произойти?.. И еще скажи, только честно, почему в тот вечер ты не пошел вместе с ним? Ты – тоже знал?
Братишка хмуро трусил чуть впереди. Несомненно, слушал меня, но отмалчивался.
Какой прок, думал, наверное, он, объяснять человеку то, что и не всякой собаке объяснишь…
…как падает вдруг на все окрест предгрозовый свет угрозы…
…как вдруг все в страхе видят: жестокое светлое око шарит взглядом по земле, выискивая жертву, и все живое в этот миг в страхе прижимает уши и старается стать незаметным…
…как зрачок этот убийственно и спокойно останавливается на ком-то, как остановился на Джеке, и тотчас – черная тень, как прозрачный дым, окутывает его, и он принимается скулить, и издает жалкий запах, и все разбегаются от него, отрекаясь, потому что теперь на нем знак и куда бы отныне он ни устремлялся, – это все равно будет лишь приближением к неминуемой гибели…
* * *
Все в том же задрипанном румынском пальтеце он все так же зяб на том же кривеньком хлипком ящичке. Будто и дня не прошло с нашей первой встречи.
За это время он успел сломать себе ногу. Толсто обмотанную тряпьем ступню с привязанной к ней галошей он бережно и гордо покоил на далеком от себя отлете и время от времени с признательностью посматривал на нее.
Несомненно, что и обладание новеньким, лаково блестящим костылем тоже доставляло ему довольство.
Он не забыл нас. Тотчас заулыбался дырявым нищенским ртом.
– Собаськи! – Было заметно, как он старается, чтобы голос его звучал как можно глумливее. – Собасеньки! А у вас… – он взглянул мне в глаза чуть ли не с насмешкой. – А у вас вроде бы и другая еще была? Я помню… Неужели подохла? Ай-яй-яй, какая беднязеська!.. —
и все цапал, почти не глядя, своими багрово-синими клешнями то Братишку, то Шлемку, которые, конечно же, весело суетились возле него.
– А черненький тоже хорош… когда подрастет… – наговаривал он явно в расчете на мой слух. – Ну, иди-иди, Цыган! Тебя ведь Цыган звать? Не убережет тебя хозяин, ой не убережет…
Я смотрел на бича и ничегошеньки не испытывал к нему, кроме тоскливой муторной жалости, от которой и зябко, и скушно становилось на сердце.
– …А может, его на шапоську израсходовали? – вспомнил он о Джеке. – Я же вам честно говорил, слушаться надо было.
– Рубль хочешь? – спросил я грубо.
– А как же, командир? Всегда готов!
– Выпей за упокой Джека. Ту собаку Джеком звали.
– В обязательном порядке! Не извольте сумлеваться! – он затараторил все в том же зло-шутовском тоне, но, без сомнения, очень обрадовался рублю. – За упокой души! Как приказано! За упокой Цыгана! – бу-сделано, бу-исполнено, премного благодарны, командир!
Телефон они опять доломали. Трубку вырвали вместе с проводами.
Черт бы, что ли, подрал этих юных техников, коли отцы родные не дерут!
А звонить было надо. Я был уверен, что именно сегодня, больше чем когда-либо, надо позвонить.
– Пошли, ребята, домой! – сказал я собакам. – Сегодня я вас покину. Можете обижаться. Можете жаловаться (благо, есть кому: завтра приедет Закидуха), но я вас покидаю.
Уже одетый для Москвы, я стоял у крыльца и ждал, когда собаки доедят.
Я знал, что скоро опять вернусь сюда. Но было отчетливое чувство, что я – прощаюсь. Зима кончилась. Завтра все будет по-новому.
На платформе Братишка встал, положил передние лапы мне на живот, прижался мордой к полушубку и долго, тихо стоял, слушая, как я глажу его по голове и ласково наговариваю:
– Брат, – говорил я ему, – братишка мой лопоухий… брат мой…
Загудел у переезда поезд. Братишка быстро поднял голову и посмотрел мне в лицо. Горе мелькнуло в его глазах.
Нагрянул поезд. Я спустил Братишкины лапы на землю, вошел в тамбур.
Я боялся, что в последний момент он вскочит следом за мной. Но он стоял и смотрел – неподвижно, укоризненно и печально.
…В Москве, в гулком, промозглом, как погреб, вокзальном тоннеле я нашел телефон.
Долго разыскивал по карманам двушку, наконец отыскал – мокрую, облепленную табачными крошками. Позвонил.
Было занято. Я снова набрал номер. Разболтанный телефонный диск ходил в гнезде полукруглыми, плавно-корявыми движениями; трубку сняли, и я узнал, что сегодня родился мой сын.
пос. Заветы Ильича,
зима 1983/84 г.
АНТОН ПАВЛОВИЧ
I
– …Жужиков, – произнес он с интонацией оборванного хихикания и стесненно протягивал руку. И принимался глядеть вам в лицо ласково-ожидающим, доверчивым взглядом голубеньких глаз, которые выглядели очень уж акварельно, неуместно как-то, по-девичьи выглядели на этом вяло помятом, сереньком невнятном личике.
Ладонь была у него довольно приятна – и не мокра, и не холодна, и пожимал он руку, это чувствовалось, очень и очень дружелюбно (чересчур, пожалуй, дружелюбно для первого знакомства), но, странное дело, рукопожатие его позабывалось мгновенно. Как, впрочем, и сам он забывался мгновенно, словно бы бесшумно проваливался из памяти, стоило только отвернуться от него…
Кое-какое впечатление от знакомства с ним, понятно, оставалось, и это было, скорее, не неприятное впечатление: светленькой пустяковости, застенчивой бесталанности какой-то, но, повторяю, никаких отчетливых, внятных ощущений не вызывал он своей персоной.
Точно так же, как ничего определенного при всем желании нельзя было вспомнить и о тех восьми книжонках, которые он с превеликими страданиями и муками сумел написать и без всяких мук издать за тридцать лет своей непрерывной творческой деятельности.
Надо бы вот только сразу заметить, что этаких слов: «творчество», «литературная деятельность» – Жужиков не просто не любил, но как бы даже и шарахался от них! (В чем был полная противоположность супруге своей, Татьяне Ильиничне.)
Ему даже несказанные корчи в душе доставляло признаваться, чем он занимается, чем, собственно говоря, зарабатывает в 55 неполных своих лет небогато намазанный маслом кусок хлеба. Когда подобные разговоры возникали и когда от ответа никак уклониться было нельзя, Жужиков принимался морщиться, как от зубной боли, лицом изображать досадливейшую муку: «Ну, в общем… – страдальчески кряхтел. – Ну, член союза, в общем! Ну, писателей!..» А когда вслед за таким признанием люди начинали с новым оживленным пристрастием язвить его взглядами, стремясь отыскать в лице следы, так сказать, писательского порока, – тут Антон Павлович и вовсе принимался ерзать, как на горячее усевшись. Самозванцем, обманщиком, аферистом ощущал он себя в эти мгновения – по одному хотя бы тому, что ничего от писателя у него и во внешнем облике не было, он знал. Даже и бороды.
Невысок был росточком Антон Павлович, сложением мелок и, кроме того, казалось, что он словно бы помят, что ли. Будто большой ладонью когда-то взяли его всею фигурою и слегка пожамкали – без жестокости, но чувствительно, и после этого плечико одно стало торчать у него немного повыше и поперед другого, грудь просела и какая-то колченогость появилась, заметная не только в походке, но и тогда, когда он стоял на месте, быстро утомляясь стоять в одной позе и постоянно поэтому переминаясь: то одну, то другую ножку отставляя, то переплетаясь ими, то одним ботинком залезая зачем-то на другой… А если рядом оказывалась еще и подпора какая-нибудь, то он непременнейше начинал к ней прислоняться – плечиком ли, локоточком ли, спинкой, – тем еще более усиливая впечатления зыбкости, слабоногости, неуверенности и неопределенности, которые и без того ощутимо исходили от его фигуры.
…Когда в разговоре о профессии неминуемо задавался жестокий вопрос: а что Жужиков, собственно, создал, чтобы по праву носить высокое звание члена союза, в общем, писателей? – тут Антон Павлович даже и некоторое озлобление вдруг выказывал:
– Да не читали вы меня! – восклицал он, слегка ощериваясь при этом. – Я – малоизвестный! (причем «малоизвестный» звучало вовсе не смиренно в его устах, а как бы даже и вызывающе). – Ну, «На росстанях» был сборничек. Ну, «Пора повилики»… «Пути-дороги»… Да не читали вы меня, что я, не знаю?!
Как правило, да, не читали.
Он за свою жизнь десятка два всего лишь встретил людей, которые что-нибудь из него прочитали.
Однако фамилию его – Жужиков – многие знали. Слышали. Неординарная была фамилия, запоминалась… Да ведь и то следует сказать, что за тридцать-то лет беспорочной творческой жизни не один разок мелькнул и в критических обзорчиках, и в статеечках всяких, четырежды – не шутите! – в юбилейных речах перечислялся. А это какая-никакая, а все же таки известность.
Писал он трудно и плохо.
С каждым годом – все труднее, поскольку с каждым годом все яснее становилось ему, что пишет плохо, пишет не так, не о том, не ради того, ради чего нужно писать. Но вот как, о чем, ради чего? – ответить уже затруднялся. Может, и знал когда-то, но с годами забыл.
Только ведь, согласитесь, когда тебе гораздо за пятьдесят, чем бы ты, человек, ни занимался, ты ведь не скажешь себе с легкостью: «Не тем, не там, мил друг, занимаешься!» Вернее, сказать-то, может, и скажешь, но только ведь не бросишься тотчас исправлять ошибку собственной судьбы! Поздненько…
Потому и Жужиков продолжал что-то такое потихонечку рукоделить, замыслы вынашивать, шуршать карандашиком, хотя и понимал уже без особой жалости к себе, что не о том, не так, никому не нужно то, чем он занимается.
Тих он был уже, скромнехонек. Даже как бы приглушен жизнью. Но не особо даже и печален.
В начальство никогда не лез. (Господи! Даже сама мысль об этом была ему дика!) И ни один, даже самый пронзительный мыслию знаток литературной жизни не сумел бы сказать, с кем Жужиков кучкуется: дружб Антон Павлович ни с кем не водил, а время проживал где угодно, но только не там, где тратили досуг братья его по перу.
Без всякого усилия над собой он всех, писавших и пишущих, почитал талантами гораздо выше себя. Хотя, честно сказать, и писавших и пишущих читал Жужиков ужасно мало. Если уж совсем откровенно, то в последние лет десять он вовсе ничего не читал – ни современников, ни классиков. Классиков-то – в особенности!
Побаивался он их. И в первую голову – Льва Николаевича.
Федора Михайловича трепетал почему-то меньше. Антон Павлович, тезка, был, конечно, тоже яд-человек, но он как-то почти совсем Жужикова не тревожил. Меньше даже, нежели Иван Алексеевич…
Лев Николаевич вгонял Жужикова в непонятную дрожь. На каждой строке так прямо-таки и грозил уязвить, так насквозь и прожигал! «Не писатель, право слово, – думалось иногда Антону Павловичу, – а – прокурор человеческих душ!»
И ужасно странно было теперь вспоминать, что в былые-то времена очень любил он почитывать толстовские сочинения – в те времена, понятно, когда вовсю еще пошевеливались самомнительные мыслишки о собственном (только лишь разворачивающемся) даровании, когда на классиков гляделось не то чтобы вровень, но без особого трепета. Кончились, однако, те времена… Теперь вот, когда – из-за возраста, что ли? – все чаще и чаще стал думать о себе правду, тяжеленько сделалось Жужикову читать великого графа – тяжеленько, тошно да и лень, честно говоря.
Сказать короче – в большом унынии и запустении пребывало дарование Жужикова в описываемый нами период времени.
Давно ничего не писалось, давно ничего не издавалось.
На жизнь Антон Павлович зарабатывал тем, что рецензировал по издательствам рукописи начинающих авторов.
Рукописи ему подбирали самые дремучие, беспросветные. Но вовсе не потому, что к Жужикову было в редакциях какое-то особенно уж зловредное отношение, совсем напротив! Как никто другой, умел он самым угрюмым графоманам ответить ласково и жалостливо, с фельдшерской интонацией: «Голубчик!..» Всегда находил чем ободрить, всегда умудрялся отыскать хоть блесточку, хоть искорку, хоть одно-единственное удачное словечко. Отчего и сам в это время преисполнялся немалого довольства, а обрывок фразочки: «…с щедростью большого таланта, присущей ему…» так с горделивостью и шмыгал туда-сюда в воображении, покуда сочинял он эти милосердные рецензии-подаяния.
В рукописях недостатка не было. Рубликов триста он мог бы выгонять в месяц, не чересчур утруждаясь. Но никогда больше чем на две сотни Антон Павлович работы не набирал.
– Бу́дя! Бу́дя! – восклицал он с веселой паникой в голосе, но немножко и виновато, когда ему пытались всучить что-нибудь еще, эпопеечку, скажем, листов на сорок. – Это я в следующий раз, можно?.. и тут же прибавлял, глядя на всех с милой своей доверительностью: Надо ведь что-то и свое делать, правда?.. Не пишется что-то – хоть стреляйся! – но, кто знает… может, еще не вовсе опустела чернильница, так сказать, моего таланта?.. – и по озорной интонации на хвостике этой фразы должно было предполагать, что конечно же нет, не вовсе опустела, и грешно издательскому люду так уж непроизводительно тратить жужиковский талант, который наверняка еще подарит читателя кое-чем-нибудь из ряда вон выходящим.
С чернильницей, однако, было худо. Писать не хотелось всегда.
С неприязненным удивлением, как что-то почти неправдоподобное, вспоминался иной раз послевоенный Жужиков – тонкошеий прыщавый вьюнош в гимнастерке с чужого плеча, который в желтеньком сумраке вонючей коммунальной кухни, тесно затиснувшись в уголок меж столом и ржаво облупленной раковиной, пристроив на костлявой коленке блокнотик, торопливо и жадно шпарил паршивым карандашом на паршивых листочках чуть ли не по листу за ночь! – словно лихорадочным ветром гоним, в вечном словно бы полуобомлении от похожести того, что появлялось в блокнотике, на то, что печаталось в те годы в книжках и журналах.
Хоть бы словечко осталось от того воспаленного сочинительства!
Ничего не осталось. Одна вот только превосходительная усмешечка – при воспоминании о восторженном жалком парнишке, к которому теперь (вот ведь странность!) он и относился-то не как к самому себе – юному, дорогому, нежно-далекому, а как к сопернику!
Теперь вот писать вовсе не хотелось. Шесть книжек из восьми он сочинил уже без всякого желания писать. И если кто-то когда-то и хвалил, то непременно почему-то какую-нибудь одну из этих шести.
II
Странная история, приключившаяся с нашим героем, началась в тот дивный майский день, когда на дачу к Антону Павловичу – в «кукуевское уединение», как любила называть это Татьяна Ильинична, – ни с того ни с сего заявилась Маняшка, дочь Жужикова.
Слава богу, что не застукала она папеньку ни перед телевизором, глядевшим футбол, ни на диване, сладко почивающим под овчинным тулупом, нежно Жужиковым обожаемым. Увидела – как и подобает детям лицезреть отцов-литераторов – в творческой лаборатории, за рабочим, как говорится, столом, в муках, можно сказать, сотворения изящной словесности.
Ни мук, правда, ни сотворения словесности, тем паче изящной, не было и в помине. За письменный стол Жужиков забрался, чтобы поискать в ящиках старый блокнот.
Ему вдруг померещилось, Жужикову, что в том блокноте вроде бы заметочка есть, внимания достойная. О чем – в этой заметочке, хоть убей, не мог вспомнить. Просто вдруг вспрыгнули откуда-то пред очи Антона Павловича две строчечки с хвостиком! И так они, господи боже, вольготно, напористо, весело начириканы были, те строчечки, так, прямо слово, не побоюсь сказать, по-пушкински! – что с лютой готовностью заныла вдруг боль-зависть в оскуделой жужиковской душе и бросился он тотчас разыскивать по ящикам блокнотик тот и страничку ту – в жадной жалкой надежде: «Быть может, заметочка эта – чем черт не шутит? – и есть то самое, с чего он наконец-то начнет?!»
И вот, болезненно кривя лицо, рылся в занудной бумажной помойке, то и дело испытывая что-то, отчетливо родственное рвотным судорогам, когда волей-неволей приходилось прочитывать все эти тупо-глубокомысленные, постыдно напыщенные «наблюдения», которыми единственно он и пробавлялся в последнее время, пытаясь вызвать в себе уже совсем, пожалуй, зачахнувшее сочинительское настроение души. («Осень. Серый день. Красный лист клена, кувыркаясь, торопится по аллее. Куда?») – и с чем большим отвращением ковырялся Жужиков в этом бумажном хламе, тем прельстительнее представала воображению та блокнотная страничка, сереньким нежным пушком уже слегка поветшавшая, с двумя теми строчечками – ах, как великолепно небрежно! ах, как наискось бегущими! – и уже почти всерьез казалось: «Да! Те строчки – это именно те строчки, с которых он наверняка начнет!!» – и в эту минуту, пренебрежительно кратко стукнув в дверь, появилась Маняшка.
Он взглянул на нее с нескрываемой досадой (даже, кажется, коротенько простонав). Впрочем, – и обычная при виде дочери настороженность, и виноватая, и боязливая одновременно, тотчас набежала на лицо Антона Павловича.
– Не помешала, надеюсь?
Дочь говорила как всегда – с ленцой, с превосходительной усмешечкой. Без интереса промелькнула взглядом по лицу отца, со скукой стала озирать кабинет.
– Не облава, не бойся. Маманя беспокоится, что ты помрешь от недоеда прежде, чем сочинишь очередную эпохалку, потому – прислала провианту… Пойдем. Я буду ло́жить в холодильник, а ты– запоминать, где что.
Дочь с усилием выдавливала из себя слова и все время косилась на портрет Жужикова, как на третьего в доме.
Портрет этот – углем на сером картоне – был создан за банку черной икры в самом Париже, на само́м Монмартре – пять лет назад, когда в составе молодежной делегации по линии «Спутника» Жужиков посещал Францию.
Жужиков на портрете был сам на себя не похож, однако нравился Антону Павловичу очень. И он часто с симпатией вспоминал безвестного монмартрского художника: «…за внешне неброскими… сумел разглядеть… с присущей ему глубиной проникновения…»
В соседстве с дочерью вот уже много лет Жужиков испытывал постоянно тлеющий стыд и ощущение вины. Ему, он заметил, вроде бы даже и боязно было с нею. Боязно, что вот сейчас разомкнет она свои накрашенные уста и начнет говорить все, что думает о нем.
А что именно думает она о нем, увы, тайной для Антона Павловича не было…
…Пять лет назад по случаю полувекового юбилея удостоен был Антон Павлович Жужиков высокой награды – Почетной грамоты секретариата Союза.
В доме стараниями Татьяны Ильиничны, ясное дело, воцарилось ликование. Дружно названивали знакомые, полузнакомые и полузабывшие о нем знакомые. Жена, затеяв гигантскую кулебяку, всех зазывала в гости, и каждому гостю, выбегая в прихожую, с доверительным восторгом в голосе на разные лады декламировала:
– …Вы знаете Антона Павловича как вдумчивого беллетриста, вот уже 30 лет упорно работающего в литературе… —
каждый раз для нового гостя по-новому делая ударение: то на «вдумчивого», то на «30 лет», то на «беллетриста»…
Гости хоть и улыбались, но смотрели на Жужикова неприятными взглядами. А Антон Павлович, кланяясь подобно лакею и благодаря, рдел лицом и сам про себя досадливо постанывал – от позора, от отчетливой непристойности всего происходящего, от изобилия какой-то совсем уж простецкой лжи, которая напористо заполоняла все вокруг.
Мыкался, приветливо и стесненно улыбаясь, по квартире. Присоединялся то к одной, то к другой группке, беседующей в ожидании кулебяки на темы творчества и оплаты творческого труда, – не знал, куда себя приспособить в этой постыдно-праздничной толчее. И вот тогда-то (надо бы сказать, в довершение всего) нечаянно подслушал разговор, который вела его девочка, уединившись с телефоном в комнате.
– …А зачем тебе его имя-отчество? – говорила она кому-то тем особенным, враждебно-обороняющимся тоном, каким она говорила по телефону с ухажерами. – Акакий Акакиевич его имя-отчество! Ага. Акакий Акакиевич Жужиков.
Удивительное чувство испытал он тогда. Не обиделся, не возмутился. Не особо даже опечалился. Просто – мгновенно и очень просто – ему расхотелось жить.
Так что ее правду о себе он знал. Но не «правды» этой он боялся, поверьте, когда боялся: вот-вот сейчас она разомкнет уста и начнет говорить…
(Больше, нежели он сам знал о себе, она сказать вряд ли могла. И больнее ударить, чем ударила пять лет назад, тоже не могла…) Он боялся своего стыда за нее, за дочь, которая судит отца. Он боялся, что стыд этот – в отличие от другого стыда, прирученно и привычно живущего в нем: «Ну, не сумел… ну, не достиг… ну, не вознесся…» – будет чересчур уж разрушительным, убийственным, быть может, для слабенькой его души.
– Ну, пойдем… – послушно согласился Жужиков и полез из-за стола.
Поглядел на блокнотик, который держал в руке. Подумал, что это вроде бы тот самый блокнотик. Но тут же как бы и забыл, ради чего, собственно, он так рьяно разыскивал этот блокнотик.
Дочь пошла вперед, а Жужиков – следом, сразу принявшись привычно дивиться тому, какая она сделалась крупная, его дочь, какая она почти совсем уже чужая ему – совсем уже посторонняя женщина.
Маняшка шла подчеркнуто не торопясь и с подчеркнуто издевательской усмешкой разглядывала все вокруг. Ну, к примеру, как если бы она, чужой человек, собиралась снять на лето, а может даже и купить, их ветхий домишко, который Татьяна Ильинична так глупо и важно обожала именовать «дачей» («…Антон Павлович работает на даче. Он безумно любит Кукуево, там у нас дача…»), и, следуя за дочерью, Жужиков невольным образом повторял ее взгляды и быстрые, обидные испытывал уязвления.
Блеклые, совсем уж обесцвеченные старостью обои были отчаянно треснуты от потолка и до полу, наподобие тощей стойкой кожуры уже картонно отслаивались от стен, приоткрывая коричневато-крупитчатую от клея изнанку… Грязно пестрела из-под них старая газетная бумага, вся в желтых разводах проступившего насквозь клейстера, тоже лопнувшая тут и там, но не сверху вниз, как обои, а горизонтально, – волосяной мелочью трещинок прилежно повторяя щели дощатых стыков… Мохнатые от копоти тенета подводно колыхались по углам потолка, напоминая то дряблые гамаки, полные мусорной мелкой чепухи, то ветхо-изгнивающие рыбацкие сети, то угольно-черные лоскуты без дела болтающейся дрянной кисеи.
Жужиков шел за Маняшкой, оглядывал все вокруг неприязненными глазами дочери, и – странно, но занятие это не лишено было приятности!
Ехидная какая-то услада присутствовала в новой этой недоброй зоркости. Жужиков вдруг даже шевеление некое, несомненно творческое, услышал – где-то там, совсем внутри, в самых глухо окоченелых недрах писательского своего чувствилища! – и, тихонько хихикнув, ужасно возрадовался этому.
Дочь толкнула разбухшую после зимы дверь, тотчас со сварливой готовностью заскрипевшую (Жужиков с гордостью заметил, что именно со «сварливой» готовностью…), они вошли в комнату, и Антон Павлович тотчас же, с новехоньким этим оживлением и здесь радостно принялся перечислять приметы запустения и унылого убожества, которые обычно не замечаемы им были, а сегодня прямо-таки поражали взор: и ржавый потек на обоях в углу потолка, и голую, мухами засиженную лампочку на мохнатом от пыли шнуре, и, конечно же – восхитительно-омерзительно-шелудивый бок высокой печи, весь чешуйчатый от хрупкой коросты осыпающейся побелки, сквозь которую, срамная, желтая, глядела закаменевшая грязь глины.
Он раньше недоумевал, отчего Маняшка так избегает Кукуево, отчего даже жаркими летами предпочитает жить в московской квартире.
А вот сейчас понял (не то чтобы внятно, обстоятельно понял), наугад коснулся домыслом и обжегся вдруг: «Ей противно в этом доме!»
Тотчас и другая догадка – и пострашнее, и поотчаяннее – осенила его: «Не только дом ей противен. Ей, главное, они – родители! – скучны-противны! – вся жизнь, которой они жили и живут!»
В изумлении ужаса взглянул он на дочь свою.
«В каком одиночестве, господи, живет она, бедная! Каким же ненастьем, должно быть, видится ей предстоящая жизнь!» – и опять обожгло: «По моей, конечно же, по моей вине!»
«…Вот о чем написать-то! – смутно и боязливо подумал он, наугад вообразив – не словесными знаками и не картинками, а как бы мимическими гримасами души – что-то до небес грандиозное, круто замешанное на людском сиротстве, на ощущении непреходящей вины всех перед всеми, на отчаянно-острой мольбе всех ко всем о помощи… Главным же в этом эпохальном полотне была, несомненно, какая-то молчаливая свинцово-сизая туча невзгоды, грубо громоздящаяся надо всем, из нутра которой время от времени словно бы доносило угрюмой музыкой – то ли виолончели, то ли контрабасы скорбно скребли смычками, утробно гудели на лохматых низах…
„…Извечная, однако, всегда… тема поколений… – сформулировал Антон Павлович, – …отцов, так сказать, и детей… которую Жужиков решает с присущей ему…“»
Но – таким уж окаянным заунывьем дохнуло на Жужикова от этой картины! Таким она сразу же пригрозила нудным, каторжным измождением души! – что Антон Павлович поспешно (и вполне привычно) прянул прочь с интонацией: «Как же-с! Нашли дурака…» – и с несказанным облегчением весь вдруг обдряб, как шарик, из которого вытек воздух, вздохнул: «Ну и ладушки…» – и поворотился к дочери опять заскучневшим лицом.
Дочь выкладывала из сумки пакеты, кульки, свертки, фунтики.
Жужиков взирал на нее, как из-за пыльного толстого стекла. Ему было жалко чего-то.
«Что ж поделать? – слегка напыжившись, подумал он о себе, чувствуя досадливое, но, впрочем, и быстро уже угасающее смущение от только что происшедшего с ним. – Верность одной, раз и навсегда выбранной теме… которая проходит красной нитью с присущей ему…» —
думал квелыми осоловелыми словами, а там, во глубине души, в самых ее чуланных закоулках тихонько вздыхало, ворочалось, укладывалось и никак не могло улечься – как убогая старушонка на жестком сундучке у городской родни – смиренное сожаление о только что минувшей трескучей минутке вдохновения. (Да, да! Конечно же – вдохновения! Ошибиться было невозможно…)
Считанные разы за последние годы вспыхивали этакие минуты. Казалось, именно их-то он и ждет, томясь и с тоскою бездельничая. И вот явилось, наконец, взбудоражило, а он? А он – не странно ли? – сам и прервал это состояние с поспешной трусливостью.
…Маняшка распахнула холодильник (который смешно и оживленно сразу же заурчал мотором, словно бы в предвкушении) и стала укладывать в него продукты, каждый раз молча показывая отцу, как глухонемому, что – в каждом пакете, свертке или кульке.
«Лень даже и рот разомкнуть…» – обиженно отметил Жужиков. Попытался вспомнить, как ему только что жалко-понятно было дочку, как жалко-понятно было всех на белом свете, но вспоминалось уже смутно, с недоверием, а главное, как никому не нужное.
Он заметил газеты, скрученные рулоном. Забрал их и, хотя ничего, кроме программы телевидения, читать не собирался, с видом деловитости пошел из комнаты.
III
Пухленький конверт выпал из скрутки газет.
Не заметив, Жужиков нечаянно наподдал его ногой. Письмо грузно отлетело к дверям.
С чувством пылкого извинения, с недоумением, но и с жадно вспыхнувшим интересом Жужиков проворно нагнулся. Взял письмо в руки. Взволновался.
Конверт был слишком пухленький, чтобы содержать в себе обычное приглашение на писательское собрание. (Ничего иного он уже давно не получал.)
Попробовал приглядеться, но в комнате было темно, а очки остались в кабинете. И только на террасе, на далекий отлет руки отставив от глаз конверт, сумел прочитать:
«МОСКВА. Жужикову Антону Павловичу – ПИСАТЕЛЮ (лично!)»
Его – будто бы теплым горделивым ветерком овеяло – изнутри.
Писала, похоже, женщина. По тщательному почерку, по тесному многословию обратного адреса он догадался, что это – письмо от читателя. Как ни странно.
«Хех!» – издал Жужиков странный кратко-задорный, не без самодовольства звук. Тычком распахнул дверь и вышагнул на крыльцо, мельком почуяв совершенно неведомую в себе повадку – победительно, как бы сказать, превосходительную.
…А здесь была весна.
А здесь был май, самое его начало.
Снег только-только сошел. И солнце грело уже прилежно, уже проникалось заботливой нежностью к невзрачной этой земле: и к этим жидко оплывшим холмикам грядок, похожим на просевшие от небрежения могилки; и к грязно-окаменелым, еще не очнувшимся к жизни, искривленным скелетам серых яблонь; и к хворостяным кустам смородины, тоже как бы обметанным помертвело-серой патиной зимней скуки и на которых лишь кое-где начинала пестреть микроскопическая зелень прорывающихся почек; и к жирным озерцам отяжеленной желтой воды, смирно стоящим во всякой низинке, в каждом междурядии, в каждой ямке.
Было совсем еще мало радости взгляду. Но уже неудержимо волновалось, но уже порывалось спешить куда-то, обмирало надеждами нутро человеческое!
Тихо было. Но, непрерывный и радостный, все чудился какой-то шум вокруг, шелестение, шорох – творилась весна.
Жужиков, подложив газеты, сидел на ступеньке.
Вот этак-то, наподобие кроткого просителя сидючи – в изножии лестницы, почти у самой земли, на самом как бы донышке мира, – он чувствовал себя на месте.
Сосны дружным строем вплотную подступали к забору, воодушевленно возносились в небеса. Глухо розовеющие (сквозь грязноватое серебро) стволы их образовывали как бы ограду, внутри которой, у подножия которой Жужиков всегда испытывал одно ощущение – спасшегося от погони человека.
«Господи! Какая чепуха все это!» – облегченно вздыхал Антон Павлович, прикрывая глаза и преданно обращаясь лицом к солнцу. «Какая чепуха все это!» – вздыхал с интонацией высвобождения, подразумевая под этим «все» неразличимо многое, но прежде всего – жизнь свою, карикатурную, словно бы и не его собственную, а кем-то для него выдуманную: эту фальшивую личину глубокой задумчивости, которую надо напускать на чело, садясь «работать» – коченеть то есть с карандашиком наготове над листом бумаги, зачем-то вымучивая из себя слова, как можно более ему не свойственные, и испытывая при этом почти мышечные усилия человека, становящегося на цыпочки, – и это назойливое, как нудный недуг, ощущение постоянной несвободы своей, раздражительной спутанности, утесненности, которое не покидало его, кажется, никогда: ни в разговорах так называемых творческих, ни в самом этом «творчестве», которое более всего напоминало жизнь неудачливого серенького паучка, который крохоборски спешит повязать дрянными паутинками-словесами все, что ни заметит его тускленький подслеповатый взор… И эту жгуче-стыдную, однако всякий раз с новой остротой вспыхивающую надежду жалкого побирушки, открывающего по утрам газету и ждущего, что вот сейчас мелькнет и его фамилия и кто-то, вальяжный, красноречивый, начнет, наконец, говорить о нем ту неправду, которую он так алчет; и даже ощущение промаха, застарелое, тупо ноющее в нем всегда (промаха во всем: и в судьбе, и в занятии, которое он выбрал), – даже это ощущение казалось пустяковым вот в эту минутку, когда сидел Антон Павлович на теплой ступенечке, внимая дружелюбной тяжести солнца на лице, и то ли дремал, то ли сладко бодрствовал, вздыхая изредка с отдохновенной отрадой:







